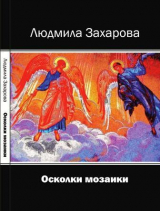
Текст книги "Осколки мозаики"
Автор книги: Людмила Захарова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Мы слишком все это любили, не хотели покинуть восвояси и вот… Давайте уедем, покинем кошмар, вздохнем по-человечески!
– Как можно, помилуйте, не отыграв своей судьбы? Это, пожалуй, главные роли, князь. Вопросы веры, чести…
– Вы безнадежно великолепны в своей участи, графиня.
– Чем безграничнее выбор, тем труднее определиться. А сейчас цепь событий замкнула круг, и я не умею быть другой. А вы? Вы остались зачем?
– Я обещал графу охранить вас, ведь мы были дружны.
– Дружны?! Вряд ли, князь, я поверю в это. Пьеса стара, как и наши безумные роли. Граф умолял уехать, избежать опыта смирения. Но без него какой смысл?
– Декорации неизменны, сударыня, да вот только шпалеры выцветились, свисают лохмотьями иллюзий, о которых предупреждали. О, как я мечтал разделить земную участь!
– Н-да, эта пастушка на шпалерах напоминает мне Матренку. О ком-то заботится ныне, добрая душа?
– О себе, сударыня, о себе, не волнуйтесь.
Князь тяготится воспоминаниями, ноющей болью о прошлом империи, хмурится, не зная, что предпринять. То ли уйти лесами в Петербург, окунуться в серую массу, скрыться в ней, то ли держаться рухнувших устоев. Ждать ли чего, кроме нелепого животного существования. И доколе? Граф утверждал, что так и так погибель, но Алфея… Днем они бродят по выхолощенному дворцу князя, отдалившего их от страшного мира, ночью топят голландку в комнатке под лестницей, единственным окном выходящей во внутренний, снегом занесенный двор, чтобы никто не заметил дыма.
Забыто-знакомые романы поднимают осыпающийся занавес будней. Они разыгрывают веселые водевили, забыв вкус хлеба. Глухо простреливаются дни, равные годам заточения. Они надеются выжить, не сокрушаясь о былом великолепии. Им часто снится западня: тропинка в скалах, ведущий к спасению спуск оизвилисто обрывается над белыми валунами, и можно только смотреть на ожидающий вдали парусник. Появляется граф, супруги молча взирают друг на друга, поражаясь неумолимо растущему меж ними расстоянию: пропасть ширится, преступно манящая западня. Она еще удерживается за странные ветви, вырывающиеся с корнями, а князь не выдерживает – просыпается.
Алфея сидит, подобрав ноги в кресло, смотрит на графа пристально и долго, боясь коснуться своей грезы. Тот, как-то виновато, покосившись мучительно на князя, выдохнул: «Выходили бы вы замуж, княгиня». И, вновь обомлев от обмолвки, отворачивается, исчезает. Она кидается к нему, разрывая ажурную сеть шали, на которую наступила в спешке, падает… Комом нежности в горле растаяла призрачная надежда. Они покинули и это прибежище. Благословение и напутствие батюшки пригодилось. Он успокоил их, что век короток и был прав. Она смирилась и, словно вынужденное счастье было. Робея пред дивной красотой, ее миловали, хотели и пытались помочь, умоляя отречься от титулов.
Ало стелется память-погоня, заглядывая в иные миры. Между небом и землей не найти следов ни графа, ни князя, ни дорогих сердцу людей. Лишь демоны страха коптят небо, никому не позволяя уйти. Все плотнее кольцо давней свиты: разгулялась безумная герцогиня Трагедия, сгубив государыню Надежду и матушку Веру. Княгиня Разлука многим стала лучшей подругой. Мир сатанеет от перевертышей – оборотней. Живо только презрение к опустившим глаза, не помешавшим обману. Боже ж мой, в Питер через три дня подвезли хлеб, но было поздно, ибо жернова сдвинулись. Сумятица душ, алчность безумцев, мягкость нрава самодержца, зависть и междоусобица знати, все вкупе привело к вооруженному октябрьскому перевороту, лет через десять названному великой революцией. Алфея одна. Не отыскать даже просто родственной души. Только старец-Факир еще хранит верность.
– Обезумели, хамы, – вырвалось у княгини, невольно обернувшейся на шорох шин в аллее разоренного парка, где движение запрещено.
Ей не пристало уступать дорогу или предаваться сиюминутной печали, этого не объяснить ни нуворишам, ни вновь испеченным аристократам. Им не понять убогости достижений. Отвратное, пресыщенное существо за рулем иномарки недовольно шаркнуло по кустам, объезжая презрительное шествие, отважно укоряя в гордыне и слащаво рассыпаясь в комплиментах. Багрово-бархатное летнее пальто, перешитое из парадного платья и немного потертое на швах, ей, как и прежде к лицу, все еще пленяет цветом на фоне дорогостоящих нарядов современности. Да, ей теперь часто приходится задумываться и о цене, что было несвойственно прежней жизни. Бывшая, бывшая, бывшая – титулы, обладающие дореволюционным шармом. Нет, это клеймо не пугает. Все как всегда. Только кто это может помнить, понять? Остается только гадать: кто же выжил из своих? Она живет в ожидании, мысленно приглядываясь к людям. Происхождение всегда берет свое, невзирая на время, собственно не существующее.
12. Немой вопрос
Неужели мы были? Неужели мы еще будем? Неужели мы еще должны? Неужели еще можно жить? Остановите, верните время всего на один шаг, одну ступень, где подобное «еще» было допустимо, и открывшаяся дверь не известит нас, не проведет черту (пунктирной линией, по которой следует идти) над пропастью удивленного слова «неужели».
Неужели мы были? Сомнамбула водит всех за нос, овладев нашей сутью, сбегающей вниз от распростертых дверей; дома плутают, переулки бредят высоким небом и простотой прогулок, казавшихся вечными; тень останавливается внезапно и спрашивает у никого: «Уснуть и проснуться?» Эхо повторяет слово в слово, отчаянно долго, так долго, что колокольня, стряхнув воронье, не выдержав пытки, повторяет вопрос так сильно, что стучит в висках. Об этом знает каждый листик, когда-то не замеченный любовниками, всякая травинка, засыхая, твердит ответ. Немыслимо проснуться и…
Предстоит жить, мы обречены. О, сколько мы не сказали! И не стали бы говорить друг другу, ибо недосуг, если б не случилось непоправимое. Неужели мы тратили время на пустые беседы о печали, сейчас далеко уже не черной? Это даже не крушение, а нечто за пределами этих понятий. Упиваясь вином вдохновенным, мы оставили бокалы, не позволили упоению быть беспредельным – губительным для обоих. Это лучше, чем злополучная дверь, где могли бы сказать, тысячу раз прокричать, что Алфеи нет, не было никогда, что витающая здесь тень мерещится многим, познавшим привкус слова «неужели». Призрачные леди находят формы в ваших мыслях, фантазиях, снах. Полчища рабов в пещерах очарования стонут забытые. Безумный Факир покинул пост, не снимая замков. И только в полнолуния, в белых ночах, звонок у этой квартиры раскаляется добела. Вы и сами знаете почему.
– Почему? Почему?! Почему?!!
Почему – что? Неужели вы еще живы? Не дай вам Бог осознать это. Автор уже успел рассмотреть (да-да, там, в углу за шкафом) тайно действующее существо. Щенком нашкодившим забился домовой (ребенок старый), ее так люто невзлюбивший и повинным проводивший взглядом шлейф невольного визита. Но кто же знал, что жив Злодей, и так ли это? Плывет звенящий страх уже исполненной разлуки, вселявшийся в глаза. И зверь ненужный никому познает боль, глумясь в пыли и в паутине. От невозможного прощания уйти, врага оставив не прощенным, достанет сил. А за пределами печали черный цвет дробится гранью на алмазы в мерцании очей закрытых, лишь там позволено бесчувствием остыть, сокрыть слова в фигуре окаменевшей. И пусть отточенный язык фонтаном воду льет в замкнутый круг, в свой круг зловещий.
«Рано или поздно станешь палачом, так не судите».
Не помня себя, ясновидящий палач своей души добрался домой. Он курит, стряхивая пепел в ладонь. У него нет пепельницы. Тоскливо озираясь на окна, Автор проводит по вздыбленным пружинистым волосам, гладит себя, осыпая голову пеплом. Ничего страшного, древние воины так лечили раны, останавливали кровь. Проскользнувший ветерок развеял не пепел, едкая влага застилает исчезающий шепот: «Браво, неужели вы хотели видеть мои слезы? Слезы вдохновения – чернила. Чернила черные на небе голубом».
13. Звонок
Редакция вмиг опустела-растворилась-осеклась-замолкла-сгинула вместе с назойливо задирающимися юбками, показывающими стрелки-дырки-синяки, что выше плотных похотливых колен; корректорские знаки в мятущихся (сминаемых) листах верстки выпорхнули воробушками из ярких когтей хищниц машинописного отдела; рухнули стены, улетучились потолки, хлынуло солнце долгожданное желанное, развеяв сомнения, предчувствия сумасшедших дней-гонок и бессонную каторгу ночей скрипящего пера! Исчезла мысль о заказе факсимильной печати-подписи-даты-сроки-номера. – «Да! Срочно в номер», – последнее, что он сказал, принимая, раздраженно принимая телефонную трубку из чьих-то липких рук. Она! Голос Алфеи, прорвавший восьмерки, коды, блокируемые на прием информации линии, тысячелетнее расстояние, его занятость. Чушь, какая занятость!
– Душа моя, мадам… Мадам, близки вселенные наши, но мы ближе, мы неразделимы. Мадам, я…
– Буду ждать ваших писем.
Не вас, но «ваших писем». Он понял это по нетронутому лаской недрогнувшему голосу, по преднамеренной нежности звука в вознесшей его телефонной трубке в уже оцепеневшей руке. Он бессилен повторить движение Алфеи, изысканным жестом опустившей (может быть, уронившей?) свою руку (уронившей безвольно под чужим взглядом?) и безразлично прервавшей прощальные «целую». Целую вечность целую вас, мадам. Он мгновенно забыл, о чем же они говорили так долго, расплывчато, теряясь в паузах, теряя друг друга на полуслове. О предстоящей ли встрече, которая уже не встреча, а заведомая разлука. Разлука в разлуке, которая не состоится. Что?! Что не состоится?! Я уже вылетаю! Успел или нет? Да, нет же, не мог не сказать! – «Письма? Письмо получила, да-да, а ты?.. Нет. Еще нет, не сейчас. Жду с нетерпением, жду… Лучше на старый адрес, более надежно». (А встреча?) – «Я, да, получил, очень, очень давно, я… Нет-нет, еще можно успеть до отъезда (приезда?). Хорошо, пусть так, потерплю, я… Не навсегда?» – «Навсегда, так будет лучше для всех». – «Недолго, я скоро, милая, я…» – «Да-да, буду ждать. Для писем нет расстояния, расставания, да?.. Да-да, пиши. Буду ждать ваших писем». – «Пишу! Каждую ночь»…
Под короткие бесконечные гудки он повторяет пронизывающие нотки: «Буду ждать ваших писем». Не вас, а ваших писем. Точка. Он проклял свой дар. Ваших писем-сюжетов-рассказов-опусов-романов-поэм-сонетов, новых венков сонетов. Все о вас. Они будут вам к лицу, мадам Буду-ждать-не-вас. Я привык, не удивлен. Нет, я не прощаюсь (поспешное: «Нет-нет, сударь, я не прощаюсь!»). Так скоро, мадам? Так скоро и навсегда? «Да». Мадам, я привык (не убивай меня). Я привык, не удивлен, но «ваших писем», – какой голос. Вам очень больно, мадам Не-вас? Не уходи, не уезжай, не умирай, я («Нет-нет, я та же, пойми!») … Не уезжай, не убивай нас, я… Я сказал, что не удивлен, привык, что я пишу, не исчезай, я… Писем… Ваших писем. Не вас.
14. Богадельня
Два янтарных корпуса утопают в боярышниковых зарослях. Зардевшие листья щедрым вихрем падает в ноги высокой суховатой старушке, любовавшейся осенней роскошью. Она привычно просчитывает этажи, находит свой отворенный балкон и гадает: какой же номер нынче? Если понедельник, то в конце первой серии на ужин черная, прозванная гречной, каша с молоком. А если на обед имели рыбные котлеты, то сегодня не иначе четверг по всей стране и повторение седьмой серии на полдник. Господи, да ведь номер здесь ни при чем. Число какое и день?! Разве надо помнить номера, если устала доживать, а доживаешь в богадельне уж лет десять, никак не меньше. В каюту за кружкой железной и ложкой ноги сами отведут. И они ведут, постукивая третьей – деревянной, по каменистой дорожке, сначала по аллее вековых дубов, затем к березовой опушке, откуда смотрятся сказочно два пяти-палубных корабля, присмиревших в шелестящей гавани последнего приюта, где каждый новый день – поминание, череда будней и будней. Что еще-то делать, прокручивая киноленту потерь? Матрена Сергеевна возвращается к третьей серии: запеканка с кефиром на ужин. Косо уползающие лучи солнца позолотили непривычный силуэт. Она сразу вспомнила багровый бархат, да уж нет позолоты, да уж это не платье, а летнее пальто с пелеринкой, шитой гарусом, да и коротюсенькое, что аж икры видать, и шляпка крохотна с вуалькой траурной, но все одно, узнала!
– Батюшки-светы! Княгинюшка, – всплеснула она руками. Княгиня в ответ улыбается снисходительно, оглядывая Матренку. Голос Алфеи тихий, грустный. Матрена Сергеевна уголком казенного платочка в крапинку промакивает слезу, не веря ни глазам, ни слуху, охает, поминая всех святых. Княгиня смеется над испугом и недоумением состарившейся служанки.
– Ну как вы здесь, не скучаете? Матренушка, да время для меня ничего не значит. Хватит уже чураться меня.
– Да, грех жаловаться. Мы тут уходим помаленьку.
– Ну, полно-полно. Я у вас сестрой милосердия побуду.
Они присели на скамейку, не спугнув воркующих голубей.
– Помилуй Бог, да за что же вас сюда-то, барыня? Что ж князь допустил такое?
– Сгинул князь в тридцатом. Так-то, милая.
– Да-а… граф-то думал, что титул охранит вас. Мне ведь Полинка все рассказала, да поздно. А граф-то наш как убивался, как убивался! Ах, если бы я раньше встретила ее. Если бы знать, где вас искать, найти… Уж он-то и в Москву пробирался, и в имениях искал. Да стра… страсть-то какая, прости Господи. Как же тут не разминуться!
– Как же ты, милая, жила? – Княгиня откинула вуалетку, не тая печали.
– А что я? Я как все. Страху натерпелась. Они на другой же день пришли. Где, да где? Комиссара-то ихнего в ту же ночь уходил кто-то. Сказываю: «Ехали барыня восвояси». Так там один такой пожалел деток малых, отпустил меня, подумал, рехнулась баба на сносях. Я в деревню скорей, по первому льду бегу, под ногами прогибается, трещит на всю округу. Я к Богородице, заступись, молю. А как на берег-от взошла, да и оглянулась, так не след за мной, а полынья стелется, и дом ваш пылат уж. Я не стала дожидаться, а в город скорей, да на Офицерской громят уж, обыск. А про Шпалерную не дознались. Почитай, и детки мои состарились, так там и живут в квартирке, где я спала прежде. А уж в ваших-то комнатах нагородили, напакостили, коммунальщики. Да что говорить-то, Смольный близко, а рядом такое видела, жуть. А Полинку из князева дворца скорехонько выставили, пионерам отдали. Но ничего, сказывали внучата, что театр целехонек, не все растащили. Вкус-мол художественный имели, теперь им сказывают на экскурсиях. Мы с ней уж как вырастили деток, так наладились в Москву, в метро, перед самой-то войной. Боязно, все выпытывали, интересовались графом, князем, вами…
Княгиня прерывисто вдохнула осенней свежести.
– Выходит, что вернулся граф? Возвращался? Вот уж и не мечтала даже.
– Так, голубушка, стало быть. Теперь одна?
– Нет, мальчик у меня растет.
– Дал-то Бог в кои-то веки. А муж кто?
– Просто инженер. Обмишурилась, как видишь.
– Не тужи, всяко бывает. Ну идем-идем, покажу наших, николаевских.
15. Встреча
Промозглые ночи шуршали, как ежики в листве. С конца августа шли дожди, порывистым ветром выстуживая углы. Старики спали, не раздеваясь, поверх одеял укрывшись ворохом газет. И вдруг октябрь одарил последним теплом, запоздалым бабьим летом. В старости, говорят, кровь замирает, притупляется все, но так ли? Почти юное, давно переболевшее, щемит сердце, терзает, словно вчера случилось. А вокруг все те же салатовые стены и серые, в лохмотьях паутины, потолки убогого приюта. Ксения привычно крестится, проснувшись. Творя молитвы, соседка с койки напротив беспрестанно шевелит губами, безропотно приняв свое бессилие, ничего не требуя и никого не замечая. Она знает, что это выход из любого положения.
Счастливы присмиревшие, но, увы, ей неинтересно. Жить, просто жить все было недосуг, всех гнали вперед к светлому будущему, к этим вот стенам богадельни. И никто не виноват, что человек все еще ищет смысл своей поруганной жизни, ищет причину прозябания в отражении зеркала, в познании других, так или иначе замечающих беспокойство. Пронзительная тоска, понятая только этим временем года, созвучна ее думам. Забывчивая строфа путается, наплывая с незабвенными лицами. Утренняя свежесть судорожно вдыхает затхлый контраст комнаты. Ночной иней осел на перилах балкона, забытом стуле, оцинкованном наружном подоконнике. Глубины непредсказуемой небо безоблачно. Опушка леса выставила картинные березки, а внизу багрово раскинулся боярышник.
Наступает день и неудержимое желание отклика. День переполненной чаши одиночества, которое, может быть, скрасит батюшка из дальней церкви. По воскресеньям он приходит причастить уходящих в мир иной, да тех, кто уже давно не выходит даже в столовую. Там, помнится, вместо меню вывешивали программку: кинофильм или концерт пионеров. В каких-то непонятных хлопотах копошится в тумбочках и сумочках терпеливое ожидание гостей. Надежда на забытую радость оживляет лица старушек и редких старичков, ныне принарядившихся, чтобы дети не ругали за неопрятность. Завтрак запаздывает слегка, повара добродушны, медперсонал медлителен. На молодых лицах следы хронического недосыпания, курения, пития. Ничего-ничего, к обеду все умело скроется под гримом. Сестричка, рассеянно улыбаясь, успевает выслушать жалобы, пожурить нахальную соседку, напомнив о Боге и совести. Сидящие в холле на диванах суетливо показывают редким посетителям искомую палату, хором указывают – куда пошла их бабуленька за кипяточком. Вечер у телевизора. Некоторое развлечение, все же, привносят выходные дни.
Вот и новая череда будней, равнозначная просмотру затасканного фильма. Стандартный понедельник: в восемь ноль-ноль резко открывается дверь. Стремительно, с дежурной улыбкой и «добрым утром», медсестра ставит на стол обжигающие металлические миски с пшенной кашей. Четкий стук: раз, два, три. Это будит соседку через тумбочку. Ксения не терпит ее скрипучих «ахов-охов-охо-хох-ов», неряшливого плескания у раковины. На еду летят брызги. Сейчас заорет, что хлеба не дали иль сахару забыли. Но сестра уже далеко, а няня с кофейно-молочной бурдой в чайнике гаркнет или молча ткнет ее руку в блюдце, на что Нюшка, не смутившись, поворчит под нос, да и зачавкает, неприятно царапая ложкой по дну миски. Ксения давно просится перебраться к Матрене Сергеевне, да доктор Славик лишь обещает подобрать двухместную палату. Она оглядывается на окно. Поднимается солнышко, растопив белесый туман в траве. От золоченой россыпи пробежал игольчатый озноб. Оставаться здесь просто безумие!
Застекленная тишина обрывается требовательным стуком, и хриплый голос в исступлении объясняет ей, что «чать не лето, балконы-то расхлебянивать». Назойливая трескотня не находит житейского контакта. Соседка норовит достать клюкой. Дребезжание железных прутьев загородки вливается в тело неприятным током. Невыносимо. Ксения театрально замедленным жестом снимает теплую кружевную шаль, бережно встряхивает и выпускает из рук. Плавно взмахнув краями, оседает она белым флагом на красном фоне, притягивая взор. Нюшка, недоумевая, умолкает для подбора необходимого количества слов. Ксения наклоняется ниже, пытаясь кого-то рассмотреть на тропинке. Нет, не ошиблась. Это она, весьма популярная графиня, слегка истончившаяся от работы в госпитале. Она и сейчас в белом халате, машет Ксении рукой, тоже признала. Обрадовалась, рванулась к ней.
Ватным петрушкой, выброшенным из капризной игры за ненадобностью, нелепо раскинув руки и ноги, проглядывает в зарослях боярышника тело. Розоватая пена сползает по оскалу, похожему на улыбку. Пугливо и зыбко, словно сквозь толщу воды, выплывает солнечный зайчик, а вот еще один золотистый овал. Светящиеся пятна обретают контуры и плоть, склоняются к ней. Господи, как похожи муж и сын! Господи, так все просто. Разве могли они разминуться? Долгие годы они ждали ее здесь – под стекленеющим небом.
16. Бывшая из бывших
«Дураки» обходятся дорого. И ты знала это, – произнес муж недоверчиво и зло, – Ты не могла не знать этого», – звучало оправданием к молчанию.
Алфея вспомнила первый вздох (вдох-глоток) после обрушившейся волны гнева и свой уходящий шепот: «дур-р-рак» – в доме, где не было места простому, слишком простому слову. Идеальный брак рухнул, оставив ворох бумаг, требующих его подписи, ожидание которой оказалось прочнее прочих уз. Они встречались – продолжали встречаться, вынужденно перелистывая годы, обраставшие новыми строками, не имеющими смысла. Муж верил и ждал, ибо всему свой срок. Она успокоилась, имела некоторый успех, трудный и прочный, но все ее начинания не могли получить полноту воплощения. Полнота власти, он отказал ей в этом. И был наказан. Узкие рамки реальной свободы удерживали стихию гнева, от которой она научилась отступать на безмятежное расстояние, храня в аккуратной папке неподписанный лист, проекты, планы, наброски уже только ее жизни. Она не умела опаздывать. Точно в условленный день и час, открывала дверь своим ключом, находила скучающие вещи на прежних местах. Казалось, что двое, сидящие за вечерним чаем, будут здесь всегда, ничто их не погубит. Она прекрасно холодна, он мудро весел: идеальная пара. В безразличие улыбки вселяется надежда, утонченный дымок плохо погашенной сигареты, но его вопросительный взгляд вновь не принят, как повелось. Она уходит много лет.
И вдруг он сам позвонил: «Да, ей нужно прийти, да, когда ей будет удобно. Да. Не против». Стынет чай, острый ноготок отмечает без волнения место для подписи.
– Еще здесь, так, хорошо. Спасибо, нет.
– Ничего не забыла?
– Да, нет. Ах, да, чай…
Безликая надежда тревожно всматривается в лица. Он мудр, она почти весела.
– Ты не куришь?
– Нет. Да. Не хочу, пора.
– Как? Ты уйдешь?
Удивление и молчание. Документы аккуратно складываются, но вихрь восторга и гнева закружил, опасная пара. Он не верит. Алфея поправляет шляпу, опуская вуалетку, лаконично замечает: «Было бы из-за чего расстраиваться». Под звон бьющейся посуды мягко щелкнул замок.
Ожидание убивает смысл ожидаемого. Не раздеваясь, она прошла к рабочему столу, чтобы не согласиться с назойливой мыслью. Свет настольной лампы усугубил холодность кабинета. Долгожданная подпись на месте. Проверила все, все в порядке. Сложила листы вместе и наотмашь хлопнула ими об стол, разметав отточенные карандаши. В ярости, срывая шляпку, теряя туфли, запуталась в шали и пуговицах, пытаясь освободиться, бессильно крича в темные углы. Опрокинутый стул отбросил ее лицом в кресло, ногти впивались в мягкие подлокотники, не в силах поднять с колен. Она так и не научилась плакать. Фиолетовыми чернилами залиты неуютные стекла окон. Надо опустить шторы, зажечь свет. Сигареты в сумочке на столе…
Несчастные бумаги, их следовало сразу подписать. Развод был недопустим, и он знал это. Фонари подсвечивают летнюю зелень. Внезапно промчался автобус, сверкающий инеем, с крышей белой от снега. Сумеречное состояние, знакомое многим, в век меняющий обличья. Многообразие утомляет. Алфея отчаянно торопилась забыть, но ему не хватило духа оставить ее, не доказывая очевидного, о чем он никогда не говорил и не сказал бы в браке. Отныне он будет приходить, не считаясь с ее мыслями, не замечая того, что она уже не одна и не думает ждать его. Мороз пробежал по коже, пронизывая ночной свежестью Алфею, замершую у открытого окна. Она забывает стряхивать пепел… Это будет сниться вечность, ибо прикоснувшись к божественной тайне любви, умирают сразу или мучительно долго – всю оставшуюся жизнь, вздрагивая от единственного жеста, повторенного кем-то, от приметы, внезапно настигающей. Сохранившие таинство спят сладко, оберегая дом и покой, просыпаются цепко знающими свое дело. Неопаленные плутают в диких зарослях отношений, не ведая о грехе. И ей оставалось принять случившееся и смириться с тем, что случайно не сложилось в чудную картину.
17. Призраки
В поздних сумерках и на высоком берегу она не успевает заметить подозрительную обстановку. Он строит недосягаемые скользкие пирамиды, призывая подняться и проверить. Его речи – монотонные исповеди излишней скорби и ненужной – надоедали, смешили. Но иногда она соглашалась вслух, дабы укротить поток, в котором корабли продолжали тонуть (а причина тому предательство), брала руку, разглядывая линии: его и свои. Он умолкал в ожидании ответа, не очень уверенный в силе доказательств, приводил соглядатаев, друзей и чужих, знавших якобы нечто. Появлялись признаки реальности, призванные подтвердить душевные излияния. Они бродили в полнолуние, небесные мелодии кружили в отныне нередких вальсах, прерываемых поцелуями. Однажды он пренебрег терпением, укорял и, обвинив во всех грехах, представил аргумент – ее второго мужа, с которым уже удалось развестись. Она потрудилась, чтобы более не встретить его пытливый, горящий здравомыслием взор – взор обреченного любить безответно. Возникнув, второй бывший не проронил ни слова, но уйти не мог, завидев ее. Она опрометчиво, не желая того, выплеснула свои, так тщательно скрываемые, эмоции: «Да, я действительно причастна ко всему! И даже к происходящему сейчас. Но я не лгала никогда. И всегда есть люди, которым не следует знать ничего, ибо они посторонние».
Она поспешила увести его из дома-лабиринта, насыщенного житейскими, неотвязными призраками, подальше, на неслышимое расстояние от светящихся окон. Привыкнув к темноте, они обнаружили в саду яблоню, приникшую к земле. Алфея опустилась на ствол, закурила, мысленно выстраивая ответ, который мог бы прекратить невольные визиты. Надеясь избежать ошибки, боясь утонуть в глазах полных слез, прижалась к плечу. С детской злобой и виноватостью он уткнулся в шелковые складки юбки, подобранной на колени. Ее задрожавшая рука запуталась в волосах, было не совсем удобно, курить хотелось молча...
Как повелось у графа Возлюбленного, он явился без зова, но на сей раз не застал. Не вникая в злые взгляды смазливых служанок, прошел в кабинет. Осторожно, затем удобней, сел в кресло у остывшего камина. Пустынно и тихо. Из разбросанных на столе папок выехали рукописи, связки книг пылились в свободном углу. Он излучал величие до тех пор, пока не увидел хвостик, выглядывающий из бумажной кипы, который нервно поводил из стороны в сторону, словно мог принадлежать недовольному коту, но по виду напоминал о ящерице, готовой расстаться с ним в миг опасности. Желание выдернуть и распознать явление разом покинуло графа, он съежился, почувствовав, что утопает в огромном кресле красного шелка, с мягко выстеганными валиками, причудливо выгибающимися со всех сторон, как морская раковина, вздымающимися при попытке встать. Его обратили в мальчика, забытого мамой, которая не найдет его, жалкого в стремлении не заплакать. Он очнулся от дремоты, она еще не возвращалась. Он вздрогнул от ужаса, осознавая: Алфея не вернется.
И вновь память с кошачьей повадкой крадется в забрезживший сон, уже не пугаясь – не увлекаясь созерцаньем ящеровидных слов, утерянных ею. В душе он не мог простить неприятное состояние, заслышав, что спокойно поскрипывает перо, сквозь кружева манжет разглядел чернильную кляксу на умиляющем запястье. Он знал: не простит свой страх возлюбленной, ушедшей в сочинительство. Граф нарочито наступил на ящерку, мгновенно юркнувшую в холодный камин, отбросив на ковер свидетельство о явных недостатках романа, в которых не признаются никому.
Он повертел на свету хвостик воспоминаний, недоумевая, зачем он приходит сюда, не хочет забыть ее даже во сне. «Бывшая, бывшие-бывшие, бывший», – закуривая и отгоняя сон среди ночи.
18. Очарованный игрок
Едва я вошел в палату (легкомысленней атмосферы я еще не ощущал), меня поразила эффектная возлежавшая дева – именно возлежавшая. Я зашел в клинику проведать хохотушку Ольгу. Наверно, я шутливо знакомился и сразу приставил стул к постели незнакомки (в ногах ея). Безразличная маска, только страницы перестали шелестеть в книге, устроенной на коленях. Заметила! Дверь отворилась: глаза полные тревоги, выхватили ее из пятиместной палаты. Стройный мальчик, в волнении снимая очки, кинулся к ней, шепча тысячи неведомых имен и ненужных глупостей, приостановленных вошедшими. Гости, которые не забыли поздороваться, заполонили свободные склянки цветами – яркими брызгами на фоне серых стен; а меня попросили пересесть к той – к кому пришел. Их насмешливые диагнозы и знание дела выдавали медиков, что успокоило парня. Выражение радости я бы назвал – позволением убрать книгу и держать тонкую смуглую кисть, выглянувшую из глубины манжеты. Они подняли, взбили подушки и в (до талии!) вырез халата хлынули кружева, кружева, кружева. В них можно утонуть, даже так дивно выгибая спинку и шею, выискивая удобное положение для высоко подобранных, замысловато скрученных на затылке, волос. Я прислушивался к беседе, насыщенной осторожными взглядами в сторону, как оказалось, мужа, но не был уверен, что это о ней, так безнаказанно укатившей в безрассудный круиз без него. Но он «рад, что нашлась, да-да, позаботится, очень рад, не страшно, да, в мягкой форме, да, зачем, нет-нет, сообщил».
Холеные пальчики с выточенными острыми ногтями (весьма опасны, н-да), персиковая кожа, капризная чувственность губ, да разве можно выглядеть еще лучше? Ничто не подтверждает тех мук, о которых они говорят: «Нет, здесь нет. Не смогли найти. Заменители не действуют. – Ночью? – Перестаньте шутить. – Ах, оставьте».
Подруга годилась ей в матери, а спутник – личным врачом и другом первой семьи. Услышанное поражало воображение загадочным несоответствием. Я уходил под впечатлением, брел бульваром, словно искал дорогу домой. «До завтра» – я сказал ей, а не Ольге. Завтра. Завтра я приду раньше! В конце аллеи (такое случается только в конце аллеи, да и где же еще!) я угадал силуэт в долгих шелках, ринулся за ней и замер. Этого просто не может быть! Неизвестно зачем, но она осталась там, в палате! Умные мысли исчезли вслед за ней.
Я ежедневно навещал веселую палату, где загорелые девочки лечили послеотпускные недоразумения, возникшие от перемены климата. Наши, чаще шумные, встречи прерывались появлением родственников, не придававших мне никакого значения. Как-то я пил с нею чай. То есть она заварила крепкий чай для всех притворяющихся, и была несколько оживленнее, чем всегда. Короткое замыкание: наши руки встретились нечаянно, одновременно потянувшись за сахаром. Мы не расставались ни на миг: и днем, и ночью мы были ненасытны, мы были неутомимы. Пленяющая игра полужестов, недосказанных взглядов, мы могли говорить до умопомрачения. – «Чем безграничней выбор, тем бесконечней одиночество». – Я не ответил, я не был согласен и не спешил догонять. В прозрачном зонтике лениво кружилось солнце. И все-таки она уходила, а мне казалось, что идет навстречу в конце аллеи. Это увлекало, но было глупо. Я не тот юнец, я не простил бы…








