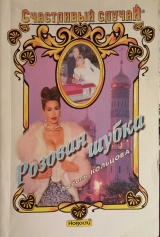
Текст книги "Розовая шубка"
Автор книги: Любовь Кольцова
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Как-то в начале декабря Оле показалось… нет, чепуха, этого не может быть!.. ей показалось, что Дима где-то рядом. Недоверчиво улыбнувшись, она набрала номер его телефона.
– Алло, – ответил мужской простуженный голос.
Оля тихонько положила трубку. Не Дима. А это был Гоша, посланец от Димы, «друг и брат». Оля ощутила его присутствие.
Под Новый год Тарас Никоненко прислал с проводником поезда большую коробку с фруктами, медом и лучшими крымскими соками. В марте собирался явиться и сам, чтобы стать Оле надежной опорой накануне главных событий.
А двадцать пятого января она увидела передачу с Новой Земли. Там, в темноте полярной ночи, под вспышки осветительных ракет шли военные учения. Ей показалось, что она видела Диму, он бежал прямо на танк, упал между гусениц, и обмерзшая махина стальной брони накрыла его собою… Оля вскрикнула. Пока братья неумело вызывали «Скорую помощь» и звонили на работу матери, пока машина добиралась в их дальний район, родившийся ребенок возвестил о себе оглушительным криком. Семимесячный мальчишка орал так, что видавшая виды Анна Николаевна рассмеялась, несмотря на пережитое потрясение.
– Мои дети тоже рождались здоровыми, но такого я еще не слыхала.
Подоспевшие врачи с удовольствием подтвердили ее слова. Малыш был вне опасности. Несмотря на недоношенность, вес его равнялся благополучной норме, глаза смотрели прямо, твердо следили за игрушкой, а обхват пальчиками был крепок, как у обезьянки. Молодую мать и ребенка оставили дома на попечение семьи.
На Олю сошло блаженство, знакомое только женщинам. Велика гора, да забывчива, гласит пословица. Сыночек! Вылитый отец! Отец!.. Набрав осторожненько знакомый номер, она не услышала плохого в голосе его матери. Она ошиблась по телевизору, у Димы все благополучно. Если бы он знал!
Дня через три Анна Николаевна осторожно присела на постель дочери.
– Оленька! Мальчику пора дать имя, крестить, прописывать в квартире. Пусть у него будет наша фамилия, но он вправе иметь свой род со стороны отца. Кто он? Раскрой секрет.
– Это мой ребенок и больше ничей.
– Так не бывает.
– Бывает. Я же не знаю своего отца, – тихо проговорила Оля.
Анна Николаевна молча опустила глаза. Ребенок спал возле Олиной подушки, ручки его в зашитых рукавах теплой цветастой распашонки были закинуты вверх, по обе стороны головы, как любят спать все здоровые дети. Он быстро набирал вес, был подвижен и силен.
– Ты права, мама, извини меня, – вздохнула Оля. – Его отец Дмитрий Соколов, мой одноклассник.
– А-а, – протянула мать. – Тот, что служит на Севере? Ты его любишь?
– Да.
– Сообщишь ему?
– Ни за что.
– А вдруг он обрадуется? Сын ведь!
– Мама, прошу тебя…
Мать сделала вид, что отступилась.
После студенческих каникул, день в день, Оля пришла на курсы. До апреля оставалось два с половиной месяца, ей хотелось закончить обучение. На четыре часа в день с ребенком оставалась няня, пожилая добрая женщина, соседка по дому. Олю встретили поздравлениями. Светловолосая, мягко-стройная, с нежной и свежей, как сливки, кожей, она с каждым днем становилась все привлекательнее. Однокашники было насторожились, но отступились, не подступив.
– С такими не гуляют, на таких женятся.
В первое же утро, как только дочь ушла, Анна Николаевна выдвинула ящик письменного стола, где лежали ее тетради. Адрес Димы был написан на одном из листков, которые Ленка раздавала всем подряд, кого ни встретит. Письмо у Анюты было готово уже давно. Она заклеила его в конверт и для верности отнесла прямо на почту. Незачем повторять ошибки молодости, мальчику нужен отец, мало ли что случится в жизни! Дмитрий Соколов будет хорошим отцом, хотя еще и не знает об этом, а как общественнице ей было известно, что их семью уважают, а по отцу и сыну честь, а родная кровь не шутка… и так далее, многое, многое, что думалось Анюте в приложении к отправленному письму.
Никто и никогда не получает в армии много писем. Раз в неделю пишет мать, раз в месяц какой-нибудь друг, еще реже подруга, если это не жена.
Дни шли, похожие один на другой: строевая подготовка, стрельбы, учения. Армия! Впрочем, Дима уже не скучал на службе. Он стал незаменимым человеком в своей воинской части, ему удавались такие поручения, поездки, каких не смог бы исполнить никто, кроме него, ефрейтора Дмитрия Соколова, своего в доску парня. Он научился неслышно ходить, хранить молчание там, где необходимо, ему были известны такие вещи, за которые дорого дало бы начальство. Он освоил приемы десантника, выполнил норму, имел право на краповый берет. Он стал взрослым мужчиной, знающим разные стороны жизни. Казалось, уже ничто не может ни удивить его, ни поставить в тупик.
В середине февраля он получил письмо из Москвы. Он уже не ждал весточки от Марианны, знал, что у нее экзамены, каникулы, какой-то гобелен, и вообще ей не до него, и что отвечала она, как и договаривались, из милосердия, чтобы не обижать «солдатика». И почти бросил ей писать, так, лишь иногда, по настроению. У него даже закрутился роман с бойкой молодой связисткой из Тамбова. Солдат всегда солдат. На родине у связистки была семья, но муж не работал, она приезжала на месяц через месяц, третий год подряд, и, конечно, Дима был не первым в череде ее временных возлюбленных.
Конверт из Москвы был подписан незнакомым почерком. Полагая, что это вспомнил о нем какой-нибудь кореш, Дима небрежно вскрыл и стал читать.
«Дорогой Дима! Пишет Вам мать Оли Красновой. Она запретила вам сообщать, не хочет, чтобы вы знали о ее делах. Дима, у нее от вас родился сын, здоровенький мальчик. Родился он двадцать пятого января раньше срока, семи месяцев. Он подвижный, уже улыбается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Похож на вас. Но вы не расстраивайтесь, мы воспитаем его в своей семье, от вас просить ничего не будем. Только сами знайте, что у вас растет сын. С уважением к вам, Анна Краснова».
Дима опустил руку с письмом. И застыл, не зная, что и думать.
– Что сидишь, будто пыльным мешком шарахнули? – спросил Витька, второй армейский друг.
Тот протянул ему письмо. Прочитав его, Витька присвиснул.
– Поздравляю. Не верь ни одному слову. И вообще не отвечай, отсюда все равно не разберешься. Твой, не твой… издалека не видно.
– Не видно, – согласился Дима.
– Хорошенькая хоть?
– Да так… худая, белобрысая.
– «Ромашка», одним словом. Эти самые вредные. Теперь держись. Доставать тебя будут, в натуре, грузить на полную катушку, через начальство, штаб, хоть Минобороны. Ха-ха-ха! Не завидую.
Молча поднявшись, Дима вышел из казармы, стал смотреть на серый восток. Витька прав. Ответа на письмо не будет.
4
После зимней сессии и Татьяниного дня начались студенческие каникулы. Марианна, подхватив лыжи, укатила в Подмосковье, в дом отдыха, по бесплатной путевке, которой ее поощрили как отличницу. На две недели здесь собрались студенты из многих вузов, веселый горластый народ, только что переживший экзамены. Это был нескончаемый праздник! Застолья, дискотеки, объятия-поцелуи, крутые фильмы, песни, гитары… и заснеженный тихий лес, холмы и лыжня-лыжня, чистая, шелковистая, извивами бегущая между деревьев.
Две недели мелькнули, как единый белый день. В последнее утро, до завтрака, она встала на лыжи и побежала в лес в полном одиночестве.
Февральский денек едва развиднялся. Воздух был крепок, как деревенская простокваша. Снег пышно устилал подножие, пеньки, пригнувшиеся ветви кустов, лежал на сумрачных еловых лапах. После длинного, с ветерком, спуска к мостику через незамерзающий ручей с его живыми прозрачными струями, цветными камешками русла и даже зелеными травинками под тонким прибрежным льдом начался подъем из оврага на открытое место.
Над равниной стелились облака. Их туманная череда, идущая на удивление ровно от земли, видна была далеко-далеко над заснеженными холмами. Марианна толкнулась палками и понеслась вниз по склону. Ветер бил в лицо, приходилось пружинить и приседать, почти взлетать на неровностях длинного спуска. Скорость и радость вошли в нее. Внизу она остановилась. Опершись на палки, оглянулась вокруг, снизу вверх. И вдруг поняла их, эти холмы, сугробы, облака, поняла в один миг…
По возвращении домой сразу приступила к новой работе.
Через несколько дней в коридоре Академии ее остановила Инга.
– Выглядишь на загляденье, Марианна! Вот что значит отдых! Расцвела, как роза.
– К вам это относится больше, чем ко мне, Инга.
– Спасибо. Умеешь приятно ответить. Слушай внимательно. Есть одна возможность. – Инга взяла ее под руку и отвела по коридору к дальнему окну. – В начале марта в Лейпциге намечается выставка художественно-прикладных студенческих работ со всей Европы. Мы приглашены. У тебя есть свежая идея для гобелена?
Марианна кивнула.
– Вроде бы…
– Когда покажешь?
– Завтра.
– Давай. А я помогу подготовить материал. Уверена, что в Германию поедешь именно ты.
То, что принесла Марианна на другой день, заставило Ингу смотреть, не отрываясь. В пятнах белого, зеленого, синего, розового цветов, словно изнутри освещенных золотистым светом, угадывались отблески зари, очертания холмов, заснеженных деревьев, пятна сливались, расходились, мерцали и грели. Глубинное ликование жизни, внятное любой душе, ликование не младенческое, но мудрое, отстрадавшее, струилось на зрителя как откровение.
– Да… – Инга отошла на несколько шагов от акварели, посмотрела глазом через сжатую трубочкой ладонь и развела руками. – Я предсказываю большой успех. Как это называется?
– «Радость».
– Точно в яблочко.
Они рассчитали наилучший размер будущего изделия, заказали рамку. Составили опись необходимых цветов и оттенков. Их получилось более ста пятидесяти, поэтому крашением пришлось заниматься несколько дней. Основу натянули частую, нить утка выбрали тонкую, чтобы все переливы света, все изгибы линий попали на живописное полотно. Для золотистости и румяности расплели на паутинки цветной скрученный люрекс, и чуть заметными искринками вручную добавили к шелкам.
Подготовка закончилась.
Марианна работала дома. Инга приезжала ежедневно, следила за каждым рядом плетения. Она привезла две финские лампы дневного света для ранних зимних сумерек, ввела новшества в крепление изнанки, подсказывала множество тонкостей, известных лишь мастерам. Словно две пряхи, они пели песни, судачили совсем по-бабьи, подбирая клубочки за клубочками, набивая ряд за рядком, виток за витком.
– Познакомилась я с твоим Нестором, дорогая, Миша привез его в Академию, помнишь? – небрежно проговорила Инга как-то днем. – У тебя хороший вкус. Он и в самом деле далеко незауряден, но это прирожденный бобыль. К тому же софист, философ! А? Как на твой взгляд?
Марианна пожала плечами. После знакомства с Гошей и его мечтами ей подумалось, что, подобно опустившейся в океан древней Атлантиде, любовь ее к Нестору тоже исчезла в неизведанной пучине, а сам Нестор словно замкнул ее уста. Ни слова.
От Инги же, как от стенки горох, давно отскочили порывы наигранной страсти, она освежилась в них, встряхнулась, как утка, научилась кое-чему в порядке… обмена опытом. Жизнь – не чемпионат мира, новое поражение приближает новое торжество, а то, в свою очередь, новую авантюру, и так до бесконечности. Главное, что Миша всегда рад ей, что он умнее дешевых обстоятельств. Все о’кей.
– К тому же, – продолжала она, отрезая бирюзовую нить длиной от кисти до локтя и обратно, – года через два-три Нестор постареет, потеряет шарм и перестанет нравиться женщинам. Зато уж ты будешь в самом расцвете. Придет твой звездный час!
– Придет так придет, – усмехнулась Марианна, вслушиваясь, как тонко отзывается имя «Нестор» в ее сердце.
– Но кто-то должен быть непременно. – Инга подала короткий отрезок бледно-зеленого скрученного шелка. – Сердечные дела запускать нельзя, иначе потеряешь форму. Поверь мне.
Марианна засмеялась.
– Охотно верю. Ой, наши нитки! Брысь, брысь! – и бросилась отнимать клубочек у кошки. – Так и норовит заиграть под диван. Попробуй-ка достань потом. Инга, вы не устали сидеть в кресле? Пошли на лыжах! У нас тут зайцы бегают, честное слово!
– А волки?
– И волки тоже.
– Да я на каблуках.
– Наденьте мамины лыжные ботинки.
Они и вправду выбежали на улицу, помчались по лыжне от «Старта» до «Финиша», разогрелись, принялись разминаться, наклоны-повороты-приседания, кидать снежки в шершавый ствол сосны, с правой и левой руки на точность. Наигрались и направились медленным скользящим шагом домой вдоль дороги, обе румяные, красивые, разные.
Вдруг в женщине, шедшей навстречу с детской коляской, Марианна узнала Олю.
– Оля! Поздравляю! Кого Бог послал?
– Сына.
– Пусть растет здоровенький.
– Спасибо, – мягко поблагодарила та и вдруг добавила, словно извиняясь за то, что личико ребенка прикрыто кружевным покрывалом. – Он у меня семимесячный.
– Да? – ответила Марианна, не зная, что говорить.
Выручила Инга.
– Семимесячные дети до ста лет живут, – заметила она. – Как Уинстон Черчилль, самый знаменитый англичанин двадцатого века. Он вообще на балу родился, на ворохе шуб. А прожил девяносто шесть лет.
– Спасибо на добром слове, – улыбнулась Оля.
Вернувшись домой, они вновь принялись за дела. Марианна включила тихую музыку. Встреча с Олей не шла из головы.
– Моя ровесница, самая тихая в классе, а уже родила. Никого не стала ждать, родила сыночка и живет себе дальше. Похорошела, женственная стала.
– Это не твой путь, Марианна.
– Не мой. Но обдумать не вредно.
– Тебе нужен мужчина под тридцать. Умный, богатый. Чтобы понимал тебя, любил без памяти. И ты бы любила.
– Такие давно женаты, Инга. Где их взять?
– Для тебя найдется. Войны нет, мужчин много, на наш век хватит и останется. Если уж Нестор не женат… Кстати! – Инга сняла сумочку со спинки стула и бросила на стол пачку цветных фотографий. – Возьми одну на память. Миша снимал.
Нестор был снят в своей мастерской, на фоне окна и пестрой занавески. Видны были и серая птица за прутяной стенкой, и альбомы, банки с кистями на подоконнике. Опершись на мольберт, стройный, легкий, недостижимый, Нестор улыбался, внимательно глядя серыми глазами. Марианна вновь вслушалась в себя. Тишина. Хрупкая, как первый ледок.
Инга наблюдала за ней. Что за тончайшее выражение лица! И как просветлело оно в горниле любви!
– А знаешь ли, – произнесла она с уверенностью, – встреть ты его сейчас, он был бы твой. Честное слово! Ты очень изменилась. Ты на редкость быстро учишься.
– Приятно слышать, – с грустью усмехнулась Марианна.
Гобелен был окончен двадцать четвертого февраля. Шума в Академии он наделал громкого. В конференц-зал, где его выставили на два дня, ходили толпой все курсы. Потом его упаковали и повезли в комиссию Европейской студенческой выставки. Вызов пришел незамедлительно. Марианна Волошина приглашалась в Лейпциг.
Лейпциг, Лейпциг. Старинные, средневековые городские кварталы с тесными мощеными улочками, приземистыми крепкими домами, украшенными каменной резьбой и лепниной в виде гирлянд, венков, зверей и скульптурных изваяний, с фигурными окнами, то стрельчатыми, то округлыми, то с провисающей, будто искусно обработанный сталактит, серединой, затейливо забранными решетками, отлитыми, должно быть, в те же века и начищенными, словно для праздника; и современный европейский Лейпциг, высотный, воздушный, светлый, с фонтанами, цветочными клумбами и цветочными балконами, веселыми и яркими уже в марте, город необыкновенно опрятный, удобный, с цветными узорами под ногами из мелкой, тщательно уложенной плитки.
Из России на выставке были трое: две девушки, Марианна из Москвы и Настя из Самары, и молодой человек из махачкалинского университета Магомед Насрулаев. Он привез на выставку кинжал с древнекавказским рисунком на сверкающем лезвии, в ножнах, богато украшенных традиционной насечкой, каменьями и эмалью. Девушек поселили в номере на пятом этаже среди зеркал, ковров и гобеленов во всю стену с изображением королевской охоты. Изучив его с лица и с изнанки, Марианна осталась довольна этим образцом раннебарочного искусства.
Мастерство Насти было необычным. Свои картинки она пекла. На холсте, в рамочке изображалось, к примеру, застолье старинной русской свадьбы. Тут и стол, полный яств и напитков, и румяные молодые, и родители, озабоченные приданым, и усатый свадебный генерал, пьяные гости, шельмоватые слуги… все прорисовано до мелочей, даже кошечка на полу, канареечка в клеточке, бальзаминчик на окне с цветастой занавесочкой, даже чьи-то сапоги уже под столом, но лица, лица героев, выпуклые бляшки размерами с мелкую монетку, и кисти рук были выпечены из теста, раскрашены и наклеены на свои места. Вот, словно в рассказе Гоголя, голова, похожая на редьку хвостом вверх, а вот редька хвостом вниз… Ткани одежд, обоев, скатерти были настоящими, а вся утварь, обстановка написаны красками, но живопись и материя, да печеные из теста лица так живо и смешно сочетались в картине, что глаз не оторвешь! А между тем сколько труда! Были у Насти и другие изображения, на которые невозможно было смотреть без смеха: «Государственная Дума», «Рынок», «Охотники на привале».
– Ах, Настя, что за прелесть! – смеялась Марианна. – Ну как можно это придумать?
– Ничего особенного, простая забава. Вот твой гобелен это да. Как можно это сделать?
Выставка открылась торжественно. Перед входом в городскую библиотеку, где помещался зал, развевались на длинных шестах десятка два государственных флагов стран-участниц, студентов поздравили «отцы города», играла музыка. Посетители хлынули толпой.
– Марианна, – окликнула Настя.
Она подошла с Магомедом, красивым и усатым, в национальной одежде с золотыми галунами. Многие здесь были в народных одеждах, немецких, французских, итальянских, и наши девушки вздохнули, что не пошили хотя бы сарафаны. Так просто, а не догадались! Или русский народ настолько углублен в себя, что не озабочен возможностью покрасоваться перед другими?
– Предлагаю отметить событие стаканом легкого вина, – предложил Магомед.
Настя засмеялась.
– Он привез бочонок литра на четыре. – Она показала руками нечто округлое. – Со своих виноградников. Пойдем, пойдем!
– Приглашаю вас, Марианна, не обижайте! Меня собирали в дорогу пять аулов, за всех надо поднять бокал.
– Потом, позже, – улыбнулась та.
Они ушли.
Смотреть на европейскую публику, на выражение лиц, неуловимо отличное от привычно московского, было поучительно. Словно бы люди эти знали что-то, неизвестное ей, были непонятны и отчуждены поэтому, хотя общечеловеческие движения души прочитывались ясно. В их внешности и улыбках присутствовала доброжелательность, которой хотелось довериться, но что-то мешало.
«Могла бы я полюбить иностранца? – думалось Марианне. – Вот того, в клетчатом пиджаке? Или того, с курительной трубкой в кармане? Или спортивного блондина? Любовь, любовь… о чем это я? Глупая маленькая девчонка. Нашла о чем думать в середине Европы!»
Зал был просторный, с нишами, удобными для экспонатов, со светлыми стенами и дорогим наборным паркетом, с высокими недосягаемыми окнами, которые словно дымились за белослоистыми занавесями, струившими ровный свет без теней.
Гобелен Марианны висел в почетном одиночестве на матовой стене в пустом углублении, словно приглашая зрителей к созерцанию без лишних помех. Поверху были привинчены две мелкие лампочки с непрозрачными чашечками-абажурами, их лучи, закрытые от глаз, подсвечивали краски и золотистое сияние нитей. Табличка с именем автора и названием была написана по-немецки, но у нижней кромки стояла и прежняя надпись «Радость». Увидев тканый цветной перелив, люди сначала всматривались в него, давая впечатлению самому найти слово, и лишь после этого прочитывали табличку. Затем кое-кто усаживался на зеленую бархатную скамеечку и задумчиво устремлял глаза на гобелен.
Этот молодой человек тоже присел на зеленую скамью и тихо повторил про себя:
– «Радость», Марианна Волошина.
От неожиданности Марианна повернулась к нему.
– О! Это вы?
На скамейке сидел Сергей Плетнев. Он широко улыбнулся.
– Так Марианна Волошина – это вы?! А я-то думаю, что-то знакомое… Как я рад видеть вас, Марианна! И где! Замечательно! И этот гобелен – настоящее откровение.
Он встал и протянул визитную карточку.
– Разрешите представиться по полной форме.
– Сергей Иванович Плетнев, генеральный директор концерна «Возрождение», Москва, – прочитала она.
Сергей был при галстуке, в руках держал деловую папку на замочке. Он выглядел бы совершенно западным клерком, если бы не сердечная улыбка и веселые смешинки в глазах, свои, истинно русские. Да светлый вихор надо лбом, что «корова языком лизнула».
– Это прекрасная работа, – продолжал Сергей, всматриваясь в гобелен. – Как вам удалось? Такая трепетность, свежесть… даже говорить возле него не хочется. Пойдемте по залу. Ваш гобелен стягивает на себя внимание всего зрительного пространства, его неспроста повесили с таким уважением. Одним словом, это Гран-при, первая премия.
– Приятно слышать. – Она поднялась и пошла по красивому паркету. – А вы что делаете в Лейпциге?
– Я здесь на деловых переговорах. Вторую неделю молчу по-русски, как немой. У себя в номере все песни перепел, русские, сибирские, казацкие, все, что знаю. По десятому разу начал.
– Так вы из Сибири? – Она искоса окинула его коренастую фигуру, модную стрижку русых волос, с тем знакомым вихром у лба, что называется «корова языком лизнула».
– С Байкала.
– «Славное море, священный Байкал…»?
– Точно.
– Вы рыбак, вы ловите омуль? – Ей хотелось шутить.
Сергей рассмеялся.
– Омуль – прекрасная рыба, угощу вас в Москве по возвращении. Но я давно не рыбак, я архитектор. По всей России строим, реставрируем. Марианна, давайте на «ты». Земляки же. Согласны?
– Надо привыкнуть, – улыбнулась она.
Они оделись, вышли на улицу. На Марианне было легкое ворсистое пальто кофейного модного цвета, шарф и берет с помпоном, ее спутник надел широкий плащ и приподнял воротник. Несмотря на его коренастость, она на своих каблуках смотрелась чуть-чуть ниже его, и только помпон на берете был почти наравне. В уличных зеркальных витринах отразилась на редкость удачная, словно с картинки, молодая пара, доверительно обращенная друг к другу.
– Минутку, – задержался он возле лотка с цветами. – Сегодня же Восьмое марта! Цветы и поздравления от чистого сердца.
– Ах! – Она вдохнула прохладный цветочный аромат.
– Тебе идут цветы!
– Как всем женщинам.
– Как всем… и одной.
Первое стеснение вскоре прошло, разговор струился сам по себе, Сергей шутил, держа ее под руку, она смеялась, чувствовала тепло его ладони, оба любовались Лейпцигом, вечереющим небом, морем цветных рекламных огней, вспышек, движущихся световых картин.
– Знаешь, Мариша, о чем я подумал, когда впервые попал в Европу? – вдруг проговорил он серьезно.
– О че-ем? – протянула она с улыбкой. – О чем можно подумать впервые в жизни, да еще в Европе?
Сергей рассмеялся вместе с нею. Ему было легко с этой девушкой, такой талантливой, такой красивой и простой. Конечно, это впечатления первых полутора часов, их еще надо проверять да проверять, но все же, все же…
– А вот о чем, – продолжал он. – Это было в Голландии, года четыре назад, в чистеньком городке на самом побережье, у корабельных верфей. Я понял тогда, чем пленился царь Петр, будучи у них простым плотником.
– Чем же? – вдумчиво отозвалась Марианна.
– Всеобщей опрятностью и необыкновенной точностью в работе. Это разит наповал, настолько, что готов презреть родимую бестолочь, все наши авоси да небоси… Отсюда и крутость самодержца, и смесь европейского этикета с диким азиатским началом.
Он замолчал. Марианна искоса посмотрела на спутника. Ей не понравились «дикие азиатские начала», но, вспомнив о казацко-байкальских корнях Сергея, она изобразила условно лукавое понимание и что-то замурлыкала про себя. Сергей встретил ее взгляд.
– Ясно. Не согласна. Значит, будет, о чем говорить. Что ты поешь?
Она вслушалась.
– Это французская песенка: «За окном цветет виноград, а мне всего семнадцать лет…»
– Ты владеешь французским?
– Слегка. Вместе с английским. А ты?
– Я всеми сразу понемногу. Незнание языков считается здесь неграмотностью. А не зайти ли нам в кафе? Как насчет чизбургеров и гамбургеров, будь они трижды неладны?
– Вот именно.
– Еда не для белых людей. Найдем что-нибудь человеческое.
Усевшись за некрашеный деревянный столик в подвальчике, знаменитом на всю Европу своей двухсотлетней паутиной, похожей на пыльную бороду короля Артура, они с удовольствием перекусили свиной отбивной в шипящем сале, жареной картошкой, холодным свежим пивом. Между прочим, Марианна рассказала ему о четырехлитровом бочонке вина, на который была приглашена.
– Навряд ли это легкое вино, – сказал Сергей. – Это виноградная водка, очень крепкая, не для молодых девушек.
На улице уже стемнело, когда они вновь очутились на тротуаре.
– Странно. Всего семь часов вечера. Здесь темнеет гораздо раньше, чем у нас, – удивилась Марианна.
– Потому что у них природное поясное время, как у всех нормальных людей, – объяснил Сергей. – Без декретного часа. Они берегут здоровье нации, работают, чтобы жить, а не наоборот, как внушали нам вожди пролетариата. Марианна! Время еще детское. Предлагаю пойти в театр.
Они попали на представление городской труппы современного танца, рассчитанное на четыре полных часа с перерывом. Среди пышных ярусов и портьер, в ослепительном свете тяжелой люстры и мелких канделябров, вежливо подняв нескольких, уже занявших свои кресла, зрителей, уселись они в бельэтаже, в четвертом ряду, оказавшемся последним.
Свет погас. Вздрогнув, пошел в стороны тяжелый, как старинная шпалера, занавес, затканный гербом города Лейпцига, флагами и фанфарами. На сцену вышел человек в черном трико с белым, как мел, лицом, с ярко-красным жадным ртом. Сделав несколько угловатых движений, он упал на спину и стал дергаться, как паук. Из-за кулис выскочили еще несколько фигур и застыли в некрасивых позах. Марианна разочарованно посмотрела на спутника. Воспитанным на русской танцевальной культуре, где любая самодеятельность кипит азартом и страстью, а сольные номера полны внутреннего порыва, нелегко смириться с пустыми экспериментами актеров, с их застывшими намалеванными лицами.
– Скучаешь? – привлек ее Сергей в темноте.
Их руки сплелись, голова Марианны легла на его плечо, и между ними началась та музыка нежных слов и полувздохов, тот ласковый танец трепетных пальцев, какие бывают в юности.
Первое отделение пролетело незаметно. Вспыхнул свет. В глазах Марианны все ходило кругами, в душе встрепенулось смущение.
– Девочка моя, – улыбнулся Сергей. – Мы с тобой все решим сами. В России. Да?
Она опустила глаза. Он улыбнулся.
– Не отвечай, не надо. Помчались в буфет! Вот за пирожные я ручаюсь. С шоколадным кремом, орехами и цукатами из папайи.
Во втором отделении на сцену выбежали народные плясуны. Стало повеселее. Теперь Сергей и Марианна сидели в особинку, едва касаясь локтями, зато поминутно встречались взглядами. Шел двенадцатый час ночи, представление заканчивалось, когда в душе Марианны смутно зазвучала тревога. Какая, откуда?
– Мне пора в гостиницу, Сережа.
– Пора, так пора. Я провожу.
Они вышли из зеркальных дверей театра. Улицы были пустынны, лишь огни рекламы по-прежнему переливались яркими цветами. По широкой пешеходной улице пробежали они до перекрестка, свернули налево и остановились, дожидаясь зеленого огня светофора. Машин на дороге не было.
– Бежим, – шагнула Марианна. – Чего ждать-то?
Сергей удержал ее.
– Ты не в Москве, Маришка. Стой и жди «зеленый». Немцы – они во всем немцы.
Она дернула плечами.
– Что-то слишком. Не скучно им по шнурочку ходить?
– Да, не наша кровь. Зато стопроцентная надежность!
Наконец, достигли гостиницы. Большинство окон были темны, лишь над входом по-прежнему переливались затейливые готические буквы.
– Где твое окно? На пятом, где балкон? – поднял голову Сергей. – Твоя соседка либо не спит, либо включила ночник. Странно. – Он всмотрелся внимательнее. – Странно… Похоже, что в комнате плавают завитки дыма? Бежим скорее.
Они пробежали мимо портье к лифту, по тихим коридорным коврам пятого этажа к двери, толкнулись в номер. Замок был заперт изнутри, за дверью стояла тишина. Сергей налег плечом. Тщетно. Марианна смотрела на него.
– Что могло случиться, Сережа? Надо позвать пожарных, начальство.
Он отрицательно мотнул головой.
– Ни за что. Огласка – это конец всему. Здесь не шутят. Бежим вниз, я что-нибудь придумаю.
Вокруг дома росло несколько высоких деревьев, не близко к зданию, но так, что дальние, самые тонкие ветки могли шелестеть у балкона на расстоянии вытянутой руки. Одно из таких деревьев, липа, темнела на фоне засвеченного городского неба недалеко от балкона. Медлить было нельзя.
– Держи! – Сергей сбросил на руки Марианны плащ, пиджак, часы, галстук и рубашку, швырнул на замерзшую землю ботинки и носки. – Смотри снизу и желай удачи. Пока.
Подпрыгнув до нижней ветки, он подтянулся и с проворством таежного «шишкователя», привыкшего забираться на вековые кедры, пошел вверх по стволу, как по ровной дороге, и это в Лейпциге, в самом центре города! Поровнявшись с пятым этажом, он заглянул в окно, увидел всю картину и продолжил подъем к самым верхним тонким ветвям дерева. Ухватившись сразу за несколько, повис на них всей тяжестью тела, склоняя к балкону, на страшной высоте.
– Ой, мамочка, ой, мамочка, помоги ему, помоги ему, – дрожала внизу Марианна.
Липа наклонялась небыстро. Рывками, раскачкой, вцепившись, как жук, сразу в несколько ветвей, Сергей приближался к балкону. Рывок, рывок, еще один, ближе… Вот уже палец ноги ощутил холод железа. Крах! – сломалась, будто выстрелила, верхняя ветка, его шатнуло вбок, но босая нога успела зацепить решетку, словно утюгом. Сергей повис на сгибе лодыжки между балконом и охапкой схваченных ветвей.
– Все будет хорошо, хорошо, хорошо… – заклинала внизу Марианна.
Он бросил ветви, подтянулся к коленям, ухватился за перила и спрыгнул на балкон. Со свистом распрямилось потревоженное дерево.
Открыть балконную дверь труда не составило. Распахнув настежь обе створки, впуская холодный свежий воздух, он в первую очередь выдернул из розетки кипятильник, опущенный в сгоревшую кастрюлю с чадящей едой, после чего взялся за людей.
Настя и Магомед лежали в объятиях друг друга. Оба опьянели от водки и угорели от дыма, но дышали и мычали что-то в ответ на его расталкивания. Не теряя времени, Сергей набросил на обоих их нижнее белье, завернул в одеяла и вытащил на балкон. Кое-как заправил постель. После чего разрешил подняться Марианне.








