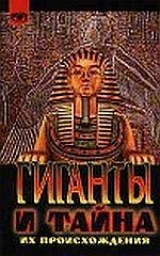
Текст книги "Гиганты и тайна их происхождения"
Автор книги: Луи Шарпантье
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Лигуры
На Западе Геракл встретил двух противников: гигантов и лигуров.
Сведения о гигантах весьма отрывочны, а вот лигуры известны хорошо. Жюлиан[10]10
Речь идет о Камилле Жюлиане (1859–1933), французском историке, авторе трудов о Галлии и развитии цивилизации («История Галлии», 1907–1928).
[Закрыть] описывал их так, как будто видел собственными глазами.
По правде говоря, те, которых описывал он, жили на несколько тысяч лет позже тех, с которыми сражался Геракл, и были обитателями Лигурии, то есть той части суши, которая окружает Лионский залив, от Прованса до Каталонии.
Если верить легенде, они жили там еще до катаклизма, то есть были неолитическими людьми, которые «дотянули» до вторжения кельтов. Это лишь гипотеза, поскольку после грандиозных разрушений на Земле осталось слишком мало людей, чтобы можно было собрать орды, необходимые для «захватов» и «вторжений». Должно было пройти немало времени.
Что касается тех, которых описывает Жюлиан, похоже, то были остатки племен, рассеянных кельтами по всему югу, примерно за пятнадцать сотен лет до нашей эры; он определяет район их исходного обитания как гораздо более обширный, чем несколько провинций на юге.
«Эти древние путешественники, – пишет он, – явившиеся с юга или с востока, от Кадиса или Фокеи, использовали только слово «лигуры» для обозначения всех обитателей страны галлов Они также дали это название племенам побережья Прованса, уроженцам бассейна Роны, народам Нарбоннской равнины. Говорили, что лигуры живут также вдоль большого залива
Атлантики; это имя давалось и другим племенам которые бродили среди рек и лесов у берегов Северного моря. Даже в эпоху Цезаря в греко-римском мире еще помнили об отдаленных временах, когда имя лигуров распространялось по всей Галлии».
Д'Арбуа де Жюбенвиль помещал их на Крайнем Западе, в местах, где родился янтарь, на Балтике, а также в «Алебионе», то есть на Британских островах.
И если – тоже по Жюлиану – эти люди не были похожи друг на друга, они, тем не менее, являлись элементами единства, которое этот же автор усматривал в языке: и эти люди с одним языком, одного или разных этнических происхождении, населяли весь Запад:
«В Италии, в Испании, на равнинах и в горах Германии, на островах Средиземного моря и Океана, так же, как и в Галлии, они оставили, словно следы, названия водных источников и гор. В Испании и в Великобритании есть «Jives», омонимы французских источников; «Jouro» – то нее, что итальянское «Joires»; французская Сена, Секвана, обозначает то же, что Jucar (Хукар) на юге Пиренеев. Земля Ирландии и соседнего большого острова изобилует названиями, пришедшими из языка лигуров: я полагаю, что это бьы язык тех «рожденных на острове» Британии, которых галлы оттеснили в глубь острова и которых еще знал Цезарь…
«У самых древних было весьма точное представление о периоде, когда лигуры занимали весь Запад… Им принадлежала Корсика. Они спустились до Сицилии, о них говорили в Испании… Их следы обнаруживаются недалеко от Кадиса, и болота, через которые протекают воды Гвадалквивира, некогда назывались «Лигурийским озером.
Забрав земли у лигуров, – продолжает Жголиан, – галлы получили и плоды этих земель, и их богов: после них ни римляне, ни варвары, ни христиане так и не искоренили за много веков духов гор и источников, духов – охранителей места».
Трудно представить себе, каковы были лигуры в догалльские времена, когда Геракл победил их во время своего похода.
У нас нет о них ничего, кроме свидетельств древних, с начала христианской эры, и только о тех, которые жили в Средиземноморье, на берегах того самого «Лигурийского моря», которое превратилось сохранив след в своем имени, в Лионский залив. И прошло уже не меньше полутора тысяч лет с тех пор, как те, кого мы сегодня называем галлами, захватили их и смешались с ними.
По описанию Жюлиана, который изучил все эти сообщения древних, лигуры были невысокого роста, крепкие, с очень гибкими конечностями «Усталость никогда не одолевала лигура. Говорят, что по силе они равнялись большим диким зверям Они были превосходными пешеходами, и в ходьбе и в беге, в выносливости и в скорости у лигуров не было соперников в странах Средиземноморья.
Они были искусными охотниками и пользовались оружием, которое требует исключительной ловкости и хорошей физической формы, – пращой Когда птицы пролетали над группой лигурийских охотников, каждая праща выбирала свою жертву, и ни одна не промахивалась» (Заметим, что в описании армии атлантов Платон уделил много места воинам с пращой. Это оружие было совсем неизвестно грекам).
«Древние считали их ворами и грабителями, похищавшими скот, убивающими чужеземцев и, возможно, поедавшими человеческое мясо». (Следует помнить, что все это сообщали латинские авторы).
«Лигуры очень много и тяжело трудились. Одни целый день, вооружась тяжелыми топорами, рубили могучие деревья в горах. Другие, склонившись к земле, дробили каменистую почву, чтобы создать участки, пригодные для возделывания. (Не занимаются ли и теперь здесь земледелием среди каменистых стенок и каменистой почвы?). Третьи преследовали диких зверей.
И, наконец, самые отважные, погрузившись на суда, самые простые, подобные плотам, сделанные, возможно, из выдолбленных стволов деревьев, отправлялись в море, не ведая опасности и не ожидая помощи, чтобы в дальних водах добыть рыбу, на которую были скупы их реки.
Главной чертой, отличавшей в те древние времена лигуров с Океана, была исключительная скорость их передвижения. Лигуры с берегов Манша и Северного моря производили на купцов из Кадиса впечатление дерзких мореходов, направлявших свои кожаные суда в самую середину свирепых бурь.
Это мужество и любовь к независимости были связаны с исключительным поклонением родной земле. Среди всех народов античности нет другого, который был бы менее подвижен. Ни одно нашествие, ни одна завоевательная экспедиция не начались с этой земли».
Это важно, поскольку, раз речь не идет о расе завоевателей, это значит, что на Западе они не были потомками войска захватчиков Речь идет об «автохтонах», местных уроженцах, а не «пришельцах извне» Поскольку в легенде говорится о сопротивлении, оказанном Гераклу лигурами в неолитические времена, все это похоже на правду. Описывается тот же народ, о котором рассказывали древние тысячи лет спустя.
Жюлиан добавляет, опираясь на свидетельства древних:
«Когда они ищут приключений где-то далеко, то исключительно на море, а ремесло рыбака и морехода не противоречит горячей любви к балкам и порогу родной хижины. Если враг сгоняет лигура с его родной земли, он возвращается туда при первой же возможности». (По Авиену)
Жюлиан задается вопросом:
«Чем больше изучаешь мир лигуров, тем более определяющей кажется роль моря. И я спрашиваю себя, не были ли их язык, их единство и некоторые обычаи созданы нацией мореходов, и каждый раз я думаю прежде всего о народах Северного моря, о заселении Европы в доисторические времена, аналогичном миграциям в эпоху норманнов».
И если не для них, то для их «просветителей» это было так!
«Они не были художниками, – говорит Жюлиан, который придерживается сентиментальной художественной концепции своего времени, – но при обработке материалов обнаруживали остроту глаза, точность движений и стойкость в физическом напряжении».
Это исключительно важно! Спрашивается, откуда же пришла эта чисто западная традиция, которая в своих монументальных воплощениях избежала подражания Риму, несмотря на Марсель и путешественников-греков, и которая, став христианской и испытав давление варваров – визиготов, бургондов или франков, – лишь нехотя приняла восточные образцы, чтобы дать первый всплеск – романский стиль, еще несущий отпечаток подражания заморским образцам, а потом – апофеоз готики, не имеющей, кажется, никакого источника, никакого образца. Это было не что иное, как приспособленная к новым временам и обрядам давняя традиция лигуров…
Снова обратимся к Жюлиану:
«На первый взгляд, обитатели Галлии в столетия, предшествовавшие 600 году, кажутся прежде всего обработчиками камня. Именно из камня сделаны основные предметы, сохранившиеся от тех времен: кремневые наконечники стрел и копий – оружие незапамятных времен, от которого человек никогда не мог отказаться; мегалитические постройки из грубо обтесанных каменных блоков и плит и, наконец, топоры из отполированного камня.
Именно последние свидетельствуют о степени развития производства, требовавшего очень большого терпения и фантазии. Чтобы изготовлять эти мощные инструменты, способные рубить твердые стволы деревьев… с гладкой, словно стеклянной, поверхностью и с лезвием острым, словно из металла, нужно было тщательно выбирать камни, наиболее прочные и лучше поддающиеся полировке, подходящей формы, которые можно было и обкатывать, и шлифовать. Таким образом, люди должны были иметь точные знания о свойствах местных горных пород»
Чувствуется, что, если бы Жюлиан не был выпускником Коллеж де Франс,[11]11
Учебное заведение в Париже, основанное королем Франциском I (1530). Туда принимают людей, имеющих высшее образование. Посещение лекций свободное Здесь нет экзаменов и не выдаются дипломы.
[Закрыть] он бы решился употребить слово «посвящение». Именно о посвящении в законы материи идет здесь речь.
«Также и самые большие менгиры и дольмены обнаруживают чудеса механики. Даже если большинство этих блоков были взяты недалеко от места постройки, их нужно было отделить, притащить, поднять, установить на место и закрепить; некоторые весили по 250 тонн, иные и больше, а отдельные камни, причем из самых тяжелых, нужно было доставить за семь-восемь лье» (250 км для некоторых мегалитов Стоунхенджа).
И для всего этого были нужны, помимо рук людей которые, как можно предполагать, там имелись, «рычаги, катки, лебедки, тросы, взаимодействие, силу тяги и прочность которых нужно было тщательно рассчитать»
Короче говоря, нужны были инженеры. Но как нам осмелиться говорить об инженерах тех времен?
«Однако, – это опять Жюлиан, не оставляющий темы, – не забудем и о плотниках. Их тяжелые каменные топоры были предназначены для отсекания и обтесывания огромных кусков. Жилища живых, крепко построенные и хорошо приспособленные, были так же многочисленны, как каменные помещения для мертвых.
Эти люди так же успешно изучали дерево, как и камень они рассчитывали прочность балок, устойчивость и долговечность материала. Это они создали свайные основания для озерных поселений в Швейцарии и Савойе».
И это работа не ученика, но мастера, расчетчика, у которого знание материала заложено в руках и в мозгу– именно это и есть посвященностъ.
Они были и земледельцами. Жюлиан опускает этот вопрос, но до сего дня есть доказательства этому в виде умелого использования террасных полей и подпорных стенок из сухого камня, обеспечивающих растениям и необходимую влагу, и хорошее освещение для вызревания
Доказательства многочисленны в каменистых районах, где поля тщательно расчищены и ограничены каменными стеночками, которые простояли уже много веков, в лесистьхх районах, на вырубках, где сделано все возможное, чтобы сохранить плодородие почвы и избежать эрозии из-за ветра и воды
Но земледелие, если оно ручное, требует много усилий и умелого использования орудий труда Нужен и «посвящающий» – ученый агроном.
Древние удивлялись (а с ними и Жюлиан), почему эти люди, лигуры, которые сопротивлялись римлянам яростнее, чем испанцы и галлы, одержавшие не одну блестящую победу, не оставили ни одного имени предводителя, в противоположность другим народам, так, что даже невозможно узнать, как ими командовали.
Это обстоятельство очень затрудняет работу историков, для которых история часто сводится к именам… трудно поверить, что у лигуров не было культа личности: запретить предводителю иметь имя, запретить ему считать себя выше остальных (даже если это и так) – какая мудрость и какое величие!
Подведем итог.
В неолите (впрочем, когда он был?), до нашествия кельтов и римлян, страну занимали варвары, грабители и невежды, умевшие при этом замечательно обрабатывать камень и дерево и обладавшие научными знаниями об этих материалах и способах их использования.
Варвары, которые занимались земледелием, используя все возможные знания о природе, временах года и растениях.
Варвары, которые занимались скотоводством, используя все возможные знания о физиологии и инстинктах животных.
Варвары, которые были мореходами и знали все о морской стихии, ветрах, навигации и корабельном деле…
Наконец, варвары, которые «управлялись» с каменными блоками, которые не по силам современным инженерам, со всей их современной техникой…
Похоже, мы что-то упустили в подходе к рассмотрению истории-Историки закрывают глаза на множество фактов…
Люг и Люзина
Аигуры, предшествовавшие галлам, жили уже во времена Геракла и оставили нам следы своего существования: они не имеют ничего общего с племенами битуригов, атребатов или арвернов. Остались докельт-ские названия различных мест.
Удивительно, что Жюлиан не сопоставил (что было бы очень логично) слово «лигуры» и имя бога «Люга». Я думаю, что именно этот бог, больше, чем язык, так долго поддерживал то западное единство, о котором говорит Жюлиан, поскольку если язык не устоял перед вторжением кельтов, то бог Люг приобрел новообращенных, которые вместе с его «божественностью» почитали его святые места, священные горы, реки и камни.
Значительная часть названий рек в Галлии пришла к нам от него, среди них – название его великой священной реки: Лаура, которая была Лиг-ара, река Люга, и ее спутницы – Алье – Аль-Лиг-ара… И еще множество рек с названиями Луар, Луан, Луинь – воды Люга.
И вот мы встречаемся с богом Люгом, таким древним, что можно было бы удивиться, как долго он продержался, если бы мы не знали, что и сами лигуры сохранились в Галлии и даже во Франции до наших дней.
На галльской земле такие названия многочисленны не только там, где корень «люг» сохранился без изменения, как в названиях Люгассон, недалеко от Бордо, или Люгрэн в Верхней Савойе, но и в названиях Люк, Лион, Леон (бывший Люгдунум), многочисленных Лу также Лувьер, Лудэн, несомненно, в бельгийском Люик и фламандском Локерен.
Он царствует не только в Галлии. На иберийском полуострове его можно отыскать всюду, где не навя зали свою топонимику арабы. «Дорога святого Якова» идет по пути Люга, от Логроно до Леона и Луго. Лигурийский берег носит теперь имя «Коста де ла Луз», и Португалия по-другому рвется Лузитанией.
В Англии он в имени Лондона, который был Лутду-нум, он – в Лейдене, а один британский автор увидел его даже в названии Легуты, в Силезии.
Игнорируемый склонными к латинизации грамотеями нашей эпохи, он часто изгонялся из мест своего «обитания» специалистами по топонимике… Так, мне кажется, что «Лютеция» (Париж) более очевидно выводится из «Люго-тиция», чем из «левкое» (белый), слишком греческого для такого древнего места. И что Лу (Loups) но имеет ничего общего с «люпус» (волк)!
Но кто такой Люг? Бог ли он в привычном нам сегодня понимании или в том, как его понимали римляне?
Римские боги – обновленные греческие – были богами «с определенными обязанностями». Мы сегодня имеем христианское понимание Бога, но концепции меняются. Бог Израиля был прежде всего Богом одного племени. Он сам сказал: «Я – Бог Израиля», он заключил союз с Израилем, он вел борьбу с другими богами, а Израиль должен был оставаться верным ему. Бытие, которое есть Все, даже его собственная противоположность, как материя, так и дух, ускользает от еврейского народа…
Не таков ли и бог Люг, который носит имя своего народа, нечто вроде пастыря племени, или народа, или объединения с одинаковым языком?
Всегда трудно говорить о неизвестных богах. К счастью, благодаря ирландским легендам, мы о нем все-таки кое-что знаем. Люг – изобретатель, строитель, волшебник. Это «Люг-с-длинными-руками», – деятель. У него есть котел, в котором он варит снадобья, исцеляющие больных и раненых и воскрешающие мертвых, – первый из Граалей… Он врач и алхимик. Он работник-универсал и поэтому имеет разные обличья. Он – творец. Он сын Сиана, или Гиана (или Киана) Пылающего. Он сын Лира или Лейра (вот ирландский след). Он сын Диансехта и поэтому плотник, кузнец, атлет, арфист, воин, поэт, волшебник, врач, виночерпий, бронзировщик, игрок в шахматы…
Он будет духовным отцом Кухулина, рыцаря Красной Ветви.
В Скандинавии он Локе (или Локи), нечто вроде демона среди германских богов, захвативших кельтский Север. Он становится «хитрецом», «изобретателем», который обманывает других богов. Может быть, он олицетворяет сопротивление захватчикам…
Как у Афины есть птица – сова, являющаяся ее символом и давшая ей всевидящие глаза, так у «Люга» есть свое животное, своя птица – ворон, чье название у лигуров – Люг. Или Лу.
Вот что сказал об этом вороне Марсель Моро: «Он – создатель и преобразователь. Это он в своем клюве принес ил из глубины вод на поверхность, и Бог создал для людей землю. Ворон – божество грома, дождя и бури, заставляющий сиять свет и устраивающий жизнь в потустороннем мире. Он научил людей разводить огонь, охотиться, ловить рыбу, он защищает от злых духов».
Алхимики сохранили его символ в своих «черных трудах», да и строители собора Парижской Богоматери не забыли: они сделали его указателем места, где находится тайник с философским камнем.
С наступлением христианства люди перестали любить его. Он стал птицей несчастья, предвестником катастроф, пожирателем мертвечины… Я думаю, он и был им – в ритуальном смысле, как грифы в Индии или кондоры в Перу.
До сих пор во Франции существуют некоторые плоские камни, не дольмены и не менгиры, а плиты, лежащие на земле наподобие каменной кровати с изголовьем, а иногда и с канавкой для стока. Их часто считают алтарями, где умерщвлялись жертвы, хотя скорее это парадные ложа мертвецов, откуда великим людям после их смерти предлагалось вернуться в лоно Люга с помощью его птицы – ворона, который был «переносчиком жизни в потусторонний мир?»
Цезарь писал, что галлы имели особую приверженность к Меркурию как изобретателю всех их искусств и ремесел и покровителю путешественников. Цезарь дал собственное объяснение, однако нам кажется, что искусства и ремесла сближали Меркурия с Люгом, несомненно, галлы именно поэтому и приняли его, единственного из римских богов. Не нужно слишком долго приглядываться к нашему «Меркурию», чтобы обнаружить за его спиной прежнего хозяина здешних мест – Люга.
Кельты тоже приняли его, и в кельтские времена существовал большой праздник Люга – «Люгнасад», в начале жатвы, что соответствовало нашему первому августа Прославлялась плодородная троица: Тарное, Эпона и Артос.
«Тарное» – это Тавр (Телец) – Оплодотворитель. Это также знак, созвездие, в котором находилось Солнце между 4450 и 2300 гг. до Рождества Христова. Это след времени, и верный след, поскольку он связывает бога «Люга» с периодом, когда Лигурия была кельтской.
«Эпона» – богиня лошадей Она оставила свое имя местности на берегах Сены – Эпон, и галльской героине Эпонине.[12]12
Эпонина – жена Юлия Сабина, римского военачальника галльского происхождения, поднявшего восстание против Рима в 69 г. Он провел девять лет в подземной тюрьме, куда жена носила ему еду Их казнили в Риме в 78 г.
[Закрыть]
«Артос» – это Арктос (Урсос), Медведь, кутгьт которого отправляли в доисторических пещерах. Это и созвездие, вокруг которого обращается небесный свод..
Я не знаю, существует ли какая-либо связь между тем, что точка равноденствия находилось в созвездии Тельца и Солнце первого августа находилась в созвездии Девы и тем, что дева Эпона была одним из членов троицы, прославлявшейся в Люгнасад, но лошадь, которая ее сопровождала, это лошадь, которая была «Великой кобылицей», «Бельяром», «Баярдом» четырех сыновей Эмона (волшебный конь из поэмы XII века «Рено де Монтобан», иногда называемой «Четверо сыновей Эмона». – Прим пер), верховым животным посвятителей, знающих, творцов.
Как видим, Люг – это не мелкий божок, которому поклонялись на скорую руку, из-за преходящих суеверий. Его святилища и владения находились повсюду на Западе.
Хотя вторжения с юга, востока и севера рассеяли память об этих «владениях» практически повсюду на западе, они все еще отмечены на большей части Франции самим именем бога.
Первое кельтское вторжение – в 1700 или 1500 году до Рождества Христова – признавало эти имена (возможно, самим захватчикам уже был известен Люг), но римляне, варвары и арабы не берегли их. Имя Люга исчезло повсюду, где они получили достаточную власть…
Лишь редкие следы обнаруживаются в Провансе хотя до римлян там было очень много лигуров, но интенсивная латинизация заставила отступить древние наименования, остался лишь «лес лигуров» недалеко от Экс-ан-Прованса и гора Люберон.
К тому же интенсивная германизация на Востоке уничтожила все догерманские имена, кроме района Бельфор, где сохранились два «владения».
Эти имена не избежали и армориканской христианизации бриттами, изгнанными саксами с Британских островов в VI веке нашей эры. Христианские пришельцы не знали никакого Люга и полностью изменили всю топонимию Бретани, не осталось ничего, кроме «Плу» и «Лан» в названиях приходов и церквей. Однако остался еще Леон и несколько отдельных имен «люг».
Более юго, «люг» изобилует в Центральных Пиренеях, а на Тулузской равнине, где сосредоточены визиготы, встречается чрезвычайно редко.
В районе Ландов он встречается лишь на периферии. Не было ли там во времена лигуров какого-нибудь залива, исчезнувшего теперь под речными наносами и песками? Что касается массива Альп, то присутствие «Люга» только вблизи озер легко объяснить невозможностью проникнуть в ледники.
Я напрасно искал следы лигуров на Иберийском полуострове, где арабская топонимия захлестнула все. Кроме Кантабрии. Англия стала бриттской, саксонской или норманнской, практически отсеченной от древних традиций Ирландская топонимия мне не далась.
Даже во Франции, где топонимия была достаточно постоянной, как отмечал Жюлиан, не всегда легко распознать в происхождении названия «Люга», и специалисты нередко ошибаются.
Грамотеи средних веков были латинистами и писали не на «французском» – «вульгарном языке», – а на латыни. Когда им нужно было обозначить место в документе, они, вместо того чтобы взять обычное название, переводили его, в меру своих познаний, часто выделывая разнообразные фонетические пируэты. Такие документы сохранились, их слишком часто принимают «за источник».
То же сделал и Альбер Доза, когда объяснил Люгдунум, который стал Лионом, как Люкодунум («сияющая крепость»). Белизна греческого «левкое» затмила бога, на чье имя ясно указывает это название.
Из Лугдунов, а их много, один стал Лудуном, или Лондоном. Другие окрестили по-христиански: один стал Сен-Бертран-де-Коменжем, другой – Сен-Лизье.
А сколько Сен-Лу скрывают имя Люга?
Можно удивляться, что Лугдун стал Лионом – тем не менее это так, так же и море Лигуров стало Лионским заливом. Я не мог найти другой этимологии для множества Лионов, Леонов, Льонов, кроме имени Люга. Львы были здесь слишком редки, чтобы оставить географическим названиям свое имя…
Лион и Лудун – звучит совершенно недвусмысленно, такие и Люсон, Люшон, Монлюсон («гора Люга»). Невозможно отрицать Люгрен на берегу озера Леман, как и Люгассон, недалеко от Бордо, или уже за нашими границами три поселения на «дороге франков» – Лог-роньо, Леон, Луго…
И что же теперь?
А теперь нужна определенная осторожность в исследовании вопроса. Например, существует старинное слово «Лю», означающее «лес, роща», но это вовсе не предполагает, что имеется в виду не «лес Люга»… Есть еще Люк, который мог произойти от латинского «лю-кус», «священная роща»… Но все ли «Люки» – латинские? В этом можно сомневаться.
Есть еще «Лог» и «Лок», которые производят от «лоци» (место). Выходит, страна действительно была латинизирована.
Итак, вооружившись подробными картами, я показал все, что нашел связанным с именем бога Люга: включая Люц, который часто пишется Лютс„Одна вещь показалась странной: все эти названия встречаются «порциями», словно они составляли часть целого, часть владения-
Более того, во всех этих «владениях», где сосредоточены названия, которые можно произвести от имени «Лиг», встречаются мегалитические памятники, дольмены или кромлехи (менгиры распространены гораздо шире).
Хотите несколько примеров? В районе Шартра такая «порция» доходит от Щар-тра до окрестностей Шатодена. В самом Шартре, в пригороде, есть Люсе, а совсем рядом – Люизан. Затем спускаемся к Лоше, и все в том же направлении на юго-запад, Люсон (недалеко – Сен-Лу, возможно, это такая маска), Люпланте, может быть «посаженный лес», но глагол «планте» (сажать) слишком новый для очень древнего «лю»; затем Бюглу, Монлижон, Бюллу, Людон, Лолон, Логрон и, наконец, возле Шатодена – Лютс-ан-Дюнуа.

«Владения Люга» в районе Шартра
В центре этого района, протянувшегося километров на сорок, находятся Ильер и Аллюэ, расположенные на берегу Луары – Лиг-ары, – которая пересекает «владение» с востока на запад, а с юга на север протекает Эр – не что иное, как Иевара, такая же священная река, как та, что орошает Бурж.
На западе, словно ограничивая «владение», – Лю-нъи, на юго-востоке – Лион-ан-Босе, к которым можно добавить Вуа-о-Льон возле Даммари.
Кроме этих одно лишь название может принадлежать Люгу, на запад до Мамера, где начинается новое скюпление; на север, кроме возможного Лаон возле Дре – до Лувьера; на восток до Монтаржи.
И так до Ментенона, где существует еще нечто подобное двум дольменам, но скорее – остатки крытого прохода, до Бру, простирается территория в форме миндалины, некий ореол, где изобилуют дольмены и мегалитические памятники, не все из которых еще учтены.
Кроме того, что находится под Шартрским собором, есть еще один, на юге, у Морансе, еще – в лесочке между Бершере и Суром и, наконец, «сосредоточение» между Ильером и Аллуэ, вдоль реки Луар, где их десятки.
Таким образом, по крайней мере в районе Шартра есть связь между мегалитическими памятниками и «владениями Люга». Еще пример?
В Антре-де-Мер есть деревня – Люгассон, которой невозможно отречься от своего имени.
И опять же, она является почти центром миндалевидного района, где находятся: Люгон, затем Либурн, Люссак, Луп, Линьян, Люгеньяк, Лист-рак два леса Люк, на востоке и на западе, и еще два на юге и на севере, обрисовывающие косой крест, в центре которого – Люгассон; Лупиак и Лангон, к западу _ Леоньян, к востоку – Лиге возле Сент-фуа-ля-Гранд…
А потом – ничего…
В этом «владении», где позже по-братски расположились Белен[13]13
Галльское божество источников святилищ предсказателей и врачевания. Римляне отождествляли его с Аполлоном.
[Закрыть] и Белисама, насчитываются по крайней мере два не разрушенных дольмена, два крытых прохода…
И остатки Других многочисленных дольменов, разрушенных добрыми людьми нашей эры, сохранившиеся в лесу Люк.
Белен и Белисама явились, чтобы присоединиться к Люгу, а потом, после них, Христос и Пресвятая Дева. Как и в районе Шартра, где есть собор и аббатство, во владении Люгассон есть Совтерр-ла-Гранд и Блази-мон (сохранивший имя Белисамы), и паломничество в Нотр-Дам-де-Бон-Нувель,[14]14
Богоматерь Благовещение, или Новая Богоматерь.
[Закрыть] которая кажется мне новой Бон-Дам.
Я взял эти два района просто для примера, но есть много других, где, несмотря на древность, так же легко обнаружить имя Бога.
Случается, что его имя изменилось, но не сильно: по крайней мере, оно всегда узнаваемо. Как обычно, гласные менее устойчивы, Ю часто становится А, как в Ланьи, пли АН, как в Лангон, бывают также У или И. Иногда Г превращается в С или Ц: Люг становится «Люс» или «Люц». Что касается окончания, указывающего место, оно подчиняется правилам диалектов. Люсси или Ликси становится Люкуй на востоке; Люсе в Пуату, Турени, Берри, где может быть и Люши; оно становится классическим Люссак в Нижнем Пуату, Лимузене, Перигоре и Оверни, где иногда бывает и местным Люшья.
Бывают и другие окончания, которые, несомненно, соотносятся с особенностями, признаками, качествами, которые нам известны, так, например, Люготиция, которая превратилась в Лютецию. Во всех случаях замечательно одно обстоятельство – никогда не присоединяются латинские окончания. Ни «локуса», ни «виллы» для Люга. Люг старше Рима, и романская Галлия не давала больше «владений» Люгу.
А еще у Люга есть подруга, «Люгина», которая почти всегда превращается в Люзину; древняя «Мер-Люзина» (мать-Люзина) перешла в народные сказки под именем Ме-Люзииы, к которой люди до сих пор относятся с нежностью, поскольку в этих народных преданиях она никогда не причиняла зла.
«Люзина» для Люга то же, чем в последующую эпоху будет для Белена Белисама, материальное воплощение Бога, которое Бог может оплодотворить.
Вся созидающая сила Люга ничего не стоит – в земном смысле слова, – если нет того, что он может оплодотворить…

«Владения Люга» в Антре-де-Мар
Легенда, дошедшая до наших дней, сделала из Мелюзины великую строительницу. Ее связали (не знаю когда) с лузиньянскими приключениями.[15]15
Легенда о Мелюзине как основательнице Лузиньянскои династии. Геше написал о ней сказку.
[Закрыть]
Легенда красива.
Итак: младший сын владетеля Пуату Раймонден охотился и нечаянно убил своего наставника графа Пуатье. Возле источника Се (жажда) он встретил «фею», влюбился в нее, она его тоже полюбила.
Раймонден женился на фее и, по ее совету, попросил у своего сюзерена во владение участок земли, «который можно покрыть шкурой оленя». Мелюзина разрезала эту шкуру на тонкие полоски так, что получилась «веревка», которая окружила не только город Лузиньян, но и много других земель, лесов и других окрестностей (геометрическая граница, где находится владение «хитроумного» Люга…).
Затем она затеяла строительство замка силами множества рабочих, которых призвала неизвестно откуда, «и делали эти каменщики столько работы и так быстро, что все, кто проходил мимо, были изумлены».[16]16
Все это очень напоминает русскую сказку «Царевна-лягушка».
[Закрыть]
Однажды построила прекрасная дама Город и замок Мелль, Потом были Муван и Мерван, Потом башня Сен-Мексан…
У этой Мелюзины была одна удивительная особенность: она должна была в определенные дни прятать ноги, поскольку они выдавали ее происхождение, превращаясь в рыбий хвост, в хвост змеи или же (в других вариантах легенды) в лапы, как у лебедя. Она «птице-ногая». Лебедь (Синь) ирландского эпоса… Возможно, ее имя было – Люг-синь, кто знает?
Когда Раймонден Лузиньянский обманом вызнал ее тайну, она исчезла навсегда.
Если Люг оставил в Древней Лигурии имена своих священных мест, то и Люзина оставила там свои, не только на землях Лузиньяна в Пуату, но и во многих других местах.
Есть еще Люзиньи в Шампани, возле таинственного леса Орьян; в Верхней Луаре – Лезинье; в Пуату – Люзиньяк и Лезиньяк; Лезиньяк и Люзиньяк – в Лимузене; Люзиньи – в Турени; Люзере – в Берри; в Каркассе – Лезиньян и Линьян; в Восточных Пиренеях – Лезиньян; в Альбиго – Люзьер; еще один Люзьер – в Бовези; в районе Авиньона – Лединьян; в Пригоре – Люзиньяк; в районе Лиона – Люзине; в Оверни – где пришепетывают – Лижиньяк; на Лауре, в Ниверне – Люзиль…
Само постоянство имени, почти неискаженного, несмотря на различные диалекты и даже разные языки, показывает, что в основе лежала единая вера или общие предания и – в любом случае – поклонение и уважение одному и тому тоже.








