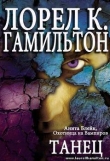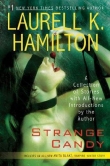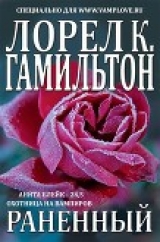
Текст книги "Раненный (ЛП)"
Автор книги: Лорел Кей Гамильтон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Мерседес провела нас в помещение, похожее на комнату отдыха с торговыми автоматами, небольшими столиками, стульями и даже диванчиком у стены. Я и не осознавала, как шумно было на торжестве, пока мы не оказались в тишине. Мои плечи опустились, и я поняла, что немного сутулилась, как бывало при напряжении. Я думала Мерседес пойдет к столу, чтобы мы все смогли сесть, но она обернулась, едва закрылась дверь. Видимо, мы постоим.
Она повернулась к Мике.
– Томас разговаривал с тобой дольше, чем с кем-либо из нас. Он начал посещать социального педагога, но не думаю, что он и с ней разговаривал.
– Возможно, дела пошли б лучше, если бы педагог был мужчиной, – предположил Натаниэль.
Мерседес посмотрела на него, ее глаза были чистого карего цвета, но светло-карего, как у пасхальных конфет из молочного шоколада. Я вдруг поняла, что мои глаза были темнее. Я была смешанного происхождения, но глаза моей мамы почти черного цвета мне передались.
– И что бы изменил мужчина социальный педагог? – поинтересовалась она.
– Томас тринадцатилетний мальчик, – напомнил Натаниэль.
– И что?
– Он только учится или старается стать тем мужчиной, которым однажды будет. А в то время, как он пытается понять, что значит быть мужчиной, его похитили, подстрелили, и он не смог защитить свою сестру, – объяснил Мика.
– Конни самая старшая, она всегда защищала нас, – сказала Мерседес.
– Так было, когда Томас был ребенком, а теперь он им больше не является, – возразил Натаниэль.
Она скривилась и закатила глаза.
– Ему тринадцать, он мальчишка.
– Вот поэтому он и не хочет говорить с тобой, – сказал Натаниэль. – Потому что для тебя он по-прежнему твой маленький братишка, а внутри себя он пытается быть кем-то большим.
Она нахмурилась, изучая очень серьезные выражение лица Натаниэля.
– Я этого не понимаю, потому что он всегда будет моим маленьким братишкой, но ты прав, он сейчас в том возрасте, когда все мы пытаемся представить, какими будем, когда вырастем. Хочешь сказать, мы не можем взглянуть на него объективно из-за того, что мы семья.
– Что-то вроде того.
– Думаешь, ему было бы проще с мужчиной социальным педагогом, потому что он учится быть мужчиной, и вдруг все, что, по мнению общества есть мужество, у него отняли.
– Не отняли, но он был ранен, – поправил Натаниэль.
– Насколько серьезны последствия в физическом плане? – спросил Мика.
– А что Томас рассказал тебе?
– Что доктора не уверены, будет ли он снова ходить.
– Это не совсем так, он будет ходить.
– А бегать? – уточнила я.
Мерседес выглядела серьезной, а затем опечаленной, не самый хороший знак.
– Насколько все плохо? – спросила я.
– Пуля попала в живот, но похоже задела нерв, спускающийся к ноге. Нам просто не повезло. По словам ортопеда, этот случай один на миллион, но в личной беседе со мной и Фрэнки, он также сказал, что еще несколько сантиметров в сторону, и Томас истек бы кровью и погиб бы еще до приезда в госпиталь, так что… Все будущее Томаса зависело от нескольких сантиметров внутри его тела и того, что пуля задела и чего нет.
Ее глаза заблестели от непролитых слез, сверкая на фоне эффектного свадебного макияжа глаз. Она сделала глубокий, судорожный вдох, видимо, собираясь. Ее голос звучал почти спокойно, когда она продолжила:
– Они считают, что если Томас наляжет на физиотерапию и больше внимания уделит тяжелой атлетике, чем ему было нужно для беговой дорожки, тогда он должен восстановиться достаточно, чтобы продолжить бегать.
– Продолжить бегать, как и прежде? – спросила я.
Она пожала плечами.
– Прямо сейчас ни один из докторов не готов сказать да или нет. Слишком много переменных. Я пыталась объяснить это маме с папой, но им нужен определенный ответ, а это не так-то просто.
Я не сразу поняла, что мама и папа – это Розита и Мэнни.
– Ход мыслей я уловил, – сказал Мика. – Они не уверены в том, что он поправится, и не могут проконтролировать, с каким усердием Томас подходит к своей физиотерапии.
– Он молод, это поможет ему восстановиться, но он в самом начале своей терапии и не так усерден, как должен быть.
– У него депрессия, – сказал Натаниэль.
– Это так, но, если он забросит терапию, он практически гарантированно не сможет вернуться на беговую дорожку. Черт, если он не приложит усилия к своему восстановлению, он навсегда может остаться инвалидом.
– И как это можно изменить? – спросила я.
– Следовать рекомендациям врачей, серьезно отнестись к физиотерапии, а через несколько недель, если он это сделает, мы с Фрэнки поможем ему начать добавлять вес и другие упражнения. Этим мы оба хотели заниматься, чтобы помочь людям. Мы… Я могу помочь Томасу, если он только позволит, – теперь слезы заскользили по ее щекам.
Я посмотрела на Мику, затем на Натаниэля. Один взглянул на меня, а второй едва заметно кивнул. Я вздохнула и обняла Мерседес, позволив ей опереться об меня, чтобы поддержать ее, пока она не выплачется, несмотря на то, что немного ниже. Почему всегда девчонка должна быть той, кто поддерживает людей, когда они плачут? Разве не должен этим заниматься тот, у кого лучше получается, не зависимо от пола? И все же я поглаживала ее по спине, успокаивая, не уверенная в том, что это поможет, но порой это все, что можно сделать, ну или все, что могу сделать я.
– Ты не пыталась познакомить его с кем-то, кто пережил похожую травму? – спросил Мика.
Это заставило Мерседес выпрямиться и вытереть слезы. Она с таким усердием вытирала глаза, что испортила макияж. Я скажу ей, прежде чем она вернется на торжество.
– У нас есть несколько пациентов – профессиональных спортсменов. У них не такие же травмы, но Томасу же нравится спорт, и, услышав, как много усилий им пришлось приложить к своему восстановлению, он может подойти серьезнее к своей физиотерапии. Это отличная идея, Мика, спасибо.
– Да, неплохая, но как насчет того, чтобы с ним поговорила Анита? – предложил Натаниэль.
Мы все повернулись и посмотрели на него.
– Ты о чем? – уточнила я.
– Врачи предупреждали, что ты можешь потерять способность владеть рукой, но ты стала заниматься в зале еще усерднее прежнего, и все обошлось.
Я опустила взгляд на свою руку, словно совсем забыла об этом, потому что точно помнила о той травме, о которой говорит Натаниэль. На сгибе левой руки сплошь рубцовая ткань. С рукой все хорошо, но это худший мой шрам и один из тех, что заставил врачей говорить об инвалидности.
– Анита сама почти оборотень, – сказала Мерседес, – безо всей метафизики. Мы говорили с ней о ее способности исцеляться, она не похожа на обычного человека.
– Томас спрашивал, сможет ли он поправиться, если станет оборотнем, – сообщил Мика.
– Он слишком юн, чтобы принимать такие решения, – сказала я.
– Да, заражать лиц, не достигших восемнадцати лет, ликантропией незаконно, даже с их согласия, но Томас об этом спрашивал, и я решил, что его семья должна об этом знать, – сказал Мика.
– Я залечила разорванную руку, отнюдь не благодаря супер-исцелению вампиров или оборотней, Мерседес. На самом деле, врачи считали, что я вероятно частично потеряю ее работоспособность. В то время я исцелялась как обычный человек.
– Тогда как ты восстановилась? – спросила она.
– Физиотерапия стала моей новой религией, и я впервые по-настоящему выкладывалась в зале. Я занималась немного из-за дзюдо, но с пересадкой мышечной ткани вокруг локтя… один из докторов сказал, что это может все изменить. Физиотерапия была направлена на силу и подвижность, а силовая нагрузка помогала удержать рубцовую ткань от исцеляющихся связок и сухожилий.
– Ты просто ходячий пример нашей с Фрэнки работы и того, как она помогает людям. Фрэнки нравится работать с профессиональными спортсменами, мне тоже, но по-настоящему мне нравится помогать обычным людям стать спортивнее и здоровее, особенно после перенесенной травмы. Они как будто и не подозревали до инцидента, на что способно их тело.
– Скорее оказавшись так близко к потере контроля над своим телом, ты хочешь выжать из него по максимуму, – сказала я.
Она кивнула.
– Это логично.
– Анита может поговорить с Томасом, – сказал Мика.
– Если ты будешь рядом и поможешь мне донести мысль, – оговорила я.
– Я тоже хочу помочь, – сказал Натаниэль.
– Спасибо за моральную поддержку, – улыбнулась я.
– Дело не только в этом, Анита. Я был жертвой насилия в детстве и юности и выжил. Я знаю, что значит быть раненным, тяжело раненным, и не знать, сможет ли твое тело стать прежним.
Я даже не обо всех травмах, который Натаниэль получил до нашей встречи, знала, но мне было известно, что он сбежал из дома, став свидетелем того, как его отчим забил его брата на смерть бейсбольной битой. Когда это случилось, ему было семь, а к десяти годам он начал торговать на улицах тем единственным, что у него было – собой. Сказать, что у Натаниэля было тяжелое детство, все равно что назвать трагедию с Титаником лодочной аварией.
– В детстве ты не был ликантропом, – сказала Мерседес.
– Нет, я был человеком.
– Сколько тебе было, когда ты стал оборотнем? – спросила она.
– Восемнадцать.
Когда мы встретились, Натаниэлю было девятнадцать, всего год в шкуре верлеопарда. Я на самом деле даже не подсчитывала это в уме. Он всегда так хорошо владел собой, словно до нашей встречи провел годы практики со своим зверем. Он настолько хорошо держал себя в руках, что уже тогда занимался стриптизом и перекидывался прямо на сцене «Запретного плода», и между ним и публикой не было ничего, кроме его самоконтроля и службы безопасности клуба, хотя и та была больше для сдерживания зрителей от танцоров, нежели наоборот.
– Боже, даже двадцати не было, ты тоже был совсем мальчишкой, – выдохнула она.
– Все когда-то были детьми, Мерседес, – заметила я.
Она взглянула на меня.
– Ты была моего возраста, когда начала работать с папой. Я думала, ты гораздо старше, но на самом деле ты всего лет на восемь старше меня?
– Я на шесть лет старше Конни, так что полагаю это так.
– Мы с тобой ровесники, – сказал Натаниэль.
Она посмотрела на него.
– Не знала, что ты настолько младше Аниты, а может все дело в том, что она не выглядит на тридцать.
– На тридцать один, – поправила я.
Мика с улыбкой взял меня за руку.
– Мы с Анитой ровесники.
– Ни один из вас не выглядит на тридцать, – заметила она, изучая наши лица.
Я вернула ей тот же взгляд и впервые задумалась: «Не выглядим ли мы моложе Мерседес?»
Ликантропы стареют медленнее нормальных, во всех смыслах, людей, и, пережив несколько атак взбесившихся оборотней, я стала носителем нескольких штаммов ликантропии. Предполагалось, что я не могла подхватить больше одного штамма, потому что каждый из них защищает носителя почти от всех недугов и травм, включая другие виды ликантропии. Я была медицинским чудом, потому что ни разу не перекидывалась. Однажды это может измениться, но до той поры я была первым зарегистрированным медиками случаем, ну или так мне сказали врачи. Мы полагаем, что моя связь с вампирами, как метафизическая, так и романтическая, как-то защищает меня от изменения формы, потому что вампиры не могут заразиться ликантропией так же, как и ликантропы не могут стать вампирами. Современные ликантропия и вампиризм – два взаимоисключающих друг друга сверхъестественных заболевания. Несколько тысяч лет назад ликантропы могли подхватить вампиризм, став и тем, и другим, но одно из заболеваний изменилось достаточно, чтобы теперь это не работало.
Встречалась я с несколькими вампирами, достаточно древними, чтобы быть носителями обоих заболеваний, и все они были либо до чертиков жуткими, либо вообще нелюдями. Гуманоиды, но не Гомо Сапиенс, что было сюрпризом… ладно, это был шок. В большинстве научной литературе значилось, что вампиризма, как болезни/состояния, вообще не существовало до появления Гомо Сапиенс. Были некоторые ученые, предполагавшие, что эта болезнь пришла к нам со времен кроманьонцев или неандертальцев, но эти теории подвергались серьезному сомнению. Я же точно знала, что вампиризм существовал задолго до этого, но продолжаю убивать всех встретившихся мне настолько древних вампиров, потому что все они были безумнее Шляпника и злобнее плана Гитлера по улучшению человеческой расы. А еще они были так сильны, что у меня кости ныли, когда я просто стояла рядом с ними. Смерть для них лучший выбор, а для всех остальных более безопасный, но было бы неплохо отыскать одного вменяемого, кто смог бы поговорить с палеобиологами, археологами, палеоантропологами и прочими«…огами».
Мерседес и Мика поговорили с Томасом за пределами торжества, прежде чем мы с Натаниэлем к ним присоединились.
Нам не хотелось, чтобы Томас чувствовал себя так, словно мы сговорились против него. Он согласился почти сразу, чего я не ожидала, но как справедливо отметил Натаниэль, я буквально только что спасла ему жизнь. Это могло повысить мой рейтинг.
Мы вернулись в комнату отдыха. Мерседес подвезла коляску Томаса к дивану, чтобы мы могли побеседовать все вместе, хотя я предпочла занять стул у столика, чтобы сидеть напротив Томаса, это лучше, чем на диване. Для меня правда было низковато, чтобы удерживать с Томасом зрительный контакт, и при этом ни одному из нас не пришлось причудливо выворачивать голову. А я любила зрительный контакт, во время серьезных разговоров даже еще больше. Мика устроился на подлокотнике дивана. Натаниэль рядом с ним. Мерседес выбрала дальний конец дивана, не уверенная, что Томас вообще станет при ней разговаривать, пока он не общался на эту тему ни с кем из семьи. Она уже предупредила Мику, что, если мальчик не станет при ней говорить, она оставит нас.
Томас годами был самым маленьким ребенком в школе, в Мэнни пошел, но сейчас в своем костюме он был сплошь руки и ноги. Ростом, больше ста семидесяти сантиметров, он догнал мать, а учитывая, что ее братья все были под сто девяносто пять, не считая того, который был ростом метр девяносто, его кстати звали Бамбино[1]1
Bambino (итал.) – ребенок, дитя, мальчик.
[Закрыть], не на самом деле, а за «низкорослость», Томас имел все шансы когда-нибудь подрасти, как минимум, до ста восьмидесяти. Братья, выстроившиеся на краю танцпола, были похожи на оборонительную линию, пока жены не затаскивали их танцевать, вот тогда мужчины начинали двигаться на удивление грациозно, все равно что наблюдать за пируэтом слона в посудной лавке.
Черные волосы Томаса были короткими, но их длины было достаточно, чтобы кто-то с помощью геля для волос убрал их с лица, уложив в одной из тех небрежно растрепанных причесок, которые предпочитают некоторые мужчины. Пройдет несколько лет, Томас подрастет, и такая прическа станет для него очень выигрышной, а пока его лицо до сих пор было мальчишечьим, и вместе с ней он выглядел очень мило, что не по душе большинству тринадцатилетних подростков, но его, казалось, не беспокоит это. Это могло означать, что такую прическу он не специально для свадьбы сделал, возможно, обычно он так и ходил, а значит он заботился о волосах больше моего младшего брата того же возраста, гораздо больше. Я припомнила, как Мэнни рассказывал, что за Томасом уже бегают девчонки в школе, так что, вероятно, его заботили многие вопросы, которые у меня не ассоциировались с тринадцатилетним возрастом. Я в его годы была безнадежно отсталой.
Он сидел, немного ссутулившись, сильно заваливаясь на один бок. Было заметно как напряжена кожа вокруг его глаз, даже на его еще детском лице, что говорило о боли. Он был ранен, а от тех лекарств, что он, вероятно, принимал от боли, у него мутился рассудок, или его клонило в сон. Он собирался с гордостью это перетерпеть. Я бы поступила так же, так что не мне кидаться камнями.
Томас взглянул на меня большими карими глазами, уложенные назад волосы упали на лицо, обрамляя его с одной стороны. Это напомнило мне об Ашере, который намеренно использовал золотую завесу волос для эффектности. И я поняла, что так же можно было сказать и про Томаса. Он знал о своей привлекательности. Такой уровень самосознания я не привыкла соотносить с мальчишками его лет.
– Привет, Томас. Не стану спрашивать, как ты себя чувствуешь.
Он вдруг усмехнулся, отчего стал выглядеть моложе и более настоящим по сравнению с небрежным, почти флиртующим образом мгновеньем раньше.
– Тогда ты будешь единственной, кто не поинтересуется.
Я улыбнулась в ответ.
– Понимаю, тебя уже наверняка тошнит от этих вопросов. Пока ты лежишь в больнице, люди постоянно интересуются, как ты себя чувствуешь. Мне всегда хотелось ответить: «Как кусок дерьма, а ты как?»
На это он рассмеялся, и так же как с ухмылкой, он показался моложе. Мне это было по душе, так я видела маленького мальчика, которого знала, пока он ходил в детский сад.
– Мне это нравится, очень нравится, но мама будет не в восторге.
– Как часто тебя спрашивают: «Как твои дела?»
– Часто, – ответил он, закатив глаза.
– В следующий раз ответь: «Меня подстрелили, а твои как?» Посмотрим, что они скажут.
– Анита, – воскликнула Мерседес, – прекрати учить его, как быть занозой. Он уже и так достаточно испорчен, – но тем не менее она смеялась.
– Мне до сих пор задают тупые вопросы насчет шрамов, – сказала я.
Томас очень серьезно посмотрел на меня и произнес:
– Мика рассказывал, что однажды тебя очень тяжело ранили.
– Не единожды, но в тот раз врачи считали, что я стану калекой.
Его взгляд дрогнул, но я намеренно использовала это слово. Томас прищурился, его взгляд не был дружелюбным, но и враждебным тоже не был, скорее оценивающим, словно я сделала что-то интересное.
– Большинство людей избегают этого слова, стараются сказать мягче, а ты просто произнесла: калека. Я могу стать калекой.
– Брехня, – бросила я.
Глаза Томаса расширились, он почти улыбнулся.
– Почему ты так считаешь?
– Судя по тому, что я слышала, если ты займешься своей физиотерапией, то ты вполне сможешь ходить, а если добавишь к этому качалку и тренировки в зале, то еще и побежишь.
Его лицо помрачнело, взгляд вдруг озлобился.
– Никто не обещает, что я снова смогу бегать.
– Но если ты забросишь физиотерапию, тогда ты гарантированно бегать не сможешь, так?
Он одарил меня всей силой своего злого взгляда, его губы сжались в узкую линию. Он выглядел рассерженным. Он не стал казаться старше, правда, но как-то менее приятным, словно его внутренняя энергия изменилась. Тогда я поняла, что Томас нуждается не только в физическом выздоровлении и даже не в эмоциональной реабилитации, а в чем-то более глубоком. Гнев может отравить вашу жизнь. Он лишит вас всего хорошего и заставит все казаться дурным, если вы позволите.
– Я больше никогда не смогу бегать так, как раньше, так ради чего это все?
Я вытянула перед ним руку, выгнув так, что шрамы на сгибе локтя стали очень заметны. Не то, чтобы их было совсем не видно, если я носила короткий рукав, но они были у меня так давно, что я перестала их замечать. Белесые грубые шрамы проходили по сгибу руки, сгущались к локтю и отходили от него тонкими нитями. Когда это случилось, мне рекомендовали обратиться к пластическому хирургу, но, когда вопрос стоял о возможной потере способности владеть рукой, шрамы меня не сильно волновали. А теперь она стали частью меня, как веснушки или родинки, как что-то, что всегда были на моей коже, хотя конечно про шрамы так нельзя сказать.
Голос Томаса звучал почти враждебно, когда он произнес:
– Я уже видел их летом.
– Я и не пытаюсь их скрывать, ни один из своих шрамов.
Его пристальный взгляд спустился ниже по руке к ожогу в форме креста, немного искривленному из-за следов от когтей, которыми меня наградила ведьма-перевертыш. Я указала на шрам поменьше у плеча.
– Это мое первое пулевое ранение.
Он посмотрел на гладкую, белую отметину.
– Я знаю, что тебя подстрелили в этом году, но ты исцелилась, все эти раны ты исцелила, благодаря какой-то… магии, – даже ему это показалось неубедительным, потому что он все еще выглядел злым, но взгляд был неуверенным, и он добавил: – Ты понимаешь, о чем я, ты исцелила все эти раны.
– Все шрамы, которые ты только что видел, были получены мной еще до того, как я смогла их исцелить без следа. Есть и другие, в том числе оставленный тем же вампиром, что разорвал мне руку. Он вгрызался мне в ключицу, пока не сломал ее.
Томас одарил недоверчивым взглядом.
– Клянусь.
Он прищурил глаза, и я задумалась, откуда у него эта привычка. Она могла появиться не сразу после похищения, поскольку на формирование дурной привычки нужно время. Я-то знаю, потому что у меня тоже есть такая.
Я оттянула ворот своего топа, показывая самый край шрама на ключице.
Его глаза немного расширились, он растерял немного свое недоверие, а затем сказал:
– Я не сомневаюсь, что у тебя есть все эти раны, Анита. Но Мерседес просто хочет, чтобы ты убедила меня быть паинькой и заняться физиотерапией.
– Она твоя сестра. Ее желание, чтобы ты поправился, нормально, так?
Он нахмурился сильнее.
– Тебе станет легче, если Мерседес будет на тебя плевать?
– Нет, конечно, нет.
– Что ж, да, она хочет, чтобы я поговорила с тобой о том, как сохранила свою руку.
Его глаза едва заметно расширились, он почти перестал быть угрюмым подростком.
– Папа не говорил, что ты могла потерять руку.
– Ее не собирались ампутировать, ничего такого, но врачи говорили мне, что я могу потерять от пятидесяти до семидесяти пяти процентов подвижности, другими словами рука фактически не работала бы.
Его глаза стали огромными, лицо серьезным, не угрюмым, как когда он смотрел на шрамы.
– И что ты сделала?
– То, что велели мне доктора, занялась физиотерапией, а тренажерный зал стал для меня новой церковью. Никогда в жизни я не занималась так усердно, потому что прежде не спасала свою руку. Втискиваться в узкие джинсы и хорошо выглядеть в бикини – вот, чего я хотела.
Я сжала кулак и напрягла мышцы предплечья, даже те, что располагались под толщей шрамов.
– У тебя больше мускулов, чем у любой знакомой мне девчонки, – сейчас Томас не притворялся, глаза все еще были такими же большими, как когда он рассматривал все мои шрамы. А затем он вдруг ухмыльнулся: – Уверен, ты и в бикини отлично выглядишь.
Его взгляд соскользнул с моего лица к груди, что немного смущало, учитывая, что я знаю его с шестилетнего возраста.
– Подними взгляд, – велела я, указав другой рукой.
Томас ради приличия покраснел.
– Анита! – воскликнула Мерседес, словно я сделала что-то неподобающее.
– Раз он уже достаточно вырос, чтобы смотреть, значит достаточно вырос, чтобы услышать неодобрение по этому поводу, и достаточно вырос, чтобы начать учиться смотреть и не выглядеть при этом извращенцем.
– Анита права, – согласился Мика.
Натаниэль закивал и добавил:
– Можно смотреть и не выглядеть при этом жутким, это просто дело практики.
Томас закрыл ладонями лицо, чтобы скрыть, как покраснел, или потому что больше не знал, что еще сделать. Этот жест словно остался с тех времен, когда он был совсем маленьким ребенком. Он опустил руки, и его взгляд снова озлобился, словно он пытался вернуть себе угрюмый «слишком крут» образ.
– Извини, я таращился.
Мне понравилось, что он не стал игнорировать ситуацию, и еще больше понравилось, что он извинился.
– Извинения приняты, Томас.
Он пожал плечами, его потенциально привлекательное лицо вовсе не было симпатичным, когда он позволял этому образу брать верх. Возможно, я смутила его, и возможно, из-за этого ему больше не хотелось меня слушать, но, черт возьми, он это сделал.
– Когда ты за что-то извиняешься, не стоит после этого вести себя высокомерно, – заметил Мика.
Томас посмотрел на него. Полагаю, этот взгляд задумывался жестким, но он был подростком из пригорода, который всего месяц назад впервые столкнулся с насилием, его жесткий взгляд таковым не был.
Мика ответил ему спокойным взглядом.
– Извинения предполагают, что ты сожалеешь о содеянном, а если ты продолжаешь вести себя как засранец после извинений, это значит, что тебе вовсе не жаль.
– Так как? – спросила я. – Тебе жаль за то, что ты уставился, или ты извинился просто потому, что должен был?
Томас переводил взгляд с одного на другого и наконец сказал:
– Вы, ребята, странные.
– Мы сверхъестественные, – ответил Мика.
– Я не это имел в виду, – Томас по-прежнему выглядел угрюмо, но за всем этим на его лице было что-то еще. Он смотрел на нас так, словно мы сделали что-то интересное, ну или как минимум неожиданное. В конец концов, он посмотрел на меня. – Мне жаль за то, что я уставился, и это было отвратительно. Я не хотел.
– Извинения приняты.
– Когда рука восстановилась, ты смогла отжимать тот же вес, что и прежде?
– Больше, – ответила я.
Он снова недоверчиво на меня взглянул.
– Я смогла брать вес больше, потому что стала заниматься усерднее, чем когда-либо ранее, поэтому превзошла себя и стала сильнее, чем прежде.
Он на это кивнул, глаза стали задумчивыми.
– Я понял.
– Если бы я сдалась, тогда моя рука больше не работала бы, и не было бы всех этих мышц, и мне пришлось бы оставить охоту на вампиров восемь лет назад.
– Анита не встретила бы никого из нас, – добавил Натаниэль.
Томас взглянул на него.
– Что ты имеешь в виду?
– С Анитой мы повстречались через Жан-Клода. Они только-только познакомились, когда на нее напали, и если бы она оставила охоту на вампиров тогда, она могла бы его больше никогда не увидеть. А если бы у них не завязались отношения, мы бы с ней не встретились.
– Хочешь сказать, что если я буду следовать всем рекомендациям врачей, то найду настоящую любовь? – спросил Томас, закатив глаза, что очень соответствовало поведению тринадцатилетнего мальчишки, словно «настоящая любовь» интересует только девочек.
– А то ты не хочешь быть так же счастлив, как мама с папой? – поинтересовалась Мерседес с серьезным выражением лица и уперев руку в бедро.
Томас снова закатил глаза.
– Все хотят быть так же счастливы, как они.
– Все, кроме тебя? – уточнил Мика.
– Немного смущает, как они зажимают друг друга, словно ровесники моих сестер.
– Всем, у кого родители ведут себя как подростки на выпускном, стоит быть благодарными, – сказала я.
Томас скривился.
– Побудь на моем месте как-нибудь, посмотрим, как тебе это понравится.
– Я бы с радостью, но моя мама погибла, когда мне было восемь.
– Иисусе, Анита, у тебя на все случаи жизни есть самая страшная история.
– Томас, – окликнула его Мерседес, словно призывая быть паинькой.
– Все в порядке, – успокоила я. – У меня есть плохая история почти на любую тему.
– Я не это имел в виду, – сказал он.
– Тогда что ты имел в виду? – уточнила я.
Он вздохнул, нахмурился и тяжело осел в своей инвалидной коляске, словно вдруг устал.
– Я займусь своей физиотерапией.
– И начнешь заниматься в зале, – подтолкнула я.
Он скривился.
– Ты слишком давишь, знаешь об этом?
– Знаю, – с улыбкой ответила я.
– Томас, – снова окликнула его сестра тем самым тоном, какой можно услышать от старших или от родителей.
– Это Анита еще не давит, – сказал Мика.
– Ни капельки, – согласился Натаниэль.
Я взглянула на них.
– От души спасибо, любимые.
Они мне улыбнулись с дивана.
– А ты поспорь с нами, если сможешь, – предложил Мика.
Мне хотелось нахмурится, но в конце концов я улыбнулась в ответ.
– Не могу, так что соглашусь.
Томас наблюдал за нами, словно запоминал, чтобы взять на вооружение.
– Так если я начну занимать физиотерапией и в зале, что тогда?
– Ты вылезешь из инвалидной коляски, отбросишь костыли. Заново научишься ходить, а затем и бегать.
– Врачи не обещают, что я смогу бегать так же быстро, как прежде.
– Я же уже говорила, Томас, врачи не дают гарантий, слишком много переменных, – проговорила Мерседес.
– Если ты приложишь усилия, то сможешь бегать и избавишься от костылей, это же хорошо, верно? – спросила я.
– Ага, – ответил он, и угрюмые интонации снова вернулись к его голосу.
– Значит только ради этого стоит напрячься, так?
Томас нахмурился на меня.
– Думаю, да.
– Кроме прочего ты знаешь, что, если начать заниматься в зале усерднее прежнего, можно стать быстрее, а я знаю, что ты станешь сильнее.
– Думаешь, я смогу бегать быстрее, чем прежде?
– Я не знаю, зато не сомневаюсь, что если ты не начнешь трудиться, то рискуешь провести всю оставшуюся жизнь на костылях или в таком же кресле, как сейчас.
Он взглянул на свою сестру.
– Это правда? Могу я остаться в кресле навсегда?
– Если не станешь заниматься физиотерапией и в зале, не знаю, Томас, и это правда, но все может закончится так плохо, как говорит Анита. Это один из вариантов развития событий, если ты не поможешь нам помочь тебе.
– «Помоги нам помочь тебе» – это все чушь, – вмешалась я. – Тебе тринадцать, ты уже достаточно взрослый, чтобы помочь себе самостоятельно, если вообще собираешься.
– Что значит «если я вообще собираюсь»?
– Это определяющий момент в твоей жизни, Томас. Ты можешь собраться и сделать для себя все возможное, а можешь начать жалеть себя, ничего не делать, и когда Мерседес будет выходить замуж, ты сможешь проехаться к алтарю на инвалидной коляске. Может, Мэнни подарит тебе одну из тех спортивных колясок.
– Ты пугаешь его, – ахнула Мерседес.
– Хорошо, он должен быть напуган, – я наклонилась, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. – У тебя есть выбор, Томас, это твоя жизнь. Можешь оставить себя на всю оставшуюся жизнь калекой, а можешь бороться за возможность бегать, но не вини в этом того, кто подстрелил тебя, ведь, если бросишь физиотерапию и тренажерку, если ты не приложишь усилие, это будет полностью твоя вина.
– Он подстрелил меня! – в ярости прокричал он.
– Да, но тебе решать, быть его жертвой или нет.
– Что это значит? Я жертва. Он стрелял в меня.
– Он подстрелил тебя, но не убил. Он не отнял твою жизнь, а значит у тебя все еще есть шанс получить все, что у тебя было и даже больше. Но если ты не приложишь усилие, чтобы выкарабкаться, тогда плохой парень победит, Томас. Он победит, если ты сдашься, но если ты постоишь за себя, тогда победишь ты, потому что ты вернешь все, что он пытался отнять у тебя. Он проиграет, если ты хотя бы попытаешься, но если ты даже не попробуешь, тогда ты навсегда останешься его жертвой.
– Я не жертва, – сказал он с вновь вернувшейся злостью.
– Докажи: отправляйся на физиотерапию, отправляйся в зал, когда врачи скажут, что уже можно или нужно. Усердно трудись, потому что только так ты вернешь себе свою жизнь, только так ты превратишься из жертвы в выжившего.
– Мне больше по душе слово «счастливый», потому что я не просто выжил, я еще и стал счастливым, – сказал Мика.
– О чем ты? Ты почти как король оборотней, и у тебя есть Анита.
Я не была уверена, как относиться к тому, что меня отнесли к одному из достижений, или к тому, что Натаниэля не было в этом списке.