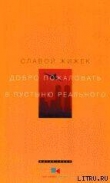Текст книги "Очерки становления свободы"
Автор книги: Лорд Актон
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Справедлива ли эта теория о смешении народов, вопрос другой. Швеция дает пример устойчивой демократии, хотя едва ли можно говорить о наличии в ней смешанного населения. Но несомненно, что опыт истолкования истории привел Актона к мысли о предпочтительности федеративных государств типа Швейцарии или Соединенных Штатов, когда речь идет о защите интересов личности и меньшинств. При жизни Актона протекал процесс объединения Германии, причем историк не считал целесообразным, чтобы этот процесс зашел слишком далеко, ибо предвидел угрозу безопасности Европы. В целом же он полагал, что федеративные структуры благотворно скажутся на ходе цивилизации, ибо когда два или более народа живут в рамках одного государства, под единым правительством, культурные взаимовлияния по-разному одаренных племен, дополняя друг друга, способствуют здоровому развитию общества как целого. «Именно в плавильном тигле государства происходит слияние, при котором бодрость, осведомленность и способность одной части человечества передается и становится достоянием другой.»[21]21
Fears 1,426, Национальное самоопределение, см. стр. 127.
[Закрыть]. Возможно, что, отправляясь от тех же посылок, Актон почерпнул бы немало воодушевления в 1990-х, наблюдая процесс продвижения Западной Европы в сторону федерализма.
Сочинения Актона насыщены ассоциациями, намеками и отсылками, изобилуют обобщениями, построенными на широком владении материалом. Иногда его документированные построения глубоки, детальны и энциклопедичны, иногда же они только широки. Он упоминает больше имен, чем того требует изложение. Порою его обобщения остро нуждаются в поправках с позиций более позднего критика, знающего последующий ход истории. Современному историку хотелось бы видеть в некоторых местах текста примечания и ссылки, подтверждающие то или иное суждение. У Актона мы находим утверждения излишне однозначные: точка зрения оказывается непременно или либеральной, или точкой зрения вигов; Карл II был «никчемным королем», английская революция 1688 года была громадным успехом цивилизации («неяркой зарей, занявшейся в преддверии сияющего дня»).[22]22
Fears 1,43–45; см. стр. 90.
[Закрыть]
Можно ли считать, что абсолютная власть хотя бы в некоторых обстоятельствах, особенно во время кризиса, оправдана – оказывается лучше всякой другой? Этого Актон допустить не мог. Перед ним был пример Неаполитанского королевства, где при дворе одного из царствовавших там Бурбонов его родной дед с успехом исполнял обязанности премьер-министра. Король неаполитанский считал, что его народ настолько беден, угнетен и невежествен, что попросту не может участвовать в политической жизни страны. Даруйте ему демократические институты – и вы своими руками расколете общество, посеете в нем вражду, а возможно и кровопролитие. Куда лучше удержать всю власть, дать стране хорошее управление, укрепить общественный порядок, сделать все мыслимое, чтобы умерить страдания и нищету народа, строить школы, способствовать народному просвещению.[23]23
Cf Fears 1,496.
[Закрыть] Актон мог с полным правдоподобием нарисовать портрет абсолютизма, он знал, что в проникнутом коррупцией мире этот метод управления был недееспособной иллюзией.
Актон был убежден, что свобода печати – необходимое условие развития свободы гражданина и поэтому не предусмотрел никакой концепции на случай подавления или притеснения прессы. Он, кроме того, был убежден, что поскольку поиски свободы сосредоточены в индивидуальном сознании человека, то основной движущей силой этих поисков является религиозное сознание; для исторического подтверждения этого вывода он приводил данные о длившейся после Реформации борьбе за религиозную терпимость; именно исходя из этого он утверждал, что положение религии в государстве имеет первостепенную важность для сторонников свободного общества. «Религиозная свобода есть созидающее начало свободы гражданской, тогда как гражданская свобода есть необходимое условие религиозной.»[24]24
Fears 1,47; см. стр. 92.
[Закрыть] В своей работе Политические мысли о церкви он формулирует это в следующих простых словах: «Религиозное сознание абсолютно. Поэтому оно требует пространства для свободы личности. Мы не можем не делать всего, что нам под силу, для расширения пространства, внутри которого мы вольны жить и действовать, сообразуясь с нашей совестью.» Поэтому «церковь не терпит тех разновидностей государства, в которых это право не признано. Она – непримиримый враг государственного деспотизма».[25]25
Fears 3,29.
[Закрыть]
Актон твердо держался того мнения, что ни один правитель, будь то законный монарх или диктатор, не вправе осуществлять свою волю без согласия народа, и что народ может свергнуть правителя, нарушающего это условие и пытающегося превратить свою власть в тиранию, даже если он получил ее на законном основании. С одной стороны, он был убежден, что государство, в котором существует пропасть между богатыми и бедными, не является справедливым, ибо не может не стать в итоге государством, где бедных угнетают; с другой стороны он полагал, что коммунистическая доктрина всеобщего равенства осуществима только посредством тиранической власти и, следовательно не может обеспечить действительной свободы. О французской революции, начавшейся такими возвышенными надеждами, а закончившейся террором, он сказал: «страсть к равенству погубила надежды на свободу».
Стиль Актона отмечен любовью к эпитетам в превосходной степени, по временам иносказательным и несколько таинственным: «знаменитейший из гвельфских писателей» (Фома Аквинский), «одареннейший писатель среди гибеллинов» (Марсилий Падуанский), «знаменитейший из ранних философов» (Пифагор), «мудрейший человек в Афинах» (Солон), «замечательнейший из английских писателей двенадцатого века» (Джон из Сэйлсбери), «наиболее образованный из англиканских прелатов» (архиепископ Ашшер) и «талантливейший из французов» (Боссюэ), «самый даровитый руководитель, когда-либо выдвинутый революцией» (Кромвель), «самый популярный из епископов» (Фенелон), «самый чистый консервативный разум» (Нибур), «самый высокоумный из греческих тиранов» (Периандр), «величайший теолог своего времени» (Жерсон), «самый знаменитый роялист Реформации» (Шатобриан), «замечательнейший и с наибольшей полнотой изученный из людей, принадлежащих истории» (Наполеон); наконец, Людовик XIV, «причинивший своей властью столько страдания и наделавший столько ошибок», как ни один из тиранов. Эта стилистическая особенность обнаруживает ту же склонность ума и тот же интеллектуальный навык, которые побудили Актона составить список «ста лучших книг».
Эта расположенность к абсолютизации, к безоговорочным суждениям не вполне согласуется с его собственными принципами писания исторических сочинений. Его учителем был Леопольд фон Ранке, его идеалом – образец беспристрастной и бесцветной истории, в котором историк полностью отсутствует, так что в конце концов мы можем достичь того состояния непредвзятости, той глубины знания всех относящихся к делу фактов, при котором представители двух во всем противоположных точек зрения, систем образования и культурных основ полностью сойдутся в своем суждении об исторической личности: христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Лютера, патриот французский и патриот немецкий – Наполеона.
Актон отстаивал этот невозможный идеал, как если бы он был достижим, но сам не предпринимал серьезной попытки воплотить его в своих трудах. Происходило это вовсе не из-за его слабости как историка, но благодаря нравственному принципу, пронизывающему все его сочинения. Нравственное суждение не допускает никакой относительности. Историк, утверждал Актон, не должен подыскивать оправдания людям путем помещения их в контекст их собственного времени. Существует абсолютная и вечная мера нравственности, по отношению к которой немыслим никакой компромисс. На историка возложена задача в высшей степени существенная: его предмет не только рассказывает людям, откуда они взялись, тем самым помогая им уяснить свою природу и избежать чувства беспочвенности и отсутствия корней; не только до известной степени указывает современникам возможности, позволяющие избежать ошибок во внешней политике, законодательном творчестве и социальной политике, – он, кроме того и в первую очередь, является арбитром нравственного прогресса и нравственного преуспеяния человечества, так что благородное и возвышенное призвание историка попросту несовместимо с компромиссом.
По временам читатели будут, надо полагать, раздражены обобщениями Актона, а в иных местах – непрозрачностью его идей или их изложения. Но они не пожалеют об усилиях, положенных на чтение этой книги. Ибо каждого, кто сделает попытку понять его, Актон заставит неотступно и настойчиво размышлять о важнейших причинах политических перемен в обществе, о том, как лучше и достойнее их осуществлять и развивать, о том, что следует выбрать в качестве целей политических и законодательный усилий, и – что важнее всего – о месте нравственности в политике. Именно эта нравственная одаренность поставила его труды выше интересов историка девятнадцатого столетия, превратив его в мыслителя, выдержавшего испытание временем.
Январь 1992,
Оуэн Чадвик,
Кембридж Regius Professor Emeritus of Modem History, University of Cambridge.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
При жизни Актона печатались только отдельные его очерки и обзоры в различных журналах; кроме того, вышла в свет одна брошюра. После смерти историка двое его учеников, Дж. Н. Фиггис и Р. В. Лоренс, опубликовали четыре тома его сочинений:
– Lectures on Modem History, London 1906.
– Historical Essays and Studies, London 1907.
– The History of Freedom and Other Essays, London 1907.
– Lectures on French Revolution, London 1910.
Важным современным изданием очерков Актона является книга
– Selected Writings of Lord Acton, edited by J. Rufus Fears, 3 volumes, Indianapolis 1985.
Постраничные примечания во введении делаются на это издание.
Актон был автором интереснейших писем, посмертные коллекции которых обнажают ход его мысли. Познакомиться с ними можно главным образом по следующим четырем изданиям:
1. Дочь Гладстона, Мэри Дрю, разрешила Герберту Полу опубликовать большую часть писем Актона к ней, которые и появились под его редакцией в издании: Letters of Lord Acton to Mary, daughter of W. E. Gladstone, second edition, London 1913.
2. После издания очерков Актона Фиггис и Лоуренс подготовили к печати первый том его писем: Selections from The Correspondence of the first Lord Acton, London 1917.
3. Виктор Концемиус издал три тома переписки Актона с его учителем Доллингером: Ignaz von Dollinger – Lord Acton: Briefwechsel 1850-90, Munchen 1963–1971.
Это превосходно выполненное издание является наиболее важным для понимания мыслей Актона.
4. Josef L. Altholtz, Damian McElrath and James C. Holland. The Correspondence of Lord Acton and Richard Simpson, 3 vols, Cambridge 1971-75.
Исследования:
Лучшей биографией по сей день остается работа Гертруды Химмелфарб:
– G. Himmelfarb, Lord Acton: A Study in Conscience and Politics, Chicago 1962.
О либеральном католицизме:
– Josef L. Altholtz, The Liberal Catholic Movement in England, London 1962.
Характеристика личности Актона, его отношения с Гладстоном:
– Owen Chadwick, Acton and Gladstone, London 1976.
ОЧЕРКИ
ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ СВОБОДЫ[26]26
Прочитана 26 февраля 1877 года перед членами Бриджнортского института.
[Закрыть]
Вслед за религией, свобода была и остается побудительным началом добрых поступков и обиходным оправданием преступлений. Так повелось с древности, с той поры, как ее семя упало в аттическую почву 2460 лет назад; так это и в наши дни, когда народы европейской расы вкушают собраный с ее древа урожай. Свобода – изысканный плод зрелой цивилизации; но едва ли столетие миновало с тех пор, как народы, уразумевшие смысл этого слова, решились быть свободными. В каждую эпоху на пути свободы стояли ее естественные враги: невежество и предрассудки; страсть к завоеваниям и любовь к праздности; жажда власти, присущая сильным, и потребность в хлебе насущном, ведущая слабых. Случалось, развитие свободы останавливалось на долгие годы и десятилетия – когда народы бывали поглощены борьбой с варварством или иноземными захватчиками; когда беспрестанная борьба за существование, лишая людей всякого понимания политики и интереса к ней, заставляла их искать случая продать свое первородство за чечевичную похлебку и оставаться в полном неведении относительно отброшенного ими драгоценного достояния. Во все времена искренние друзья свободы были редки, и всегда она торжествовала усилиями меньшинства, одерживавшего верх благодаря союзу с помощниками, чьи цели зачастую отличались от его собственных; да и союз этот, всегда опасный, по временам становился гибельным, ибо противникам давал почву для противостояния, а между победителями разжигал распри над трофеями в самый час победы. Ни одно из препятствий не было столь неизменным и столь труднопреодолимым, как неопределенность понятия подлинной свободы и замешательство при выяснении ее сущности. Сколь ни велик ущерб от столкновения враждующих сторон, преследующих противоположные цели, ущерб от ложных идей – еще значительнее; его шествие по дорогам истории прослеживается как в накоплении познания, так и в исправлении законов. История общественных установлений есть часто история заблуждений и иллюзий; ибо достоинства наших установлений зависят от идей, положенных в их основу, и духа, охраняющего их целостность; их форма может оставаться неизменной, в то время как сущность утрачивается.
Несколько хорошо известных примеров из политической жизни нового времени пояснят, почему центр тяжести моей аргументации я выношу за пределы области законодательства. Часто приходится слышать, что наша конституция обрела свое формальное совершенство в 1679 году, когда был издан Закон о неприкосновенности личности. Однако тотчас явился Карл II, всего два года спустя объявивший себя независимым от парламента. В 1789 году, в то самое время, когда в Версале заседали Генеральные штаты, – съехались после перерыва в несколько поколений и испанские Кортесы. Это почтенное собрание, возникшее прежде Великой хартии вольностей и нашей Палаты общин, немедленно обратилась к королю с нижайшей просьбой: воздерживаться от консультаций с его членами и проводить реформы, отправляясь от державной воли и мудрости его величества. Согласно общему мнению, непрямые выборы – гарантия консерватизма. Между тем все ассамблеи времен Французской революции были избраны непрямым голосованием. Другой признанной опорой монархии является ограничение числа избирателей. Но парламент Карла X, повторно избранный девяноста тысячами граждан, поднялся против своего суверена, опрокинул его трон и высказался за республику, – тогда как парламент Луи-Филиппа, избранный в соответствии с конституцией, предоставившей право голоса двумстам пятидесяти тысячам граждан, раболепно поддерживал реакционную политику его министров, – и его фатальный раскол, закрыв дорогу реформе, поверг монархию во прах и дал возможность Гизо получить большинство в 129 голосов государственных служащих. Законодательный орган, члены которого не получают жалованья, по вполне очевидным причинам является более независимым, чем большинство законодательных собраний континентальной Европы, где депутаты находятся на содержании государства. Но это правило теряет силу в Америке, где было бы крайне неразумно посылать представителя за тридевять земель от дома, на расстояние, не уступающее расстоянию отсюда до Константинополя, – с тем, чтобы он в течение целого года жил в самой дорогой из столиц за свой счет. Согласно закону и при взгляде со стороны американский президент является наследником Джорджа Вашингтона, и отпущенная ему власть все еще ограничена Филадельфийской конвенцией. В действительности же новый президент в такой же мере отличается от администратора, каковым глава правительства мыслился отцам республики, в какой монархия отличается от демократии, – недаром ожидается, что он произведет 70 тысяч перемещений и назначений в общественном секторе, тогда как пятьдесят лет назад Джон Куинси Адамс уволил в свое президентство только двух человек. Кажется вполне очевидным, что покупка судебных должностей не имеет ни малейшего оправдания – и все же во времена старой французской монархии именно эта чудовищная практика создала единственную в стране корпорацию, способную противиться воле короля. Коррупция в официальных кругах, которая разрушила бы республику, в страдающей от абсолютистского гнета России предстает как благостная отдушина. Существуют условия, при которых едва ли преувеличением будет сказать, что самое рабство на определенном этапе есть путь к свободе. Именно поэтому мы на нашем сегодняшнем заседании менее озабочены мертвой буквой эдиктов и статутов, чем живой человеческой мыслью. Сто лет назад каждому было известно, что за одну аудиенцию у чиновника канцлерского суда приходится платить как за три, – и никто не обращал на эту гнусность внимания, пока одному молодому юристу не пришло в голову, что следовало бы поставить под вопрос и подвергнуть самому взыскательному и детальному рассмотрению самую систему, при которой возможны подобного рода вещи. Тот день, в который эта мысль сперва забрезжила в сознании, а затем озарила ясный и суровый ум Иеремии Бентама, в политическом календаре значит больше, чем все без изъятья дни властвования многих политических деятелей. Не составит большого труда отыскать несколько строк у Блаженного Августина или фразу из Гроция, которые перевесят постановления пятидесяти парламентов. Наше правосудие большим обязано Цицерону и Сенеке, Вине и Токвилю, чем законам Ликурга или пяти кодексам Франции.
Под свободой я понимаю гарантию того, что каждый человек, по велению долга и совести выступивший против власти или большинства, против обычая или общественного мнения, обладает социальной защищенностью. Государство определяет обязанности граждан и намечает границу между добром и злом – но лишь в самом общем виде, так что и в том, и в другом его компетенция не простирается далее весьма тесной сферы. За пределами, установленными необходимостью поддержания своего благоденствия, государство может оказывать людям лишь косвенную помощь в той непрестанной борьбе, каковой всегда является человеческая жизнь, – и помощь эта сводится к поощрению начал, удерживающих человека от дурных поступков и влечений: в поощрении религии и просвещения, в распределении общественного богатства. В древности государство присваивало себе права, на деле ему не принадлежащие, и тем самым вторгалось в область личных свобод. В средние века оно обладало слишком незначительной властью – и позволяло вторгаться в эту область другим силам. Государства нового времени постоянно впадают то в ту, то в другую крайность. Наиболее убедительным показателем, по которому мы судим, является ли государство действительно свободным, есть та степень безопасности, которой в нем пользуются меньшинства. Свобода, по этому определению, есть существенное условие веры и ее попечительница, – соответственно, и первая иллюстрация моей теме содержится в истории избранного народа. Государство древних евреев представляло собою федерацию, державшуюся не на политическом авторитете власти, а на племенном и религиозном единстве, и основанной не на применении силы, а на добровольном завете с Богом. Принцип самоуправления осуществлялся не только в каждом колене израильском, но в каждой группе, состоявшей из по меньшей мере 120 семей; перед лицом закона не было ни привилегий, вытекающих из общественного положения, ни неравенства. Монархия была столь чужда примитивному духу общины, что вызвала к жизни знаменитый протест пророка Самуила и его же предостережение, оправданное впоследствии всеми царствами Азии и многими королевствами Европы. Трон опирался на соглашение, и царь не получал вместе с ним права предписывать законы народу, не признающему иного законодателя, кроме Бога, народу, чьей высочайшей политической целью было восстановление общественного уклада в его первозданной чистоте и создание правительства, отвечающего освященному небом идеалу. Одержимые духом подвижники, взращенные под сенью непрерывной череды пророчеств против узурпации и тирании, неизменно призывали помнить, что законы даны небом и стоят выше греховных земных правителей; эти люди отвращали взгляд от преходящей земной власти, от царя, священнослужителей и сильных мира сего, и обращали его к целящим силам, дремлющим в целомудренной совести народных масс. Так библейский народ своим примером проложил пути, аналогичные всем последующим путям обретения свободы, создал доктрину национальной традиции и доктрину ниспосланного свыше закона: принцип, согласно которому конституция вырастает из корней, формируется не в результате крутых перемен, но в процессе развития; а также принцип, утверждающий, что всякая политическая власть подлежит оценке и преобразованию в соответствии с предписаниями закона нерукотворного. Действие этих принципов, в согласии или в рассогласовании, занимает собою все то пространство, которое мы собираемся вместе пройти.
Столкновение между свободой, процветающей под установлениями божественной власти, и абсолютизмом земных правителей обыкновенно заканчивалось катастрофически. В 622 году верховной властью в Иерусалиме была предпринята чрезвычайная попытка преобразовать и тем уберечь государство. Первосвященник иерусалимского храма вручил царю и народу священную книгу – напоминание об оставленном и забытом людьми божественном законе, – и царь и народ торжественно поклялись соблюдать его. Однако этот ранний пример ограниченной монархии и главенства закона продлился недолго и распространения не получил, – и те силы, с помощью которых в итоге была завоевана свобода, следует далее искать в другом месте. В том самом 586 году, когда волна азиатского деспотизма захлестнула город, бывший – и вновь имевший предназначение стать – святилищем свободы на Востоке, росток свободы обрел себе новую почву на Западе, под защитой гор, моря и мужественных сердец другого народа; здесь было взращено это величественное древо, под сенью которого мы живем и поныне – и которое столь медленно, но столь же и несомненно, все более и более простирает над цивилизованным миром свои несокрушимые ветви.
Говоря словами знаменитого высказывания знаменитейшей писательницы континентальной Европы, свобода – установление древнее, а нов именно деспотизм. Новейшие историки гордятся тем, что доказали справедливость этой максимы. Эта истина нашла себе подтверждение в героическую эпоху Древней Греции, а в тевтонской Европе заявила о себе с еще большей наглядностью. Где бы мы ни проследили раннюю историю арийских народов, мы открываем зачатки того, что при благоприятных обстоятельствах и деятельной культуре могло развиться в свободные общества. Эти зачатки показывают наличие некоторого общего интереса к общественно важным вопросам, отсутствие чрезмерного почтения к внешней власти, неудовлетворенность работой государственной машины и главенствующей ролью государства. Там, где разделение собственности и труда не завершилось, там не вполне вычленились также и классы, и власть. До тех пор, пока общества не подвергаются испытанию сложнейшими проблемами цивилизации, они могут избежать деспотизма, – как общества, не возмущаемые религиозным многообразием, свободны от гонений. Говоря вообще, патриархальные формы не в силах препятствовать росту могущества абсолютистского государства там, где начинают заявлять о себе трудности и соблазны современной жизни; и едва ли возможно – за одним превосходным исключением, обсуждение которого не входит сегодня в мои планы, – проследить выживание этих форм в институтах последнего времени. За шестьсот лет до рождества Христова абсолютизм обладал неограниченной властью. На Востоке он неизменно находил поддержку жречества и армии. На Западе, где не было священных книг, требующих опытных интерпретаторов, и жречество не обладало таким влиянием, власть сверженного короля переходила в руки аристократии. В результате на протяжении многих поколений мы имеет примеры жестокого классового господства, угнетения богатыми бедных, невежественными – мудрых. Дух этого господства нашел себе страстное воплощение в словах аристократического поэта Феогнида, человека образованного и талантливого, который клялся, что готов пить кровь своих политических противников. Неудивительно, что многие граждане искали избавления от такого рода угнетателей в не столь невыносимой тирании революционных узурпаторов. Это лекарство придало старому злу новую форму и новый заряд энергии. Тираны часто оказывались людьми удивительных способностей и достоинств, пример чему дают некоторые из кондотьеров, в четырнадцатом столетии становившихся владетельными князьями итальянских городов; но права человека, основанные на равенстве перед законом и разделении власти, не осуществлялись нигде.
От этого повсеместного вырождения мир был спасен самым талантливым из народов. Афины, подобно другим городам сбитые с толку и угнетенные родовой аристократией, сумели избежать насилия – и поручили Солону пересмотреть древние законы ионийцев. Это был счастливейший выбор в истории. Солон оказался не только мудрейшим человеком в Афинах, но и величайшим политическим гением древности; и та естественная в своей простоте, мирная и бескровная революция, с помощью которой он избавил Аттику от тирании, стала первым шагом на пути, которым в своем торжестве следует наш век, – она учредила власть, способную сделать и сделавшую для возрождения общества более, чем какая-либо иная сила на земле, исключая лишь богооткровенную религию. Прежде верхушка общества обладала правом создавать и проводить в жизнь законы, – Солон оставил за нею это право, лишь передав богатству то, что прежде было привилегией родовитости. Только богатым было под силу нести бремя общественной службы, налогообложения и военных расходов, – и Солон предоставил им участие в управлении полисом, пропорциональное их достоянию. Бедные были освобождены от прямых налогов, но лишены права занимать общественные должности. Однако законы Солона давали им право голоса в народном собрании при выборе должностных лиц из числа представителей имущих граждан и право требовать от народных избранников отчета в их деятельности. Эта уступка, по видимости столь незначительная, положила начало далеко идущим переменам. Солон утвердил мысль о том, что человек должен обладать голосом при выборе тех, чьим моральным устоям и мудрости он вверяет свое состояние, свою семью и самую свою жизнь. Эта мысль совершила настоящий переворот в представлении о земной власти, ибо возвестила воцарение нравственного начала, поставив в зависимость от него всякую политическую власть. Место навязанного силой правительства заступило правительство общественного согласия; пирамида, стоявшая на своей вершине, была перевернута – и встала на основание. Дав каждому гражданину право находиться на страже своих интересов, Солон сделал первый шаг в сторону демократизации государства. Величайшая слава правителя, сказал он, состоит в создании народного правительства. Полагая, что ни одному человеку не следует доверять вполне и безусловно, он поставил власть имущих под бдительный контроль тех, кому они служат.
Прежде единственным известным средством умиротворения политических беспорядков было сосредоточение власти. Солон задался целью добиться того же результата путем распределения власти. Он вручил рядовым гражданам ту долю участия в делах государства, которой, как он полагал, они в состоянии распорядиться, – с тем, чтобы избавить государство от случайных и склонных к произволу правительств. Сущность демократии, провозгласил он, – не знать иного властителя, кроме закона. Солон выявил принцип, согласно которому ни одна из форм политической организации не является ни окончательной, ни сакральной, и каждая обязана сообразовываться с обстоятельствами; в деле пересмотра старых уложений и создания своей конституции он сумел обойтись без нарушения нормального течения жизни или политического равновесия – и в общем показал себя столь блистательно, что спустя целые столетия после его смерти афинские ораторы приписывали ему и утверждали его именем всю без изъятья структуру афинского законодательства. Самое направление развития этого законодательства было определено основополагающей доктриной Солона, согласно которой политическая власть должна быть пропорциональная общественному служению. В ходе Персидской войны демократические учреждения оттеснили систему подчинения эвпатридам, – и на флоте, очистившем Эгейское море от азиатов, служил и воевал беднейший афинский люд. Этот класс, чье мужество спасло государство, а с ним и развитие европейской цивилизации, завоевал себе в обществе право на большие влияние и привилегии. Государственные должности, прежде бывшие монополией богатых, внезапно открылись бедным, – и чтобы гарантировать им участие в управлении, все магистраты, кроме наивысших, стали распределяться по жребию.
В эпоху увядания древней власти не существовало признанного стандарта нравственного и политического права, исходя из которого могли бы складываться динамичные, быстро приспосабливающиеся к переменам общества. Нестабильность, характерная для структур этого периода, поставила под угрозу самые принципы управления. Национальные культы вызывали все большие сомнения, а сомнение пока еще не прокладывало путей познанию. В прежние времена нормы общественной и частной жизни воспринимались как воля богов, – но эти времена миновали. Бесплотная богиня Паллада афинян и солнечный бог Аполлон, чьи оракулы, изрекавшиеся в святилище между двумя вершинами Парнаса, так много сделали для греческого народа, – способствовали поддержанию возвышенного религиозного идеализма; однако когда просвещенные греки научились прилагать присущий им изощренный дар размышления к системе наследственных верований, они быстро осознали, что бытующие представления о богах портят жизнь и ведут к общественному вырождению. Народная нравственность более не поддерживалась народной религией. Моральные предписания, за которыми больше не стояла воля олимпийцев, не находили себе подтверждения и в книгах. Не было освященного временем писания, истолковываемого знатоками, не было учения, свидетельствуемого людьми признанной святости, подобными учителям Востока, чьи слова и по сей день управляют судьбами почти половины человечества Усилие, предпринятое с тем, чтобы путем более пристального рассмотрения и точного размышления уяснить себе природу вещей, началось разрушением. Позже настало время, когда философы Портика и Академии развили предписания мудрости и добродетели в систему столь последовательную и всестороннюю, что почти не оставили работы христианским богословам. Однако тогда это время еще не пришло.