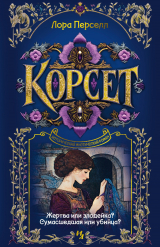
Текст книги "Корсет"
Автор книги: Лора Перселл
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
6. Рут
Я раскраивала отрез ситца. В ткань были вколоты иголки и булавки, а я стояла на коленях, пытаясь провести мелом четкую ровную линию.
– Начинай ближе к краю, девочка моя, – услышала я голос мамы, сидевшей у окна, – а то будет слишком много отходов.
Я кивнула ей в ответ, но не послушалась.
– Что-то мы стали расходовать больше материала в последнее время…
– Ой, извини, мама. Я еще не очень хорошо научилась кроить.
Мама потерла переносицу и вернулась к штопке чулок.
– Понимаю, милая. Я бы сама раскроила, если бы могла согнуться.
– Да, мама, конечно понимаю, ребенок уже слишком большой.
Вечно этот ребенок! Но на сей раз мне это на руку.
Наверное, намеренно раскраивать так, чтобы было больше отходов, – довольно глупая затея. Но коль клиенты миссис Метьярд одеваются в основном в шелка и батист, думаю, с нее не убудет, если я украду немного ситцевых обрезков. Из них получится прекрасная подкладка.
Я закончила размечать ситец мелом и отряхнула руки.
– Ну, вот.
– Отлично! Можешь теперь вырезать по меткам?
Я потянулась за ножницами – но нащупала что-то очень мягкое. Обернувшись, я увидела остаток отреза сатина нежно-персикового цвета. Ножницы так соблазнительно лежали у самого его края, что у меня даже руки задрожали.
Такой женственный и приятный цвет… Теплый, как дуновение весеннего ветерка. Цвет только что распустившегося бутона розы с капельками утренней росы. Мне захотелось потрогать эту ткань и стать, наконец, этой розой. Я осторожно подняла ножницы и начала тянуть на себя сатин, прикрывая его краем своего передника.
– Что-то сегодня совсем пасмурно и темно, – вздохнула мама. – Твоему отцу наверняка в его мастерской тоже не хватает света. А ведь ему так важно правильно передать на картине тени!
Медленно и очень осторожно я все тянула сатин на себя, собирая его в передник. Я улыбалась и чувствовала себя намного красивее просто от того, что трогаю эту прекрасную ткань.
– Тебе достаточно света, чтобы раскроить?
Чик-чик-чик! – ответили за меня ножницы.
– Только режь чуть дальше от линий – надо оставить материал и на швы!
Да к черту эти швы! У меня сейчас есть дела поважнее!
Кроить при таком тусклом свете – то еще занятие! Долгая и нудная работа. Ножницы кажутся свинцовыми и больно впиваются в пальцы. Глаза болят от напряжения так, словно их натерли наждаком. Я почти не вижу прочерченных мелом линий.
– Мне казалось, что у нас тут внизу еще есть свечи. Но коробка уже пуста, – сказала мама, со вздохом взглянув на меня. – А куда делись спички, ты не видела? Я обыскала всю кухню, но так и не нашла…
– Нет, я их не видела. Сходить за ними в лавку?
– Наверное, надо. Как ты будешь кроить в такой темноте?
Мама отложила шитье и стала искать мелочь. Она осматривала один карман за другим, но все они были пусты. Внезапно она резко остановилась и схватилась за живот.
– Мама? Что случилось?
Она не ответила, просто стояла с закрытыми глазами, прислушиваясь к чему-то, что происходило внутри нее.
– Мама?
Она вздрогнула:
– Все в порядке, Рут. Ребенок шевелится. Поднимись и надень капор, дорогая. А я пока найду мелочь на спички.
Прекрасно! Очень кстати!
Папа был в своей студии. Мимо его мастерской я шла осторожно, на носочках, и почти не дышала, все прислушивалась, не идет ли он к двери. Из студии донеслось что-то похожее на звон стекла. Потом я различила едва слышный вздох. И снова наступила тишина. Я прокралась в свою комнату и плотно закрыла дверь.
Старая рассохшаяся половица находилась как раз под моей кроватью. Обычно я ставила на нее ночную вазу. Я невольно чихнула, забравшись под кровать и далеко не сразу попав в щель ногтем. Там, под этой половицей, хранился мой клад: коробка спичек и несколько свечей, заботливо упрятанных под украденными кусочками ткани. Они были очень разные: мягкие и жесткие, темные и светлые, словно приготовленные для костюма арлекина. Я с нежностью перебирала их в тысячный раз. Такие непохожие друг на друга, разноцветные. Смешной и нелепый клад, но мой.
Но цель у меня была совсем другая: самой восстановить корсет.
Каждую ночь я втайне от всех работала над ним. И с каждым разом он все больше становился похожим на изящный дамский корсет. Правда, по форме он сильно отличался от того, что сломала на мне Розалинда Ордакл. Вставок было меньше, да и полоски для них были короче. Корсет этот змейкой обвивал мою грудь. Очень плотно.
Как ни старалась, я не смогла найти ничего, что могло бы послужить косточками для него. Но я придумала, как обойтись без жесткого каркаса! Вместо него будет шнуровка! Из мешковины, шелковых лент или просто клеенки. Вот она-то и добавит моей осанке благородства. И я сделаю ее своими руками: это будет мой труд, моя кровь, мое творчество!
Я добавила кусочек сатина к моим драгоценностям и уложила половицу на место. Выползая из-под кровати, я вспомнила лицо Розалинды Ордакл, державшей меня за корсет.
И снова услышала отвратительный треск ломающегося тростника. Меня обожгло чувство жгучего стыда…
Как ты думаешь, они теперь легко сломаются?
Нет, дорогуша, этот корсет ты уже не сможешь испортить.
Я поклялась себе тогда, что создам что-то, что будет таким же сильным и прочным, как моя ярость. Это будет не просто корсет. Не просто одежда, а нечто, что не сможет разрушить никто и ничто.
7. Доротея
По случаю моего двадцатипятилетия был устроен прием. Наверное, я должна быть благодарна отцу за то, что он решил потратить на это кругленькую сумму. Он даже нанял музыкантов! Но если быть честной, я уже, наверное, вступила в тот возраст, который леди предпочла бы не афишировать… Мне были противны физиономии больше чем половины тех «уважаемых» людей, которых отец считал необходимым пригласить. И уверена, что они, в свою очередь, и не посмотрели бы в мою сторону, если бы не то обстоятельство, что отец оформил на меня в завещании целое состояние. Как бы то ни было, я должна была писать эти тупые приглашения, обдумывать меню и составлять список необходимых продуктов и крепких напитков. Так что, если подумать, хлопотное это дело – организовывать прием.
В то утро я сидела за своим столиком из вишневого дерева и заканчивала писать записку, которую должна была отнести кондитеру Тильда. Наш повар, конечно, мастер своего дела, но ему не под силу приготовить изысканные меренги и пирамиды из разноцветного желе…
Вдруг раздался стук в дверь.
Уилки громко чирикнул.
– Войдите!
В мою комнату зашел папа, одетый в домашнюю куртку.
– Прости, что отвлекаю тебя, дорогая!
– Ничего, мне это даже на пользу сейчас. А то уже не только глаза, но и мысли слипаются от всех этих бланманже и штруделей.
Отец улыбнулся, увидев беспорядок на моем столе.
– О, Доротея, ты так увлечена составлением меню! Прямо любо-дорого смотреть! Ты жалуешься, что это отнимает слишком много сил. Но, мне кажется, гораздо лучше, если голова твоя будет забита десертами, чем этим, – съязвил отец, пренебрежительно кивнув на книжный шкаф, где теснились книги по френологии и фарфоровые френологические бюсты. И он еще не знает о настоящем человеческом черепе, надежно спрятанном в стенной нише! – Десерты – гораздо более приличная тема. И намного более спокойная.
Я поежилась. Прожив почти двадцать пять лет бок о бок с отцом, я успела уяснить: наши с ним мнения о том, что приличествует женщине, а что нет, в корне не совпадают. Он больше всего боится того, что о нем или обо мне будут судачить. Порой мне кажется, что правила и нормы высшего общества для него гораздо важнее библейских заповедей. И весь мир представляется ему парой огромных глаз, наблюдающих за нами денно и нощно. Я могу соглашаться или с пеной у рта приводить неоспоримые аргументы – но все будет напрасно. Он никогда не изменит своего мнения о женщинах. Так что лучше просто перевести разговор на другую тему.
– Ой, пап, хватит ворчать! – с улыбкой произнесла я, закатив глаза.
Слава богу, он не обиделся, а лишь рассмеялся, слегка откинув голову назад:
– Надеюсь, ты успеешь до начала приема научить меня тому, как стать более приятным собеседником?
– Я тоже надеялась. Но это… – Я с нарочитой брезгливостью указала на рукав его пиджака. – Старая прокуренная куртка в обществе настоящей леди! Фи! Моветон!
– Прости меня, Дора!
– Дотти! – попыталась поправить его я.
Но лучше бы я этого не делала. Улыбка мигом слетела с его лица.
– Ты же знаешь, я никогда не смогу тебя так называть. Дотти я называл твою маму…
Я осеклась и стала в задумчивости перебирать бумаги на своем столе. Очередная картина всплыла в моем сознании: мама сидит в кровати, опираясь на гору подушек, и хриплым, еле слышным голосом пытается что-то сказать мне. Лицо у нее нездорового желтоватого оттенка. Но даже тогда она казалась мне красавицей. Я никогда не испытывала страха, который часто возникает у детей в присутствии больных родственников. Я не боялась своей матери. Но у папы этот страх был. Я замечаю это по выражению его лица при каждом упоминании о маме. Он молчит, но молчание его очень красноречиво.
Папа откашлялся:
– Чуть не забыл: а ты заказала ньюкаслский пудинг? [9]9
Ньюкаслский пудинг, известный также под названиями «пудинг канцлера» и «кабинетный пудинг» – это традиционный английский десерт, представляющий собой бисквитный пудинг, который готовится в формочке на пару и подается со всевозможными сладкими соусами.
[Закрыть]
– Вы что, наконец распробовали его, сэр?
– Ты же знаешь, я равнодушен к сладкому. Но вот миссис Пирс обожает его.
Естественно, я была в курсе, что она тоже приглашена. Я ведь сама писала приглашение. Но меня все равно передергивало от одной мысли, что эта сухопарая чванливая дама с подведенными бровями и лошадиной челюстью будет придирчиво смотреть мне прямо в лицо. Ее называют обворожительной. А я не вижу в ней никакой красоты. Только безмерную заносчивость.
– Ах, боже упаси хоть чем-то не угодить миссис Пирс! – воскликнула я. – Особенно в мой день рождения!
– Это тебе не к лицу, Дора! Я знаю, тебя злит сама мысль о том, что я могу жениться снова. Но твою маму, увы, не вернуть…
– Миссис Пирс не будет тебе хорошей женой! – вспылила я. – Как бы ни превозносило ее общество! У нее вмятина вместо шишки супружеской любви, и область домоводства явно недоразвита!
– Твоя мама умерла уже достаточно давно, – продолжал отец без тени смущения, пропустив мои слова мимо ушей. – Ты никогда не думала о том, что очень скоро сама выскочишь замуж? И что? Я останусь тут совсем один?
Одиночество… Я слегка призадумалась. Рут Баттэрхэм в ее камере, мама на смертном одре – вот что было для меня примером настоящего одиночества. Папа имел в виду совсем не это. Просто в его ситуации некому будет играть на фортепиано, пока он читает свежую газету.
Уилки принялся увлеченно точить когти о кусочек наждачной бумаги.
– Я? Выскочу замуж? Скоро? Умоляю, скажи мне, за кого же? Первый раз слышу о такой перспективе. У тебя кто-то просил моей руки?
– Нет, конечно нет! – раздраженно отмахнулся папа. – Но ты должна как можно быстрее сделать выбор! Еще немного – и все станут за глаза называть тебя старой девой. Я сгорю от стыда! – Повисла небольшая пауза. – Но уж если совсем откровенно, я бы хотел, чтобы ты обратила внимание на одного мужчину.
О ужас! Опять! С каждым годом все труднее отваживать папиных кандидатов в мужья. Члены парламента, владельцы поместий, однажды даже появился какой-то граф! Но никто из них не сто́ит и ногтя моего Дэвида! Бич карманников и верный страж закона, он действительно хороший человек, делающий в своей жизни что-то по-настоящему важное и нужное. Я никогда не чувствовала к другому мужчине и малой толики того, что чувствую к нему. Но если отец сейчас заподозрит хоть что-то…
– Правда? И на кого же?
– Сэр Томас Бигглсуэйд – прекрасный мужчина, отличный охотник. У него обширные связи в обществе, и он владеет поместьем в Глостершире.
Я улыбнулась, но так натужно, словно эту улыбку вырезали на лице ножом.
– Глостершир! Бог ты мой! Как же далеко это от моего кабинета и моих любимых занятий!
– Пф… Ты думаешь, в Глостершире мало тюрем, которые давно нуждаются в ремонте?
– Думаю, достаточно.
Вдруг отец резко переменился в лице и бросил на меня весьма колкий взгляд:
– Послушай, Дора, не вздумай даже заикнуться о своих поездках в тюрьмы во время приема. И упаси тебя бог говорить об этом с сэром Томасом!
– Он что – не одобряет благотворительности?
– Я сейчас серьезно, Дора! Не вздумай рассказывать об арестантах, об этой твоей «науке» и прочем, что не приличествует женщине! Я сыт по горло всякими сплетнями и пересудами о нас. И не желаю, чтобы все вокруг стали говорить, что я не могу обуздать собственную дочь.
Я прикусила губу от гнева. Он что, всерьез думает, что держит меня в узде?
– Папочка, не беспокойся, никто не посмеет сказать ничего подобного. Ну что такого в том, что отец решил дать единственной дочери образование?
– В этом нет ничего предосудительного, но эти твои книги и… черепа… – Лицо папы начало багроветь от ярости. – Помнишь прошлое Рождество? Я уверен, что все до сих пор судачат о твоей выходке. А мне все еще приходится делать вид, что ничего особенного не произошло. Миссис Пирс это тоже совсем не понравилось. И нам еще повезло, что она настолько добра, что списывает все это на твою неопытность и продолжает с такой любовью относиться к тебе.
Нет, ну в чем же состоит моя вина, если молодые люди, бывшие уже явно навеселе, сами попросили меня пощупать их головы и рассказать о том, что выдает строение черепа каждого из них? Я просто поддалась на уговоры. Само собой разумеется, для меня не было никакого удовольствия трогать их напомаженные шевелюры!
– Прости, папа! Это же была всего лишь шутка!
Отец молча и внимательно смотрел на меня. Он нервно почесывал свой щетинистый подбородок. Я надула губы и постаралась придать своему личику выражение глубокого раскаяния, но мне показалось, что в этот момент он видел перед собой сразу двух женщин: одну он любил до дрожи, вторую он так же до дрожи боялся.
– Ты не помнишь этого, Доротея… – начал он, в задумчивости подкручивая усы. – Ты была еще слишком маленькой, когда твоя мама умерла. Ты этого не помнишь… Но твоя мама… так сильно изменилась перед смертью… Она стала такой… странной…
Я все прекрасно помню. Каждую черточку ее лица. Каждое сказанное ею слово. Но она никогда, до самой своей смерти, не казалась мне странной.
– Эта ее… внезапная набожность, взявшаяся невесть откуда. Ты только представь себе, как тогда реагировало на это общество. До принятия Билля об эмансипации католиков [10]10
Билль об эмансипации католиков – законодательный акт, принятый британским парламентом 24 марта 1829 года и существенно расширявший права католиков Соединенного королевства.
[Закрыть] было еще очень далеко. Когда она так внезапно перешла в другую веру… Весь свет отвернулся от нас.
Я предпочла отвернуться от папы, потому что не смогла скрыть гримасу возмущения. Выходит, мама должна была предпочесть мнение света спасению души?!
– Сейчас мне кажется, что это было началом болезни. Мне очень трудно вспоминать об этом, Дора. Но я должен сказать тебе это: твоя мама поставила меня в крайне неловкое положение, понимаешь? О нас поползли слухи!
Я так хотела возразить ему, и мне было что сказать! Но я с большим трудом сдержалась, стараясь говорить максимально деликатно:
– Сэр, вы совершенно правы. Это было уже очень давно. Сейчас ваше высокое положение в обществе непоколебимо. Вряд ли кто-нибудь осмелится осуждать вас за – как бы помягче выразиться – легкую эксцентричность вашей дочери.
– Не льсти себе, Дора! – Теперь в голосе отца звучал металл. – То, что ты называешь эксцентричностью, в обществе назовут дурной наследственностью. О тебе скажут, что ты вся в мать!
– Да? А в кого же мне еще быть?
Папа шумно дышал и молчал. Я прекрасно понимала, о чем он думает, и не могла больше сдерживаться:
– Пусть даже миссис Пирс согласится выйти за тебя, я никогда, слышишь, никогда не стану ей дочерью!
– Хватит, Дора! – закричал отец, хлопнув по столу так, что несколько бумажек слетело на пол. – Я больше не шучу! Ты будешь прилично вести себя на приеме! Будешь послушной девочкой, милой и обаятельной и постараешься понравиться сэру Томасу. Ты все поняла?
– Да, папа, вот только…
Но отец погрозил мне пальцем, прямо перед носом:
– И что бы ни случилось, кто бы что ни предложил тебе, ты ни за что не станешь обсуждать эти твои… головы!
– Да, папа, но…
– Никаких «но»!
С этими словами отец быстро вышел из моей комнаты, хлопнув дверью так, что бедный Уилки забился от страха в самый дальний угол клетки, нахохлился и задрожал.
Гордыня… Один из семи смертных грехов, между прочим. Хотя папу это совершенно не смущает.
Я и сама была разгневана. Сердце часто билось, и на языке вертелось много действительно не приличествующих порядочной женщине слов.
Но при этом я понимала, что надо остыть и все обдумать.
Слегка успокоившись, я достала из потайной ниши череп. Мне было приятно гладить его. Он казался таким легким, ведь ему не добавляли веса ни кожа, ни волосы, ни мозг. Я прижалась к нему лбом. Его прохлада успокаивала меня.
Темные, глубокие отверстия зияли там, где когда-то были глаза. Теперь внутри только серая пустота. От мыслей и страхов, которые некогда роились в этой голове, не осталось и следа. Не было ни волос, ни мышц – лишь голая кость. Какими ничтожными кажутся наши заботы, когда вся наша жизнь остается позади!
Уилки наконец перестал трястись от страха, снова взлетел на свою жердочку и принялся тихонько чирикать.
– Я знаю, мой дорогой! Ему просто не дано понять меня!
Убрав череп на место, я достала свое второе «сокровище». Бумага истрепалась на сгибах, а буквы выцвели от времени. В одном из углов виднелись небольшие пятна – похоже, мама пролила чай, когда читала. Я погладила именно это место, пытаясь хоть на миг ощутить тепло ее рук.
Эта брошюра первой попалась мне на глаза, когда отец попросил разобрать бумаги матери после ее смерти. Сверток был перевязан красивой ленточкой. Внутри были письма ее друзей и несколько набросков с различными силуэтами. А сверху лежала брошюра по френологии.
Как жаль, что мамы сейчас нет рядом. Мы бы вместе боролись за признание этой замечательной теории, которую я так детально изучаю в память о своей любимой матери. И на этом приеме мы бы вместе украдкой внимательно рассматривали голову каждого гостя. А потом я с большим удовольствием обменивалась бы с ней впечатлениями.
Интересно, изучила ли она в свое время голову папы? И увидела ли она в строении его черепа то, что вижу я?
8. Рут
Было уже около полуночи. Пустынные улицы освещал тусклый серп луны. И свет от него шел не белый и не серебряный, а какой-то болезненно-желтый.
Я сидела на холодном полу около окна, придвинувшись поближе к еле тлевшей тонкой сальной свече. От нее противно пахло жиром. Я очень боялась, что искры попадут на корсет, над которым я так долго работала. Но выбора не было. Мне требовалось хоть какое-то освещение.
Корсет лежал у меня на коленях, подобно телу птицы с распластанными крыльями. Он ждал, что я вдохну в него жизнь: продерну шнуровку, которая и придаст грации моей фигуре. И, может быть, работая над ним, я сама упаду бездыханной. Но других материалов, с которыми легче было бы справиться, у меня все равно нет и не будет.
Так уж вышло.
Старательно разгладив шнур, я просунула его в ушко толстой иглы для работы с гобеленовой тканью. Между подкладкой и внешним слоем прошила узкие канальцы, в которые предстояло продернуть шнур. Наконец мне удалось немного приподнять концом иглы верхний слой из нежнейшего персикового сатина. Я пропихнула иголку в канал и начала протаскивать ее.
Это было так же сложно, как тащить качающийся зуб. Стараясь действовать осторожно, я натягивала материал на шнур, но с каждым титаническим усилием он продвигался лишь на пару миллиметров. Пальцы были уже стерты почти в кровь, запястья ныли от боли. Но я понимала, что таковы правила этой игры: без боли и почти нечеловеческих усилий у меня не получится то, чего я так жажду. Я закусила губу и продолжала тянуть. Сильнее! Еще сильнее!
Примерно через час такой работы мои пальцы начали кровоточить и пачкать ткань. Мне хотелось сдаться и заплакать. Но я должна была взять себя в руки и терпеть! Именно сдавшись и не сдержав слезы, я позволила тогда этим тварям сломать мой корсет. Я больше не могу быть такой слабачкой. Сильнее! Еще сильнее!
На миг я представила, что этот шпагат обвит вокруг шеи Розалинды Ордакл, и снова потянула изо всей силы. Сильнее! Еще сильнее!
И вдруг услышала крик.
Я вздрогнула и, открыв глаза, принялась озираться в своей холодной мрачной комнате. Это не мог быть крик Розалинды, но он не приснился мне! Он явно доносился откуда-то снизу.
Я бросила корсет на кровать, схватила свечу и выглянула в окно. Улицы были все так же пустынны, их медленно окутывал густой туман.
И снова крик! Это где-то в доме!
Дрожа все телом, я приоткрыла дверь своей комнаты и выглянула в наш маленький коридорчик. Из-под двери родительской комнаты пробивался свет. Я услышала голос папы. Он был очень взволнован. Мама не отвечала.
Сердце забилось еще сильней. Это же не…
Мама снова закричала.
Я в два прыжка очутилась в комнате родителей.
– Мама!!!
Папа стоял в ногах кровати спиной ко мне. Его ночная рубашка была вся мокрая внизу и прилипла к ногам. Со стороны могло показаться, что он описался. Он что-то говорил маме, но это были не извинения. В его голосе не было стыда, только страх.
– Что мне делать? Джемайма, скажи, что я должен делать?
Из-за спины отца я не могла разглядеть маму.
– Папа, ради бога, что случилось?!
Он обернулся, пламя свечи закачалось. Я увидела, что низ его ночной рубашки был в кровяных разводах.
– Началось? Мама рожает?
– Да… Ребенок…
Я рванулась было к маме, но на секунду инстинктивно отступила: резкий животный запах ударил мне в нос. Вся кровать была в этой желто-кровавой жиже.
– Скоро! – еле слышно прошептала мама. – Совсем скоро!
Папа начал торопливо натягивать штаны.
– Я сбегаю за… За… Как их там зовут?
– Не надо! Ночь на дворе!
– Ну они же знали, на что соглашались. Миссис Симмонс, да?
Мама натужно улыбнулась:
– Миссис Симмонс с дочерью в Дорсете. Она полагала, что у нас еще есть пара недель.
– А вторая? Такая полная женщина?
– Миссис Винтер.
– Где она живет? Ах да! Я вспомнил. На, Рут, возьми! – Отец протянул мне горящую свечу и втиснул в дрожащие руки.
Я не понимала, о чем они говорят. Папа начал искать чистую рубашку. А я в ужасе смотрела на маму. Она лежала в таком неприглядном виде, раскинувшись в этой жиже. Хорошо, что больше никто не видит ее сейчас. Каждый раз, когда она стонала, ее набухшие груди так и ходили ходуном под мокрой рубашкой.
– Будь хорошей девочкой и поухаживай за мамой! – велел отец. – Я скоро!
Он взъерошил свои и без того растрепанные волосы и выбежал из комнаты.
От волнения у меня сильно зашумело в ушах.
– Не бойся, Рут! – прохрипела мама. Но от этого мне стало еще страшнее. Она выглядела такой обессиленной. – Рут, мы справимся, я и ты. Мы ведь уже справились с этим однажды. Только с тобой было намного легче. Да, дольше, но зато схватки были реже, а сейчас… А-а-а-а!
Собрав волю в кулак, я заставила себя подойти к маме, встала около нее на колени и взяла ее руку в свою. Она вмиг сжала мои пальцы, словно тисками.
Я не могла найти слов утешения или ободрения для нее, просто держала за руку и смотрела на нее. А она так тяжело дышала. Она ничего не говорила. Просто шумно вдыхала и выдыхала, словно пыталась вытолкнуть из себя эту боль. Казалось, прошла целая вечность. Я устала держать свечу и бросила ее в камин. Она упала в кучку золы и еле тлела там.
К тому времени как папа наконец вернулся, моя рука почти посинела от того, что ее все время сильно сжимала мама. Но я вмиг забыла об этой боли, когда отец произнес:
– Она не может прийти.
– Что?!
Это вскрикнула я. У мамы уже не было никаких сил.
– У ее дочки корь. Она не может оставить ее. И прийти к нам тоже не может – эта болезнь очень опасна и для беременных, и для новорожденных.
– Но она же обещала! Она должна!
Мы с папой долго молча смотрели друг другу в глаза. Первый раз за всю жизнь мы смотрели друг на друга так долго. А он, оказывается, выглядит моложе, чем я думала. Молодой и очень напуганный.
– Все нормально, – сказал он, наконец, скидывая обувь. – Джемми, все нормально. Мы справимся сами! Мы же никого не звали, когда ты рожала Рут, правда?
Думаю, мама заметила его наигранно бодрый тон, точно такой, каким родители обычно разговаривали со мной. Но она ничего не ответила. Казалось, она вообще не воспринимает нас сейчас. Схватки теперь накатывали, как волны, одна за другой.
– Дай-ка я взгляну, – проговорил папа. – Посмотрим, насколько продвинулся малыш.
С этими словами он отогнул одеяло и поднял мамину ночную рубашку, мокрую и запачканную кровью. На мгновенье я увидела сплошное красное месиво между ее ног. А посередине выступало что-то гладкое.
Я попыталась высвободить руку, но мама сжимала ее мертвой хваткой.
– Это голова, – со странной улыбкой сказал папа, словно это ужасающее зрелище доставляло ему эстетическое наслаждение. – Малыш выходит правильно, слава Богу! – Он взглянул на меня и заметил, как я побледнела. Я была близка к обмороку. – Прости меня, Рут! Наверное, тебе, такой маленькой девочке, тяжело видеть все это. Но мне нужна будет твоя помощь.
– Папа, беги за доктором! – умоляла я. – Роды начались раньше – значит, что-то может быть не так!
– Я не могу. Если б я только мог!
– Папа, попроси его приехать в кредит! Я с рассветом пойду в ломбард и заложу все, что у меня есть! Пожалуйста, спаси маму!
– Я не могу, Рут! Старый добрый доктор Барбер видел на прошлой неделе, как я едва не подрался с продавцом вина из-за долгов. Он не поедет к нам. Он понимает, что я не заплачу ему.
– Папа, что я должна делать?
– Пойди вскипяти воды. И маме нужно глотнуть чего-то крепкого, найди хоть что-нибудь. Хоть каплю вина. Или… Вроде у меня еще оставалось немного виски.
– Я не могу отойти от мамы!
Папа взглянул на мою ладонь, уже заметно посиневшую от маминой хватки. Она уже не кричала, а лишь хрипло стонала, шевелила губами, лепеча что-то бессвязное.
– Я посижу пока с ней.
Папа с большим трудом разжал мамины пальцы, высвободив мою ладонь.
Я выскочила из комнаты, не оглядываясь. Ноги были как ватные. Я боялась, что упаду с лестницы. Добравшись до своей комнаты, я рухнула на кровать и еле успела нашарить под ней горшок. В него меня и стошнило.
После этого стало немного легче. Я быстро достала рубашку из грязного белья и надела ее, а поверх накинула теплый платок.
Когда я спустилась вниз, все вокруг показалось каким-то нереальным: и липкая темнота в комнате, и пустынная ночная улица за окном. Я сама казалась себе нереальной, торопясь к колонке среди ночи со звякающим ведром.
Я надавила на рычаг, и колонка сердито забулькала, словно ворча, что ее разбудили в этот неурочный час. С полным ведром я заспешила обратно, и каждый шаг гулко отзывался в темноте. Вода выплескивалась через край и выливалась мне на ноги. С большим трудом я дотащила ведро до кухни.
Найти дрова, разжечь огонь и вскипятить воду оказалось не такой уж легкой задачей. Ну и хорошо! Это хоть как-то отвлекало от мрачных мыслей. Я старалась не думать о том, что происходит там, наверху, прислушиваясь к потрескиванию дров в камине, а не к звукам, доносящимся из комнаты родителей. Вина в доме не было ни капли, но мне удалось найти виски. Его оставалось примерно четверть бутылки. Помешкав секунду, я не стала наливать виски в стакан, схватила бутылку и поспешила в родительскую комнату.
Когда я шла наверх, ноги подкашивались еще сильнее, и я вся дрожала не столько от холода, сколько от страха. Что я там увижу сейчас?
Это было еще хуже, чем я представляла себе: мама стояла на четвереньках прямо посередине комнаты и мычала, словно корова на рынке. Спутанные волосы закрывали ее лицо, а сзади было просто бесформенное кровавое месиво.
Папа сразу выхватил бутылку виски из моих рук. Он сделал большой глоток и только потом поднес бутылку к губам мамы. Она попробовала отпить немного, но тут же закашлялась. Я поставила таз с горячей водой на пол.
– Ну что ты стоишь как вкопанная?! – закричал папа. – Неси чистое белье, перестели постель! И дай какую-нибудь тряпку помыть маму!
Мама снова взвыла от боли.
Он гладил ее по спине, напряженно вглядываясь в то, что было у ее между широко расставленных ног. Его лицо сморщилось, как печеное яблоко.
– Рут, как долго тебя не было?
– Не знаю… Может, час?
– Кажется, даже дольше… А ребенок так и не продвинулся.
Я позволила себе поплакать, меняя постель. Ни мама, ни папа не обратили на это никакого внимания. Мне казалось, что от этого станет легче. Но слезы принесли не облегчение, а лишь еще большую усталость и головную боль. Возможно, именно в этот момент я поняла истинный смысл фразы «слезами горю не поможешь».
Потихоньку занималась заря, хотя светлее не становилось. Просто иссиня-черное ночное небо постепенно серело. В комнате все казалось каким-то выцветшим и потертым.
Мама наконец перестала мычать, но от этого лучше не стало. Она совсем ослабла. Тело ее выглядело почти безжизненным, когда мы перетаскивали ее на застеленную свежим бельем кровать. Она просто упала туда, как мешок. Лицо ее было такого же цвета, как белая наволочка на подушке. Я положила руку на ее лоб – она горела в лихорадке.
Папа места себе не находил:
– Она совсем ослабла! У нее просто не хватит сил тужиться, чтобы вытолкнуть ребенка!
Я открыла окно. Одетые во все черное клерки шли мимо нашего дома, торопясь в свои конторы. Те же, кто работал у реки, направлялись в противоположную сторону.
Отец хлопнул рукой по подоконнику:
– Нет, больше мы ждать не можем! Придется мне взяться за нож!
– Нож!!!
– Ну посмотри сама! – велел мне отец, показывая рукой.
Преодолевая страх и отвращение, я снова посмотрела туда, где среди кроваво-красной, измученной маминой плоти был виден край головы ребенка.
– У нее неполное раскрытие, понимаешь? И у нее нет больше сил. Единственная возможность спасти ее и ребенка – сделать надрез!
Я вздрогнула от ужаса:
– Надрез?! Папа, не смей!
– Я должен!
– Она же истечет кровью и умрет!
– Рут! – Он положил обе руки мне на плечи и посмотрел так серьезно, как никогда раньше. – Рут, соберись! Как только я достану ребенка, тебе надо будет быстро зашить маму!
Если бы он не держал меня крепко за плечи, я упала бы в обморок.
– Зашить?! Маму?! Там, внизу?!
– Да! Иначе никак!
– Нет, папа! Я не могу! Папа, пожалуйста! Нет!!!
– Нам придется, Рут! Если мы не сделаем этого сейчас, и мама, и ребенок умрут!
В этот момент я ненавидела его. И маму тоже. Точнее, то изуродованное и почти бездыханное тело, которым она стала за эту ночь.
Отец вышел и скоро вернулся в комнату с перочинным ножом. Я взяла в руки игольницу, которая представлялась мне теперь набором орудий для пыток. Выбрав самую толстую иглу, я продела в ее ушко прочную толстую хлопковую нить. От волнения я не успевала сглатывать наполнившую рот слюну. Меня бросало в пот и тошнило от одной мысли о том, что предстоит сделать.








