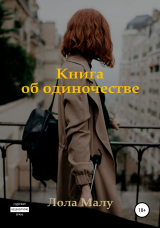
Текст книги "Книга об одиночестве"
Автор книги: Лола Малу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Прости, что засмеялась, но это было так, так… – начала Ритка, снова заливаясь смехом, но внезапно остановилась. – Прости еще раз, – сдерживая смешок, выдавила она. – Поможешь? – Протянула она мне свое белое пальто.
Гардеробщица задумчиво рассматривала нас со своего места.
Я проводил Ритку до дома. Жила она недалеко. По дороге рассказала, что учится на юриста – с детства мечтала быть адвокатом и помогать несправедливо обвиненным людям. Я неожиданно для себя влюбился, впервые за свою короткую жизнь по-настоящему.
Ее глаза были слишком сильно подведены, но зеленый их цвет выделялся лучше любой туши. Мы обменялись телефонами. И на следующий день она позвонила сама.
Мы начали встречаться. Каждый день после универа я бежал к ней. Мы много болтали и много целовались. Хотелось бросить все и уехать вдвоем далеко-далеко. Кажется, ей хотелось того же. И вот теперь она бросила все и уехала, а я остался.
Глава 3. Женщины
«Самая страшная, роковая ошибка для молодой девушки –
выйти за человека, причастного к искусству».
(Ричард Олдингтон)
Бабушка завещала свою квартиру мне, но по документам в права я мог вступить только после того, как мне исполнится 20 – наверное, она боялась, что я могу связаться с нехорошими людьми, и тогда квартира достанется какому-нибудь моему дружку-негодяю. Бабушка любила свою квартиру, хотя любить там особо было нечего – на стенах дешевенькие пейзажи в таких же дешевеньких рамках, скрипучая кровать, кипы газет 20-летней давности, книги деда, которые стали никому не нужны после его смерти.
Через неделю после моего 20-летнего юбилея я поехал домой, продал трехкомнатную квартиру бабушки какому-то местному бизнесмену и поехал с деньгами к Ритке. Мы съехали со съемной квартиры и купили крохотную однушку, с ободранными обоями и дырявыми окнами, зато почти в центре.
Мы расписались. Я был в джинсах, которые выстирал дважды, Ритка – в коротеньком платье цвета металлик. Работница загса едва слышно хмыкнула, но заготовленную речь оттарабанила полностью, разве что часть про гостей и родных опустила. Мы никого не позвали, хотели, чтобы это был только наш день, да и некого было звать. Ее родителям я сразу не понравился: помню при знакомстве мы молча пили горький чай на маленькой кухне, а потом отец пошел в зал и включил телевизор, дав понять, что вечер окончен. Ее мама была зашугана отцом, а значит ей я тоже не понравился. О моей же матери и думать было нечего. Близких друзей у нас не было. Мы стали лучшими друзьями друг для друга и были полностью поглощены нашей любовью. И мы были счастливы.
После загса пошли на последние деньги в кафе, пили шампанское и ели одно бисквитное пирожное на двоих. Это был лучший день в моей жизни.
Когда она забеременела после пары лет совместной жизни, я был счастлив. Конечно, боялся, конечно, был в шоке. Она, кажется, тоже была рада. Мы хорошо проводили те месяцы. Она дорабатывала до декрета секретарем в суде. Я писал книгу и подрабатывал в газете, мотался по литвечерам и брал интервью у всех, у кого только мог. Часто я даже не запоминал имен героев своих статей (а ведь все они были не последними людьми в их мирке), а если и запоминал, то забывал их сразу, как только номер выходил в печать. Ритка всегда ждала меня до позднего вечера, но часто засыпала на диване, обнимая живот. Я заходил в сумрак комнаты и выключал старенький телевизор – Ритка любила смотреть советские фильмы. Я целовал ее в лоб и садился на пол, прислонившись к спинке дивана – Ритка располнела и занимала почти все его небольшое пространство, а мне так не хотелось ее будить. По выходным мы много гуляли, ходили по кино и кафе, готовили вместе пиццу и пирожки с картошкой. Мы ждали Сашку так, как ждут детей в сопливых мелодрамах: разговаривали с ним, гладили его, включали ему классическую музыку и читали сказки.
Помню, как встречал ее из роддома. Она не давала мне Сашку. Крепко вцепившись в него, боясь поскользнуться на льду, неуклюже села в такси. Мы ехали молча, а усатый таксист болтал без умолку, то поздравляя нас, то рассказывая о своих пятилетних дочках. Ритка будто была не рада, невидящим взглядом смотрела сквозь запотевшее стекло на злые снежинки. Я видел только ее щеку и закрытый сверток. Приобнял одной рукой ее плечи, но она не прижалась ко мне, как всегда было раньше. Мне было невдомек, что с ней, я не мог понять и боялся спросить.
Когда мы расстались, и они уехали, в один из коротких телефонных разговоров я спросил у нее об этом. Она сначала сделала вид, что не помнит, но потом все-таки рассказала, что была зла на меня и обижена.
– Почему? – спросил я.
– К другим приходили мужья, приносили цветы и конфеты, а ты приходил в неприемные часы и оставлял пакеты вахтерше. Она передавала мне их полупустыми, забирая конфеты и мороженое. Я чувствовала себя ненужной тебе. Мне хотелось соленых помидоров, и ты, конечно, привозил их. Хорошо, что вахтерша их не любила. Но я ела их и не чувствовала удовольствия. – Ритка говорила так спокойно, как будто все это было не с ней. Я понял, что она по-настоящему далеко, что она теперь не в моем мире.
Что мне было делать? Я ведь зарабатывал как мог. Даже переводил по ночам тексты за одного раздолбая из другого отдела. Все для того, чтобы у Ритки все было: и самая вкусная еда, и техника, чтобы ей было легче. Я ругал себя потом, думал, что вот другие ведь успевали. И мне тоже следовало бы. Но потом я подумал, что женщины всегда чем-то недовольны. Если бы у нас не было большой стиральной машины, которую я купил в последний день перед выпиской, Ритка была бы зла на меня за это и на мое присутствие в роддоме ей было бы уже плевать.
Помню, как она неторопливо собирала вещи. Я лежал в кровати с ноутбуком, а она складывала на белую постель свои шмотки. Она любила красное – хотела кричать о себе всему свету. Красный свитер, красное белье, ту самую красную юбку, в которой была в день нашего знакомства, – все это она доставала из шкафа, раскладывала в моих ногах, а я делал вид, что не замечаю, что мне плевать, что я очень занят. Может, она хотела устроить скандал, но я не дал ей такой возможности. Потом она вытащила из кладовки свой огромный чемодан и аккуратно начала упаковываться. В этот момент в комнату забежал Сашка. Он с разбега прыгнул ко мне на кровать и уткнулся носом в мой локоть. И только тут он заметил Ритку.
– Мама… – в его глазах мелькнул лучик. – Мама…
– Сашенька, сынок, – Ритка улыбнулась и протянула к нему свои руки. Но Сашка продолжал сидеть у меня под боком и улыбаться, крепко схватив мой локоть.
– Мама, туту да?
– Да, малыш…
– Папа, – Сашка вдруг потянул меня за руку, – помогай маме… – Он продолжал тянуть меня, а я продолжал сидеть, и он недовольно пыхтел, пытаясь сдвинуть меня с места. Наконец Ритка схватила его в охапку и отнесла в зал. Включила мультики. Вернулась в комнату. А я наконец не выдержал. Захлопнул ноутбук и выбежал в подъезд. Стоя у подъездной двери, я снова почувствовал себя как в детстве, когда мать просила меня погулять. Была зима, я мерз, домой нельзя, и я снова один.
Ритка была чем-то похожа на бабушку. Те же мягкие руки, тот же мягкий свет в глазах, та же любовь к дождю. Помню, как первый раз пришел к ней домой, когда ее родители были на даче. На столе – пирог с апельсинами, чай, заваренный в фарфоровом чайнике персикового цвета, малиновое варенье, а за окном – ливень. Когда мы расстались, мне часто снилось, что Ритка кормит меня пирогами и поит чаем, гладя по голове. Во сне Ритка постепенно становилась бабушкой, и я вдруг тоже становился маленьким ребенком, и вся жизнь была еще впереди, долгая и чудесная…
Глава 4. Водка
«… все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему».
(Михаил Булгаков)
Иногда хватало сил выйти на ночной воздух. Брел до магазина. Стандартным набором стали сигареты, водка и плитка дешевого шоколада.
И да, я спивался. Литература больше не спасала. Читать чужое опостылело еще в институте. А теперь и свое писать с каждым днем было все отвратительней. Мой творческий процесс протекал таким образом: после долгой прокрастинации, разговоров с самим собой, буквального навязывания себе попечатать слова хотя бы две минуты, я садился за ноутбук. Водка стояла на столе и выжидающе поглядывала на меня. Стараясь не замечать ее, я писал один или два абзаца. Перечитав их, понимал, что это убожество. Водка продолжала ждать. Наконец я не выдерживал и делал большой глоток прямо из бутылки. Она жгла мне горло, но я точно знал, что должно полегчать. Не в работе, так в душе. Потом я пытался снова и снова, продолжая писать, стирая и начиная заново. Все это сопровождалось большими глотками. В конце концов я закрывал файл, не сохраняя его, захлопывал ноутбук и откупоривал новую бутылку. После кошмарной ночи я пытался вспомнить свои вечерние замыслы, но не мог выдавить из себя ни слова. Убивала фраза Хемингуэя «пиши пьяным, редактируй трезвым» – лишний раз убеждался, что я бесталанный, раз алкоголь мне не помогает. «Конечно, Хемингуэй пил мохито, а не паленый “Абсолют”…», – оправдывал я себя иногда.
От одиночества сходил с ума. Говорил сам с собой. Просто бормотал что-то несвязное, когда пил; вместо целых предложений появлялись лишь обрывки фраз, когда приходил в себя. Гюго писал, что человеку свойствен монолог, разговор с собой. Он думал, что для нас это диалог с богом, которого мы носим в себе. Спойлер: к богу еще иду.
Ритка звонила нечасто. Рассказывала, что Сашка выучил чешский алфавит и иногда спрашивает, когда приедет папа. В эти минуты я торопливо проталкивал слезы из горла к желудку, чтобы не разрыдаться Ритке в трубку к ее великому удовольствию и говорил, что может быть в следующем месяце, если издатель не будет торопить с книгой, приеду на выходные.
Никуда я не собирался. Даже желание обнять Сашку не могло меня туда вытащить. Сама мысль о том, что снова увижу бывшую и, возможно, Марека вводила меня в содрогание. Я ведь так и не набил ему морду, хотя по всем законам приличия следовало бы. Ритка досталась ему слишком легко. А Сашка… «Ему там хорошо», – убеждал я себя. Не хочу снова увидеть его пухлые щечки, огромные, полные детской наивности, глаза, понять, что он растет без меня, и скучать еще больше. Да и ему будет лучше помнить отца счастливым, без впавших глаз и потухшего взгляда. Я оправдывался, как мог. Но в самые темные ночи готов был лететь в аэропорт без чемодана и бутылки.
В редкие минуты просветления я понимал, что мне нужна помощь. Просветление приходило, когда я просыпался ранним утром на полу, обмотанный в грязное сырое полотенце, уткнувшийся носом в собственную рвоту. Однако осознание того, что мне нужна помощь не вселяло в меня других здравых мыслей. Я бухал еще больше, только чтобы забыть, как был отвратителен себе утром. Чем поганее было утро, тем дряннее был вечер. Я попал в тот самый ад, в который был уверен никогда не попаду. Сейчас вспоминаю дружков своей матери, их грязные рты и руки, сальные волосы, нечищеные ногти и понимаю, что в те месяцы был ничуть не лучше их. А может и хуже. Они хоть не притворялись интеллигентами, а признавали себя опустившимся быдлом. А я мнил себя писателем в творческом кризисе. «Еще чуть-чуть, – думал я, – последняя бутылка закончится и завяжу». Но когда заканчивалась предпоследняя, я бежал за новой, в ботинках на босу ногу, боясь, что придется исполнять свое обещание.
Одна из кассирш круглосуточного продуктового убивала меня своим видом. Фирменный маленький чепчик на ее голове круглил еще больше и без того круглое лицо, мягкие руки, каждый день прикасавшиеся к пойлу, на самом деле должны были лепить пирожки для внуков, а глаза ее словно обнимали, когда она поглядывала на меня, пока я считал наличные трясущимися руками. Может, я выдумал все это? Как я мог все это замечать в своем состоянии? Или же, наоборот, чувства мои были обострены до предела… Еще полгода назад я подходил к кассе только с фруктами да киндерами. Теперь кассирша лишь обреченно вздыхала, глядя на мою продуктовую корзину. Жалеющий взгляд ее, едва заметные покачивания головой и уставший вздох, мигающий блок света в потолке однажды наконец свели меня с ума, бешенство вселилось в глотку, и я заорал на нее: «Ну что ты так смотришь! И с хера вздыхаешь! И сдачу свою забери!» – задохнувшись, я ударил ее по руке, в которой она протягивала мне мелочь, монетки со звоном разлетелись по полу, но я уже выбегал из дверей, открывая на ходу бутылку.
Утром мне вдруг стало стыдно. Вспомнил ее глаза с застывшим испугом и то, как она ловила ртом воздух, словно пойманная рыба. Нагулявшись по периметру квартиры, я вышел в изморозь. Пальто от ветра не спасало, и ветер задувал мне под рваную майку, но я все же дошел до цветочного и купил ей ромашки. Увидев меня на пороге, она кинула взгляд на ромашки, но демонстративно отвернулась. «Я сам во всем виноват. Не надо меня жалеть», – попросил я ее затылок по возможности строго, положил цветы на кассу и ушел. Но, кажется, мои слова не возымели на нее действия: она, конечно, больше не вздыхала, но смотреть на меня стала так, как мать смотрит на своего нерадивого, но любимого ребенка, и так, как моя мать никогда не смотрела на меня. Этот взгляд резал сердце. Я ощущал его, даже когда не смотрел ей в глаза. В тяжкие минуты тоски я готов был разрыдаться в ее большое и теплое плечо.
В конце концов, я стал ходить в другой магазин. Надеялся, что кассирша долгими ночами будет оплакивать мою напророченную кончину. До следующего ближайшего магазина путь был длиннее: надо было обогнуть пару переулков и спуститься по тротуару вдоль проезжей части. Спуск был крутой и скользкий. Тротуар часто был не расчищен, и я шатался вдоль трассы, прижавшись плечом к метровым сугробам. Пару раз я чуть не угодил под машину, отхватив поток бессвязной ругани из салона.
В глухие вечера я шел один по пустой улице и ловил ртом снежинки, совсем как в детстве, когда мать забирала меня последним из детского сада. Снег падал из света фонарных лампочек, и мне казалось, что я герой сказок Андерсена.
В один из вечеров часов в десять я как обычно еле передвигал негнущиеся от холода ноги. Тротуар, наконец, расчистили, и в тот вечер я был обречен на жизнь. Вечер был тихим, автомобили бесшумно ползли через снежный поток, а я смотрел наверх. Вся беда большого города в том, что из-за фонарей не видно неба. Днем мы слишком заняты, чтобы посмотреть наверх и осознать свою ничтожность, по сравнению с необъятным миром. Ночью погружению в экзистенциальный ужас мешают фонари. Где-то давно я читал, что в больших городах специально оставляют на ночь подсветку витрин и домов, чтобы человеку было не так страшно смотреть из окна своего 25-го этажа на огромную, темную и ужасную землю и на еще более ужасное небо. Кажется, своя правда в этом есть. В любом случае, мы те, кто научились жить без неба и смотреть только себе под ноги.
Я смотрел вверх, пытаясь разглядеть, если не звезды, то луну, или хотя бы тучи, с которых сыпал тяжелый снег. Я слишком сильно запрокинул голову и упал. Удар макушкой о толстый лед под снегом отбил всю охоту вставать. Я решил отдохнуть: раскинув руки, глубоко вдыхал теплый воздух (еще в детстве знал, что когда идет снег, то становится теплее, именно поэтому не любил зимнее солнце: неестественно оно, когда просто освещает, но не греет – «мороз и солнце – не чудесно»). Мечтал так лежать еще, когда мне было четыре, но бабушка запрещала. «Простудишься и умрешь», – причитала она, с тяжелым вздохом поднимая меня, завернутого в полушубок. Я вспомнил эти ее слова и снова представил, что утром меня найдут вот такого: замерзшего, синего, мертвого. Я прикрыл глаза. Снег падал на веки и щекотал ресницы. Но я не хотел открыть глаз. Пропади все пропадом!
Я лежал, а снег все шел. Как мягкий пух он падал на меня и землю. Сквозь дрему я слышал шум редких машин, проезжающих мимо, и, кажется, уснул. Думая сейчас о том дне, пытаюсь припомнить ни проходил ли кто-то еще мимо меня, может недовольно ругнулся или просто остановился на мгновение, завидев мой распластавшийся силуэт, а потом осторожно обошел, стараясь не задеть, не разбудить. И все же надеюсь, что никто не проходил мимо. Вдоль трассы по ночам ходят разве что забулдыги да те, кто заглох посреди пути. Не хочу разочаровываться в людях, не хочу верить в то, что всем плевать друг на друга, плевать на несчастья других. Я верю в человека. Хоть и не верю в себя.
Наверное, я пролежал так около получаса. Мои ноги вконец онемели, пальцы рук, засунутые в карманы, замерзли, а губы спеклись. Во рту я ощущал невыносимую горечь, горло горело, а в голове мелькали слова: «Умрешь и простудишься. Умрешь и простудишься». Мне это казалось прекрасным началом для новой книги. Или даже заголовком.
В полудреме я слышал какой-то детский голос. Казалось, зовет Сашка, жалобно, протяжно. Я силился открыть глаза, но ресницы никак не хотели разлепляться. Пару раз я побеждал заиндевевшие прилипнувшие друг к другу веки, но они, открывшись лишь на мгновение, закрывались вновь. Голос продолжал звать меня, звал долго, и я наконец понял, что это не Сашка. В десятый раз разлепив веки, я наконец смог различить перед своим носом качающуюся прядь рыжих волос. С виду они были такие мягкие, такие невесомые, что я потянул к ним свои деревянные замерзшие пальцы и коснулся. Волосы на самом деле оказались мягкими. А может мне так просто показалось, пальцы-то совсем онемели. Я поднял глаза и увидел чье-то лицо. Совсем близко. Девушка, склонившаяся надо мной, сидела на коленях и держала меня за голову. Мне было трудно ее разглядеть: яркий свет фонаря за ее спиной ослеплял. Я лишь чувствовал теплые руки на своем затылке.
Что-то мягкое и большое легло мне на шею. Ее шарф оказался колючим, но теплым. Опершись локтями о холодную землю, я приподнялся. Она поддерживала меня за плечи. Глаза ее горели и кажется она готова была разрыдаться.
– Который час? – спросил я охрипшим голосом.
– По-моему, скоро одиннадцать, – ответила она, доставая из своего рюкзака термос. Протянула мне. В термосе оказался теплый горький чай.
– Вам лучше? – участливо спросила она.
– Да… Я шел в магазин и, видимо, упал, – медленно сказал я, так же медленно соображая.
– Сможете встать? – Она взяла меня под руку, помогая подняться. – Может лучше домой? – спросила она. – Зачем вам в магазин?
– Хлеб купить, – соврал я.
– У меня с собой есть хлеб и молоко, – ответила она. – Давайте я вас провожу. Судя по тому, как вы лежали, вы спускались вдоль дороги. Значит дом ваш в противоположном направлении. Мне тоже в ту сторону.
Она уже помогла мне встать и подхватила под локоть. Я невольно облокотился на нее, кажется, мои ноги были слегка обморожены, и ей пришлось приобнять меня, чтобы я не свалился в снег. Мы поднимались в гору молча.
«Однозначно она почувствовала, что от меня несет как от бомжа, – думал я. – Так зачем она остановилась? Зачем привела меня в чувство? Что ей нужно? А вдруг она бандитка и убьет меня в подворотне со своим подельником? А зачем? Денег у меня нет, только на водку и осталось в кармане», – все эти умозаключения зароились в моем замерзшем мозгу, и я только боязливо поглядывал на нее. Я молчал, стараясь дышать только носом, представляя, как она задохнется и упадет, если я выдохну ей в лицо многодневную смесь водки и сигарет. Она тоже молчала и совсем не смотрела на меня. Сбоку мне были видны ее прямой нос, снежинки на ресницах, высокий лоб, из ее губ струился пар, она тяжело дышала. Я видел, что ей трудно тащить меня в гору, но и отказаться от помощи не мог: ноги никак не могли согреться, пару раз я спотыкался и упал бы, если бы она не придерживала меня. В молчании, словно по интуиции, наконец мы добрели. Это был первый раз, когда девушка провожала меня до дома.
– Приятно было познакомиться. Возьмите, – она вытащила из огромного рюкзака хлеб и молоко. У меня не было сил с ней спорить.
– Спасибо, – пролепетал я.
– Героям тоже нужна удача, – улыбнулась она и растворилась в ночном снегопаде.
Я еще долго стоял у подъезда, вглядываясь в снежный поток. Наконец вошел в темноту подъезда и вызвал лифт. Героям нужна удача. Героям… удача… Знакомая фраза… Чертовски знакомая. Откуда это? Почему она мне это сказала?
Двери лифта открылись, и вдруг меня осенило. Это же из моей книги! Из второй! Или третьей? Нет, из второй. Про альпиниста. Откуда она знает? Черт возьми! Она поняла, кто я. Она узнала. Поэтому и пошла со мной.
Впервые за долгие месяцы я смог построить кривую, но логическую цепочку событий. Она шла по дороге – увидела человека – остановилась – узнала меня – решила помочь, решив, что я не сделаю ей плохого.
Я отворил дверь квартиры, скинул ботинки, сунул колючий шарф в рукав пальто, машинально открыл молоко, налил в стакан и сделал глоток. Я понял это только, когда проглотил. Молоко отдавало водкой из грязного стакана. Но все же это было молоко.
Я сильно замерз. И, похоже, чуть-чуть подвернул лодыжку, когда падал. Доковыляв до батареи, я сел к ней спиной и усмехнулся. Сам не зная чему. Тому ли, что меня впервые кто-то проводил до дома. Или тому, что лежал там и хотел умереть. Или тому, что впервые за три месяца выпил что-то еще кроме водки.








