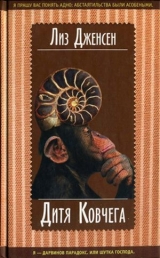
Текст книги "Дитя Ковчега"
Автор книги: Лиз Дженсен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 3
Cuisine Zoologique[6]6
Зоологическая кухня (фр.)
[Закрыть]
В Лондоне стоит промозглый февраль. Год все еще 1845-й, но это совсем другой 1845-й, чем обыкновенная пахта времен года, двенадцать месяцев в крошечной глуши Тандер-Спита, где только что появился Тобиас Фелпс. Это столичный, утонченный, светский 1845-й, 1845-й монументальных исторических сдвигов и яростных политических и общественных дебатов, 1845-й филантропии и коммерции, Империи и устриц, многослойных юбок, детей-трубочистов, разносчиков бакалейных товаров и вареной бараньей грудки под соусом с каперсами. Яркий, сиятельный 1845-й, полный надежды и величия, не без примеси распутства и разврата по краям, год, в который мы сейчас пролетаем над столицей в воображаемом монгольфьере,[7]7
Монгольфьер – первый шар, поднимавшийся нагретым воздухом, названный в честь его изобретателя Иосифа Мишеля Монгольфьера (1740–1810); сконструирован в 1783 г.
[Закрыть] придирчиво разглядывая серое лоскутное одеяло распростершегося внизу Лондона. Вот собор Святого Павла, огромный почерневший купол, что выглядывает из клубов печного дыма. А вот и Темза, изогнувшаяся, будто кобра с аппендицитом. И Тауэр-бридж, и здание Парламента, похожее на крепость и одновременно на торт, и внушительный выступ Биг-Бена.
Ой, кто-нибудь умеет управлять этой штукой?
Если да, то поплывем на запад: проведите наше судно к элегантным кварталам Бельгравии и на секунду остановитесь полюбоваться серповидными изгибами оштукатуренного кирпича и блестящими черными дверьми, недружелюбными ступеньками и кадками с самшитами фешенебельного тупичка Мадагаскар-стрит. Зависните здесь на минуту у окна четвертого этажа дома четырнадцать, дабы понаблюдать за парой двуногих млекопитающих в естественной среде обитания – дома, в гнезде, кое одновременно и берлога, и садок, и нора, вместилище запасов, питомник и зал для раздумий. Что за необычное создание – человек! Странно также, что, в отличие от многих млекопитающих, у этого зверя нет определенного брачного сезона. Тем более нам повезло – мы прибыли сюда вдень, которому суждено стать знаменательным.
Сначала загляните в окно первого этажа и понаблюдайте за доктором Айвенго Скрэби, таксидермистом, в его мастерской. Доктор поглощен трудоемким процессом натягивания шкуры чилийского медведя на гипсовый слепок, который снял с туши, застывшей в выбранной Королевой нелепой и сентиментальной позе. Созданию полагается стоять прямо, велела Виктория, сложив лапы, будто в молитве. Как и у всех зверей, предназначенных для Коллекции Царства Животных ее Императорского Величества, медвежьи гениталии должны быть полностью удалены; в качестве дополнительной меры напускной скромности, позже создание облачат в сшитые на заказ бриджи. Вдобавок, как водится, Государыня повелела Скрэби наделить зверя глазами «голубыми, оттенка яичной скорлупы, такими же, какие вы вставляли прочим нашим королевским млекопитающим». При этом, как она уточнила, «слегка побольше, чем у медведя данного вида, чтобы они, как нам видится, глядели в Небеса, будто в Святом созерцании». По задумке, медведя нужно превратить в благородное звериное воплощение благочестия, достойное влиться в ширящиеся ряды животных ее причудливого бестиария – целый Ковчег набитых и лишенных пола млекопитающих, нелепо наряженных, застывших в позах религиозных фанатиков. Можно подумать, любит повторять Скрэби, сам Букингемский дворец – не такой Ковчег.
– Тысяча чертей и святые угодники! – бормочет он с набитым булавками ртом, затем отрывает ногу от пола и задирает ляжку, дабы облегчить раскатистый пердеж, отзывающийся эхом в мастерской и дальше по коридору под громкий рев доктора: – Ее Величеству Королеве Виктории, Королевской Бегемотице и убийце жизни моей!
Тем временем наверху в гостиной миссис Шарлотта Скрэби, жена, мать и прославленный медиум, закончила распрыскивать лавандовую воду, пытаясь избавиться от вони благородного лекарства, опия, топлива двигателя ее экстрасенсорного восприятия. Отметим – сквозь ситец – следующее: ежедневная доза Шарлотты дает эффект. И, невзирая на неаппетитный ленч, приготовленный миссис Джиггере, в воздухе разлито нечто вроде афродизиака. И вдруг муж миссис Скрэби, окончательно уставший от тишины, проволоки и опилок мастерской, сытый по горло растущими нелепыми запросами Монарха в отношении ее Королевской Коллекции Животных, утомленный склянками камфары, лотками стеклянных глаз, связками колышков и стальных булавок, кипами бумаг, шкур и маленьких резиновых носов – инструментов его ремесла, – поднимается по лестнице.
Ибо в подобном расположении духа, по опыту доктора Скрэби, остается только одно: вменить удовлетворение нужд своего репродуктивного органа жене, Шарлотте Скрэби, ласково – а иногда и не очень – именуемой Опиумной Императрицей. В независимости от того, курила она или нет.
И на подобное расположение духа доктора Скрэби можно отреагировать единственным образом, если ты его жена, да еще и под опием: сдаться.
Нет ничего постыдного в капельке вуайеризма. Так что опустите ваш шар, пока корзина не поравняется с подъемным окном вот здесь, и загляните за занавески в гостиную, дабы увидеть следующее: chaise-longue,[8]8
Шезлонг (фр.)
[Закрыть] стакан виски, мелькнувший холмик груди и затвердевший мужской орган. Взгляните на корсет из китового уса, сброшенный на пол, словно кокон личинки, что превращается в бабочку. Посмотрите на то, что может или не может быть двумя полуодетыми человеческими телами, кои пытаются найти равновесие на chaise-longue. Оконное стекло уже – какая досада – запотевает, так что лучше прижмите ухо к стеклу и послушайте следующие звуки: шепот уговоров, слабое сопротивление, хриплые уверения, вздох согласия, шорох юбок, щелканье подтяжек, хлопки и шлепки, кряхтение и сопение, постанывание и повизгивание, нарастающий быстрый ритмичный стук, львиный рык, еле слышный стон, долгий тяжелый вздох.
Пара минут тишины. После которых, поскольку миссия мужского органа выполнена, доктор Айвенго Скрэби возвращается в мастерскую сражаться с шотландским аистом, а его жена в облаке астральных частиц, принимающих и меняющих призрачные формы Загробной Жизни, вновь погружается в туманные видения своей одержимости опиумом.
Затем, пока ваш шар взлетает вверх в ночь, представьте в свете полной луны, проступающей сквозь лондонские тучи, период гормонального риска под корсетом Скрэби. И встречу спермы и яйцеклетки в глубинах анатомии Скрэби. Оплодотворение в районе фаллопиевых труб Скрэби. А после…
Абракадабра! Эмбрион! Эмбрион, который…
Однако же нет! Скорее, молю вас, впустим горячего воздуха в наш монгольфьер и сбросим балласт! Оставим эмбрион Фиалки Скрэби в покое, заниматься своими карликовыми делами и полетим быстрее в лондонские доки, где ее будущий гуру, человек, который превратит ее – почти буквально – в невообразимую женщину, коей она станет, ждет нас на борту корабля под названием «Корабль Ее Величества "Бигль"».
«Бигль» – как мы знаем, порода охотничьих собак. Странное имя для судна.
Теперь вам понадобится бинокль. Доки далеко, далеко внизу; ночь сменилась утром, и стайка кораблей, сбившихся в гавани, отливает оранжевым – среди них десятиствольный трехмачтовый фрегат капитана Фицроя[9]9
Роберт Фицрой (1805–1865) – английский морской офицер, гидрограф и метеоролог, командовавший кораблем «Бигль», на котором в 1831–1836 гг. совершил кругосветное путешествие английский естествоиспытатель Чарлз Роберт Дарвин (1809–1882).
[Закрыть] «Бигль». Он стоит на якоре возле «Парадигмы» (груз: холст, павлиньи перья, лакрица, свечной воск, орехи, засовы и бразильский орех). «Бигль» – серьезное, некоммерческое судно, корабль, пару лет назад возивший группу уважаемых ученых, которые занимались сложной и кропотливой работой, а ныне – пристанище одинокого меланхоличного капитана и его причудливых дум. Да: все ученые, включая мистера Дарвина, давно разъехались по своим частным жилищам, прихватив нескладные микроскопы и тетради. Дни славы «Бигля» в прошлом, и с тех пор он снимался с якоря лишь пару раз – для исследовательских работ в Северном море. Но сегодня капитан Фицрой куда-то убрел, безумный и одинокий, оставив на борту лишь команду. В последнее плавание море было неспокойно, и матросов свалила болезнь, плохая еда и усталость. На «Бигле» – смешанная команда, по большей части англичане да несколько испанцев. И бельгиец. Оставим англичан и испанцев вариться в собственном соку: именно бельгиец нам и нужен. Пришвартуйте шар к пирсу, вылезайте из корзины и познакомьтесь – мсье Жак-Ив Кабийо, больной страдалец, который утром на завтрак двадцати матросам приготовил кашу и, не получив благодарности за свои труды, швырнул в воду забитый овсянкой черпак и заявил:
– Ça suffit.[10]10
Хватит (фр.).
[Закрыть]
Гордый человек. Тщеславный. Человек, готовый сделать ноги.
Вот факты, известные о прошлом Жак-Ива Кабийо:
1. Отец послал его в море во время вспышки картофельной гнили в Бельгии, заставив бросить любимую по имени Саския, которую Жак-Ив страшился больше не увидеть. (Он оказался прав, она вышла замуж за его кузена Постава, пекаря, чьи рогалики брали призы на ярмарках).
2. Юный Жак-Ив сначала попал юнгой на китобой в Северное море, а затем – коком на французское торговое судно.
3. В Кейптауне он пришел по объявлению о поиске шеф-повара на зоологическое исследовательское судно «Бигль» и был принят.
4. Всю дорогу, пока «Бигль» плыл от Галапагоссов до Таити, Кабийо так сильно страдал от морской болезни и любовной тоски, что ни разу не выглянул из иллюминатора.
5. Единственное облегчение душевным и физическим страданиям приносили редкие просьбы мистера Чарлза Дарвина составить рецепты приготовления всевозможных экзотических видов мяса, доставляемых ученым на борт после высадок.
6. Это вносило разнообразие в привычное меню из водорослей и галет, которое Кабийо был вынужден подавать, и, когда море затихало, Жак-Ива, несмотря на меланхолию, все больше и больше захватывала идея «cuisine zoologique», как он ее окрестил. Эму, игуана, вьюрок, змея – самые жуткие и кроткие твари Божьи, понял он, с соответствующим гарниром могут стать кулинарным изыском.
7. Эту гипотезу он и принялся доказывать, с большим апломбом, к восхищению тогда еще незнаменитого мистера Чарлза Дарвина, который лично пару разделал шеф-повару комплименты.
8. Так, в результате эксперимента и после всех полученных похвал, Жак-Ив Кабийо обнаружил в своем сердце зерно огромного тщеславия.
И теперь, разглядывая лондонские доки, лишенный все эти шесть лет обожаемого Дарвина и оставшись с одним сумасшедшим Фицроем, он мрачно размышляет о будущем. Конечно же, знания, которые он приобрел, касавшиеся свежевания ящериц, жарки страусового мяса, приготовления печени грызунов, а также навыки тушения гигантской черепахи не могут – не должны – быть утеряны?
Certainement pas![11]11
Разумеется, нет! (фр.)
[Закрыть] И с этой мыслью он взваливает на плечи мешок и направляется в Зоологический сад. Давайте приземлим наш воображаемый монгольфьер, пришвартуем его к араукарии, облачимся в прогулочные туфли и проследуем за Кабийо пешком.
Город, в коем стремился скрыться Кабийо, когда, болезненно шатаясь, спустился с «Бигля», – это столица, смердящая пастернаком, капустой, дешевыми кофейнями, разлагающейся плотью отравленных крыс, свежесрезанными цветами, гнилой селедкой, устрицами и дымом угольных печей. В открытых сточных канавах проулков экскременты, петляя, держат путь в Темзу и оттуда в море, а в небесах, как всегда, давящим покрывалом низко висят клубы смога. Бог знает, как Кабийо умудрился на ватных ногах незаметно покинуть «Бигль». Или как этот отважный, заросший щетиной человечек проковылял половину столицы, сражаясь с буйным мартовским ветром, и зашел в вольер к слонам в Зоологическом саду. Или, самое главное, незамеченным прожил там неделю, борясь с лихорадкой и питаясь одними помоями, соломой и мышиным пометом. Или как главный смотритель, мистер Гардилли, вместо того чтобы вышвырнуть Кабийо обратно на улицу, безосновательно проникся к нему симпатией и, когда Кабийо пояснил, что жизнь на «Бигле» приучила его к дикой природе, предложил ему работу – выгребать слоновье дерьмо. Кабийо, который смотрел на вещи в перспективе и обладал непреодолимым стоицизмом, принял предложение с должным смирением и, удалившись в вольер слонихи Моны, принялся ждать своего часа, строить планы и махать лопатой. И только подумать! Через три недели работы со слоновьими фекалиями размером с луну, шанс, о котором Кабийо так мечтал – как о первой ступеньке сверкающей дороги его грез, – появился на блюдечке. На блюдечке в виде удрученного чем-то мужчины, который однажды утром зашел без извинений и спроса в вольер Моны и поставил стремянку.
Угрюмый джентльмен – не кто иной, как двуногое млекопитающее, за которым мы шпионили ранее с монгольфьера и который спаривался со своей одурманенной самкой на Мадагаскар-стрит, – совершенно проигнорировал бельгийца. Зато Кабийо пристально изучал таксидермиста. Он был немало наслышан о докторе Айвенго Скрэби от главного смотрителя. Скрэби являлся одним из нескольких таксидермистов, которые нередко заходили в Зоологический сад, будто стервятники в поисках падали. Новости о расстройстве желудка Моны, из-за которого Кабийо трудился сутки напролет, наверное, достигли музея, где доктор Скрэби являлся не только главным таксидермистом, но и заведовал личным бестиарием чучел животных Ее Величества, каковой Государыня жаждала расширять соразмерно своей растущей Империи. Мистер Гардилли рассказывал Кабийо о предполагаемой Коллекции Царства Животных, в которой будет представлено по чучелу всех населявших землю существ, наряженных в людскую одежду и изображающих благочестивые сцены. Впечатляет. А теперь здесь присутствует человек, ответственный, по всем сведениям, за набивку чучел; всех пятнадцати тысяч или вроде того. Неудивительно, что он выглядит нервным и изможденным. (В этом и впрямь была повинна затея с Царством Животных, но лишь отчасти; дело еще в том, что у Опиумной Императрицы тяжело проходила беременность, и даже на этой ранней стадии Шарлотта вставала шестнадцать раз за ночь – опустошить пузырь.) Кабийо, стремительно перебирая все возможности, оперся на гигантскую лопату, с интересом наблюдая за долговязым мужчиной, а тот забрался на вершину стремянки и поднял фонарь к уху Моны. Та раздраженно махнула ухом, словно исполинским крылом, и Скрэби опасно покачнулся.
– Мсье, – возвестил Кабийо, который уже определился с планом наступления. Скрэби, недовольный вмешательством, медленно опустил взгляд. Затем, оценив социальный статус говорившего, вынул увеличительное стекло и уставился сквозь него на человеческое насекомое. – Я селый день выношу слоновью мочу, вычишаю merde,[12]12
Дерьмо (фр.).
[Закрыть] – сообщил Кабийо в качестве самопредставления. – А тепегь эшо и всю ношь, потому што это сосдание malade.[13]13
Больное (фр.).
[Закрыть]
Скрэби протер увеличительное стекло платком.
– Это, – уточнил Кабийо, показав на лопату и лагуну caca,[14]14
Здесь – фекалий, ка-ка (уменьш., фр.).
[Закрыть] порожденную завтраком Моны, – не есть мое пригодное положение на пгигодной лестнисе, мсье.
Скрэби, балансируя на лестнице собственной, наклонился рассмотреть поближе слоновьего смотрителя. Впрочем, много не увидел: только черно-белую кляксу и поросль на лице при приближении.
Кабийо продолжал:
– Я не габ этого слона, я artiste.[15]15
Художник (фр.).
[Закрыть] Позвольте мне пговесьти день на вашей ку'не, мсье, и я покашу вам, што такое настоящая gastronomie.[16]16
Кулинария, кулинарное искусство (фр.)
[Закрыть]
Мона покачивала хоботом и переминалась зловеще и молчаливо с ноги на ногу – каждая с подставку для зонтов; Скрэби, учуяв опасность, судорожно ретировался со стремянки и воздвигся на соломе подле Кабийо. На этот раз таксидермист придвинулся ближе, приложил лупу к липу смотрителя и еще раз его оглядел – отметив пятидневную щетину, порванную и гноящуюся мочку, с которой явно принудительно сорвали серьгу, скверный запах и огромный карий глаз, больше, чем у коровы. Заморский вид, заключил он. Ничего особенного. Возможно, европейского происхождения. Удовлетворившись осмотром обоих особей и видов, доктор Скрэби убрал лупу в карман.
– И? – произнес он.
Кабийо умел распознать приказ. По ходу изложения своего жизнеописания, бельгийцу пришлось держать лопату коленями, зажав ее, будто в клещи, дабы руки могли свободно жестикулировать, аккомпанируя рассказу. Кабийо поведал, что был рожден для великой кулинарной славы (правая рука вытянулась вверх), но по ошибке оказался на борту «Бигля» (тут Скрэби навострил уши), ужасном судне (звучный плевок в сторону кадки с водой), полном англичан (опущенные уголки губ), на котором после отъезда с Галапагоссов, не считая опытов с Cuisine Zoologique (Скрэби смутился: он не знал французского), ему приходилось готовить только кашу, соленую селедку и водоросли (опять слюна). Блюда, порою, когда море волновалось, приправленные – Dieu me pardonne![17]17
Прости меня, Господи! (фр.).
[Закрыть] – его собственной блевотой.
– Суп из водогослей, гыбные котлеты из водогослей, жагеные водогосли, пюге из водогослей. Как-то я пгиготовил из водогослей gratin[18]18
Запеканка с сыром (фр.).
[Закрыть]: с дгугого когабля упал сыг, я выловил его, сделал gratin, – но все отослали назад, сказали, пло'о. Вы, ашлишане, стали бы кушать и шэловешэское ordure,[19]19
Здесь – дерьмо (фр.).
[Закрыть] эсли бы В нем, согласно вашему вкусу, имелось suffisamment[20]20
Достаточно (фр.).
[Закрыть] непегежевываемых кусков.
Да, это вызов. Руки в боки. Fini. Voila?.[21]21
Все. Вот так (фр.).
[Закрыть]
– Я подумаю, – произнес Скрэби, еще раз бросая взгляд на Мону и прикидывая, что ее вес не менее двух тонн. Как скажет нам любой таксидермист, в подобных случаях вся сложность заключается не столько в набивке, сколько в свежевании и конструировании каркаса. Не говоря уже о пространственных ограничениях, накладываемых мастерской. Выводы Скрэби: забудьте, Ваше Величество. Она слишком громадна; конец дискуссиям.
Мона беспокойно топчется, словно телепатически улавливая течение мыслей Скрэби, которые уже перетекают (она издает шумный вздох облегчения) к фигуре Монарха, вечно дремлющей на задворках сознания таксидермиста, словно непроходящая докучливая мигрень. Чертова женщина! думает Скрэби. Чертова, чертова женщина! Посмотрите на нее, с ее картой мира, замазанной розовым, и нелепым Царством Животных! Лишь такой богатой, неуравновешенной и напыщенной женщине могла прийти в голову подобная затея! И лишь Горацию Капканну могло хватить дерзости убедить Королеву, что он и впрямь способен привезти тысячу заморских видов в целости и сохранности на одном судне. Ковчег Ее Величества! Какая гордыня!
– Чертова женщина! – изрекает Скрэби.
– Comment?[22]22
Здесь – что? (фр.)
[Закрыть]
– Королева. Я ее предупреждал. Говорил, что это дурная затея. Если не хуже. Ною удалось, но это в Библии.
– А, – шепчет Кабийо, изо всех сил стараясь изобразить сочувствие и размышляя, как направить беседу к достижению собственных целей. Параллельно его мысли движутся в другом направлении: будет ли сочетаться кислая острота крыжовника с сочностью енота?
– Все знают, что Капканн жалкий дурак, – продолжает Скрэби. – Опасный дурак. – Дьявол его побери! размышляет Скрэби, мысли вихрятся от ярости. Прошлое этого человека переполнено предпринимательскими неудачами. Не говоря уже о работорговле. Всем известно, что единственная причина, заставившая его выйти из этого дела, то, что целый корабль помер у него с голодухи. Тысяча чертей! Какой дьявол заставил Бегемотицу довериться подобному человеку? – (Мне нужно поспать. Шестнадцать раз за одну ночь! А ведь она ничего не пила.)
– Опасный дугак, – вторит Кабийо, совершенно не понимая, о чем с такой злостью бормочет Скрэби, но желая угодить. – Я слышал то ше самое. Этот Копканн опасен и к тому ше, сле'ка не в себе.
– Капканн, – устало поправляет Скрэби, похлопывая Мону по огромной кожаной стене бедра. – Гораций Капканн.
– Вегно, – с энтузиазмом откликается Кабийо. – Капканн! Именно! Полный бесумец! Полный idiot!
Скрэби погружается в раздумья. Минуло два года, как Капканн со свитой отплыл в Африку, и нет нужды добавлять, что с тех пор ни слуху ни духу. Может, и к лучшему, думает таксидермист. Ведь это ему, Скрэби, пришлось бы набивать тварей после возвращения Капканна. А у него и без того дел хоть отбавляй. (Опиумная Императрица ему не помощник. Беременность ввергла ее в девятимесячный транс, прерываемый лишь ночными выходами к Нужнику.) А между тем, Гораций Капканн, похоже, прихватил королевские деньги и сбежал.
– И это неудивительно, – констатирует Скрэби.
– Вегно, нисколько, – соглашается Кабийо. – Пгичем, полагаю, ни для кого.
– Черт побери Королеву! – подводит итог Скрэби.
– И этого Капканна тоше! – с жаром добавляет Кабийо. – К Дьяволу эго, этого умалишенного, коего я ненавишу всей душой и сегдсем! И Коголеву туда же, эту оггомную, оггомную, оггомную, оггомную, оггомную…
– Бегемотицу, – заканчивает Скрэби.
Мона одобрительно фыркает хоботом и принимается за кипу сена.
И тут Кабийо, приободренный собственной прытью в вещах, о которых ничего не знает, идет ва-банк:
– Vous acceptez, donc, ma proposition, Monsieur?[23]23
Итак, вы принимаете мое предложение, мсье? (фр.)
[Закрыть]
Скрэби еще раз достает увеличительное стекло и глядит мужчине в глаза. Да: похоже, они говорят на том же языке.
– Я дам вам три дня на моей кухне. – И разворачивается уйти.
– Благодагю, сэг, – шепчет Кабийо, с трудом сдерживая радость. Его сердце того и гляди выпрыгнет из груди! – Вы не regrettez![24]24
Пожалеете (фр.).
[Закрыть]
Скрэби складывает стремянку и направляется к воротам.
– Три дня.
Кабийо и Мона наблюдают, как он, раскачиваясь, идет по усыпанной гравием дорожке мимо вольера с обезьянами – долговязая сухопарая фигура.
И вдруг видят, как он поворачивается. Кабийо бледнеет. Неужели таксидермист передумал?
Доктор складывает руки лодочкой у рта и что-то кричит.
– Никаких возражений против необычных видов мяса? – слабо, сквозь гомон шимпанзе, долетает его голос. – Потери Зоологического сада имеют привычку доставаться мне. А в хозяйстве все сгодится!
Mon Dieu! [25]25
Боже мой! (фр.)
[Закрыть]
– Совегшенно никаких, сэг! С пгевиликим удовольствием!
Он склабится так широко, что свело челюсть, замечает Кабийо. Когда еще он был так счастлив? Он целует в хобот Мону, и та с нежностью обвивает смотрителя хоботом. А затем, будучи настоящей леди, поднимает с земли высоко в воздух, словно игрушку, и в знак признательности опорожняет свой кишечник.
Старое пыльное павлинье перо раскачивалось в газовом свете, пока Мороженая Женщина выцарапывала им слова на куске тонкого пергамента:
Моей первай ошибкой, – писала она, – была ПАВЕРИТЬ, uimo если у мужщины имееца МЕЧЬТА, как он говорит, тоэта МЕЧЬТА заслуживает ДАВЕРИЯ и должна внушать УВАЖЭНИЕ. Это НЕ так. Вот, о чом Он расказывал:
1. О дальних СТРАННАХ, де я буду КАРАЛЕВАЙ.
2. О славе u БАГАЦТВЕ.
3. О новая МИРИ будащева, де никаму не предеца РОБОТАТЬ.
Он покрутил УССЫ, и я поверила ему.
Она остановилась, потрогала кончик пера и, опять склонив голову, продолжила царапать пергамент:
Он был добр ко мне, кода мы в первый встретились – тагда па вечарам я танцавала в Каролефском Хэрбе. Он увидал меня и захотел, это Он так сказал.
Он казал, зделаеш для меня такие ШПАГАТЫ?
Гаварит как багач. В Ево голасе деньги, думаю я. Он ставит меня на стол.
Теперь делай ШПАГАТЫ, гаварит Он.
Нет, я гаварю. Не магу. Ноги падгибаюца. Так СТРАШНА, что аписаца.
Он проста сидит, крутет Сваи Уссы. Ждет.
Гараций было Ево имя. Затем шло КАПКАНН.






