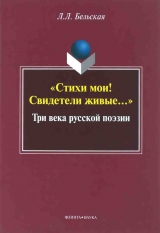
Текст книги "«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии"
Автор книги: Лилия Бельская
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«СТИХИ МОИ! СВИДЕТЕЛИ ЖИВЫЕ…»
ТРИ ВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ
От автора
Эта книга составлена из статей и эссе, написанных и опубликованных на протяжении тридцати лет и посвящённых анализу поэтических произведений. Она стала третьим сборником автора по данной теме, т.е. получилось нечто вроде трилогии. Мы привыкли к тому, что трилогии – три тома, объединённые общими героями, темами и сюжетами, – исключительно привилегия писателей-прозаиков (от «Детства», «Отрочества» и «Юности» Л. Толстого до «Русской канарейки» Дины Рубиной).
Но чтобы на такое отважились учёные-филологи, случай редкий. Я знаю только один: М.Л. Гаспаров «Избранные труды в трех томах» (Т.1. О поэтах. Т.2. О стихах. Т.3. О стихе. М., 1997). Моё же «трёхкнижие» получилось неожиданно и случайно, оно весьма скромно и не претендует ни на научную глубину, ни на масштаб гаспаровских исследований (от античной до современной литературы). Тем не менее пример Михаила Леоновича, моего учителя и оппонента моей докторской диссертации, вдохновил меня на попытку собрать и объединить и свои публикации в три тома.
Двадцать лет тому назад у меня вышел небольшой сборник статей «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997), в котором утверждалось и доказывалось, что анализировать стихи не менее интересно и увлекательно, чем просто их читать, сопереживать и эстетически наслаждаться. Через десять лет за первой книжкой последовала вторая «От слова – к мысли и чувству» (Алматы, 2008), и в ней было показано, что путь исследователя и читателя поэзии идёт от слова и образа к эмоциям и раздумьям, а у поэтов – наоборот.
И вот перед вами третий том «“Стихи мои! Свидетели живые…” Три века русской поэзии», в котором ставятся проблемы традиций и новаторства и прослеживается развитие тем и мотивов, образов, стилей, стихотворных размеров в трёхвековой истории русского стихотворства.
Если в первой книге преобладали короткие заметки-наблюдения над отдельными образами и стихотворениями, то во второй стало больше историко-сопоставительных статей и добавились эссе не только о поэтах, но и прозаиках, а также рецензии на их мемуары. А в третьем томе популяризаторские филологические очерки дополнились стиховедческими работами (о рифмах и размерах). Такая вот сложилась трилогия. Быть может, она заинтересует как филологов, так и любителей поэзии.
Лилия Бельская
15.04.2015
«Стихотворения чудный театр»:
Сравнительный анализ
поэтических текстов
Загадка «Песни о собаке»
Кто не помнит знаменитой «Песни о собаке» Сергея Есенина с её пронзительно-щемящей концовкой: «Покатились глаза собачьи / Золотыми звездами в снег»? Печальная история о собаке, потерявшей своих щенят, растрогала до слёз А.М. Горького, который сказал, что Есенин «первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных».
А знаем ли мы, когда и как создавался этот есенинский шедевр? Он датирован автором 1915 г., но опубликован лишь в 1919 г. Единственный же сохранившийся автограф предположительно относится к 1918 г. Известно также, что в первые революционные годы поэт неоднократно читал своё стихотворение в разных литературных кругах. Может быть, он просто ошибся в датировке одного из самых любимых своих творений? А может, нарочно мистифицировал читателей, чтобы они поверили, будто его «Песнь» написана в пору юности, до революции, а на самом деле – совсем в другую эпоху, «в сонме бурь и гроз»?
Но не будем задавать риторических вопросов, а лучше вглядимся пристальнее и вчитаемся в есенинские дореволюционные стихи. Обратим внимание на три стихотворения, помеченные 1915 – 1916 гг. и объединённые одной темой – гибель живого существа по вине человека, – «Корова», «Лисица» и «Песнь о собаке». Герои в них показаны в самый трагический момент: потери детёнышей или собственного умирания – и даны как бы изнутри, в муках и страданиях. Корова «думает грустную думу о белоногом телке», которого отняли у неё и зарезали. Тяжело раненной лисице всё чудится «в колючем дыме выстрел». Измученной собаке месяц кажется одним из её погибших щенков.
Есенинские звери не басенные аллегории, не олицетворение человеческих пороков и добродетелей и не предлог для философских раздумий и аналогий с духовной жизнью человека, как, например, Чанг у Бунина или каурый жеребец у Клюева: «Вздыхает каурый, как грешный мытарь: / “В лугах Твоих буду ли, Отче и Царь?”. В отличие от клюевского жеребца корова у Есенина предаётся не человеческим, а коровьим вздохам и видит коровьи сны: «Снится ей белая роща (зелёные верхушки берёз ей не видны. – Л.Б.) и травяные луга»; лисица тревожно подымает голову, слыша «звонистую дробь»; собака еле плетётся, «слизывая пот с боков», т.е. ведут себя естественно и достоверно. И в то же время это не бездушные твари. Да, они бессловесны, но не бесчувственны и по силе своих чувств не уступают человеку. Более того, поэт обвиняет людей в бессердечии и жестокости по отношению к «братьям нашим меньшим».
Итак, общность этих трёх стихотворений, особенно «Коровы» и «Песни о собаке», несомненна: материнское горе, отнятые дети, «выгонщик грубый» и «хозяин хмурый»; приём умолчания в кульминации и безотрадный финал.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.
И жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога …
И так долго, долго дрожала
Воды незамёрзшей гладь.
Покатились глаза собачьи …
Похоже, что стихи о корове и собаке создавались либо были задуманы в один период времени.
В дальнейшем С. Есенин не раз будет писать о животных, но в центре его внимания окажутся не драматические судьбы собратьев по природе, а переживания лирического героя при общении с ними: «Милый, милый, смешной дуралей, / Ну куда он, куда он гонится?» («Сорокоуст»); «Дай, Джим, на счастье лапу мне» («Собаке Качалова»); «Хочешь, пёс, я тебя поцелую / За пробуженный в сердце май» («Сукин сын»); «Каждая задрипанная лошадь / Головой кивает мне навстречу. / Для зверей приятель я хороший» («Я обманывать себя не стану»). А вот как рисовал коней молодой стихотворец:
Храпя в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день. <…>
Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поёт вихрастый гамаюн.
А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.
(«Табун», 1916)
Выскажем ещё одну догадку о возникновении замысла «Песни о собаке». В 1915 г. в журналах появилось два стихотворения о собаках – В. Маяковского «Вот так я сделался собакой» (Новый Сатирикон. 1915. № 31) и Г. Анфилова «Собака» (Современник. 1915. № 1). Пафос первого – протест против озверения человека: «Весь как есть искусан злобой», «Чувствую – не могу по-человечьи», «а у меня изпод губы – клык», «у меня из-под пиджака развеерился хвостище и вьётся сзади, большой, собачий». Во втором собака выступает как мистическое существо, рождающее непонятную новую жизнь. Читал ли Есенин эти стихи? Думается, да. Потому что его «Песнь о собаке» звучит как полемический отклик и на тот, и на другой текст.
Есенин проходит мимо основного мотива Маяковского – отчуждения и отверженности личности в обществе.
И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!
Есенина же интересуют «очеловеченные» звери, и его собака способна на глубокие чувства, а её горе безмерно и беспредельно, но совершенно недоступно разумению «хмурого хозяина», равнодушно и привычно выполняющего обычное в крестьянском быту «дело» – «утопление» слепых щенят.
В свою очередь, Маяковский, возможно, полемизировал с Ф. Сологубом, стихотворение которого «Когда я был собакой» (Новая жизнь. 1913. № 12) тоже было посвящено превращению человека в собаку, но изображало не само это перевоплощение, а смерть собаки-человека, вознесение его-её в рай («душа моя в рай возлетит») и беседу с Богом. Оттого предсмертные собачьи муки даны как предвестие будущего блаженства.
Взметнусь я, и взвою, и охну,
На камни свалюся и там,
Помучившись мало, издохну,
И Богу я дух мой отдам.
А шутовская, пародийная концовка окончательно снимает заметный вначале драматизм: «Ну, какая я дворняжка, / Я искусство люблю, я – поэт».
Весьма вероятно, что и Есенину попалось на глаза это стихотворение, так как в том же номере журнала была помещена рецензия на хорошо знакомый ему сборник С. Клычкова «Потаённый сад». Отметим и случайную, быть может, перекличку: сологубовский «камень в висок», брошенный «подгулявшим проказником», оборачивается в есенинской «Песне» «камнем в смех» вместо подачки.
Если стихи Маяковского и Сологуба могли вызвать у Есенина скорее всего бессознательное отталкивание, то «Собака» Анфилова, по всей вероятности, послужила толчком для создания «Песни о собаке» и подсказала исходную ситуацию: утром, в заброшенном сарае, на старом тряпье собака рожает щенят.
В одиноком сарае нашла
Кем-то брошенный рваный халат,
Терпеливо к утру родила
Дорогих, непонятных щенят.
Стало радостно, сладко теперь
На лохмотьях за старой доской,
И была приотворена дверь
В молчаливо рассветный покой.
От восторга в парче из светил
Уходили ночные цари.
Кто-то справа на небе чертил
Бледно-жёлтые знаки зари.
Содержание анфиловского стихотворения сводится, по существу, к одному факту – появлению на свет «дорогих, непонятных щенят», которому придан мистический смысл (молчаливый покой рассвета, знаки зари, таинственный некто – набор символистских атрибутов, успевших превратиться к тому времени в штамп). А для Есенина этот факт, лишенный всякой загадочности и выспренности, является лишь отправным пунктом, завязкой повествования. И собака, бывшая у Анфилова поводом для религиозно-этических ассоциаций, становится главной героиней есенинского текста. Нет в нём ни недосказанности, ни символического подтекста, ни слащавости и умиления при виде терпеливой и счастливой собаки-роженицы – всё подчёркнуто прозаично: не родила, а ощенила; не одинокий сарай, а ржаной закут; не на халате, а на рогоже.
Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.
До вечера она их ласкала,
Причёсывая языком,
И струился снежок подталый
Под тёплым её языком.
Сходно и одновременно контрастно завязывается действие в обоих текстах. И это со-противопоставление особенно ощутимо в последней строке первой строфы: сходство конструкции и контраст смысла – «дорогих, непонятных щенят» и «рыжих семерых щенят».
Начинается «Песнь о собаке» нарочито буднично, как бытовая зарисовка, но сама эта будничность опоэтизирована: рогожи златятся, снежок подталый струился, она их ласкала (а не лизала). Спокойный, эпический тон начальных строф не предвещает разыгравшейся дальше трагедии. Но уже в третьем катрене с его предупреждающим «А вечером…» (ср. «До вечера…»), прерывистой интонацией и затруднённым ритмом слышится смутная тревога. А повторённое в третий раз «семерых», усиленное «всех», грубопросторечное «поклал» подчёркивают угрюмую непреклонность в действиях хозяина.
А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышёл хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.
Автор не даёт описания убийства, отказавшись от кульминационной сцены. Он заменяет её одной многозначительной деталью, увиденной как бы самой собакой, не осознавшей сути происшедшего или прибежавшей на место преступления слишком поздно.
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.
«Песнь о собаке», как и другие есенинские ранние стихи о животных, передаёт авторские чувства не непосредственно, в лирическом монологе, а опосредованно, через повествование и описание. И эмоциональная сила заключительных строк создаётся не патетическими возгласами, а страшным в своей выразительности гиперболическим образом – собачьи глаза, вытекшие от горя.
Так, в разработке «собачьей» темы Есенин отталкивался от поэтовпредшественников и скорее следовал традициям русской прозы в показе животных «изнутри» – история лошади или собаки, пережитая ими и рассказанная как будто от их лица (Л. Толстой, Чехов, Куприн). А есенинская боль за поруганное материнство была созвучна горьковскому гимну во славу материнской любви: «Прославим женщинуМать, неиссякаемый источник всепобеждающей жизни!» (легенды о матерях в «Сказках об Италии»). Не случайно Горького так тронула судьба есенинской собаки-матери.
Замысел «Песни о собаке», как нам кажется, возник не позднее 1915 – 916 гг., но, наверное, долго вынашивался и не сразу оформился. Поэт тщательно работал над ним, совершенствовал, шлифовал и не торопился отдавать в печать. Следы этой продолжительной работы видны в стилевой «неровности» (от закута к «синей выси») и шероховатости (глядела она звонко и скуля, «и глухо, как от подачки, когда бросят ей камень в смех»); в синтаксической инерции (начальные А…А…А…; когда, когда, когда); в ритмических перепадах от акцентного стиха к дольнику; в появлении наряду с частыми у раннего Есенина усечёнными рифмами (куры – хмурый, звонко – тонкий) неточных созвучий с выпадением согласного перед конечным гласным (подачки – собачьи, обратно – хатой).
Хотя не всё совершенно в «Песни о собаке», она стала событием не только в есенинском творчестве, но и во всей русской поэзии: никто до него не писал о животных с такой нежностью и состраданием, с такой искренностью и драматизмом.
1983
Мифические яблоки
Всё началось с Библии. Бог запретил человеку есть плоды с дерева познания добра и зла. А плод этот «по традиции считается яблоком, хотя в самой Библии об этом не говорится» (Гече Г. Библейские истории. М., 1990. С. 62). Змей – носитель зла и противник Бога соблазнил Еву, уговорив её отведать запретный плод, а та дала его Адаму. За это грехопадение супруги были изгнаны из рая: отныне он будет в поте лица своего добывать хлеб насущный, а она в муках рожать детей.
Второе яблоко появилось в древнегреческих мифах о Троянской войне, став её причиной. Богиня раздора Эрида, не приглашённая на свадьбу Пелея и Фетиды, будущих родителей Ахиллеса, подбросила гостям на пиршественный стол золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Гера, Афина и Афродита заспорили, кому оно должно принадлежать, и призвали разрешить этот спор троянского царевича Париса. Одна обещала ему власть над миром, другая – военную славу, третья – самую красивую женщину на земле. И Парис вручил яблоко Афродите, которая помогла ему похитить жену спартанского царя Менелая, после чего и началась Троянская война. С тех пор причину ссоры стали называть «яблоком раздора» (Сокровища античной и библейской мудрости. СПб., 1999. С. 203).
Ещё две легенды о яблоках связаны с именами швейцарского лучника, борца за национальную независимость Вильгельма Телля и знаменитого английского ученого Исаака Ньютона. Телля враги заставили стрелять в яблоко на голове сына, а Ньютон благодаря упавшему с дерева яблоку открыл закон всемирного тяготения.
Все эти мифы и предания на протяжении веков вдохновляли многих художников кисти и пера. Одним из них был русский поэт начала ХХ в. Валерий Брюсов, написавший в 1916 г., возможно, в предчувствии грядущих потрясений, стихотворение «Три яблока», в котором представил мифические яблоки как «символ земного мятежа». «Яблоко губительное Евы» было протестом против запретов Господа и привело к изгнанию первых людей из Эдема: «Ты вырвало из глаз Эдемский свет, / На нас обрушив Божеские гневы, – / Но было то – восстанье на запрет!» Яблоко Вильгельма Телля – «свободы весть»: «Одной стрелой в родного сына целя, / Стрелок в тиранов метился другой!» И третье яблоко помогло Исааку Ньютону открыть «незыблемость закона, что движет землю, небо и миры». Брюсов даёт неожиданную трактовку этого закона, утверждая, что он не только приобщает людей к вечным тайнам бытия, но и социально уравнивает их, тем самым возвращая в рай.
То яблоко вернуло рай нам,
Сравняло всех, владыку и раба,
Открыло нам дорогу к вечным тайнам,
Чтоб не страшила больше – и Судьба!
Так и кажется, что поэт приравнивает учёного к Всевышнему: один из-за плода познания отнимает у людей «Эдемский свет», а другой благодаря плоду дарит его человечеству.
Через полвека ещё один русский стихотворец, Николай Моршен, тоже пропел «Оду яблоку», но восхвалял его за иные качества, хотя в том же стихотворном размере (5-стопный ямб), что и Брюсов, и с аналогичный композицией – от вступления к выводу, с перечислениями и частичным тематическим кольцом. Яблоко выступает как «мерило и шкала» ценностей, определяя человеческие типы. Во-первых, это земледелец, садовод, сын матери-природы: он служит ей, она его кормит, поит, греет и одевает.
Хозяин вечный, пахарь-одиночка
Уверен: яблоко есть яблоко и точка.
Любуясь яблонь розоватым цветом,
Навоз усердно возит он при этом.
Во-вторых, это художник, владеющий «глиной, краской, речью», т.е. скульптор, живописец, писатель, воспевающие красоту мира, события и приключения, мечты и фантазии: «И воспевает яблочную встречу / С роскошных персей яблочневой пеной, / С богинями, раздором и Еленой». Он сотворец и собрат природы, влюблённый в неё, – «Ему природа машет и смеётся, / Пускает по миру, томит и отдаётся».
В-третьих, это философ – скептик и схоласт – ищет в свежем яблоке червоточину или находится с природой «не в ладу». В этом персонаже автор сводит воедино змия и Еву: «Под яблоней сходились Змий и Ева. / И яблоня не дерево, а древо».
И, наконец, в-четвёртых, тип учёного-ествоиспытателя, увидевшего в траектории падения яблока «тропку к закону притяженья»: «Четвёртая – невтонова порода, / Пред ней склоняет голову природа». Заметим, что словами «невтонова порода» поэт как будто напоминает нам о другом великом учёном – Ломоносове, который именно так произносил фамилию Ньютона.
Таким образом, если В. Брюсов интерпретировал сюжеты о трёх яблоках с точки зрения бунтарства, восстания, то Н. Моршену оказалась важна идея взаимоотношений человека и природы – подчинение, воссоздание и сотворчество, противостояние и познание её законов. И сама природа по-разному относится к людям: то опекает их, как мать; то радуется и грустит с ними, как возлюбленная; то враждебна, грозя адом; то восхищается, как поклонница.
Так, казалось бы, всем давно известные, «набившие оскомину» мифические яблоки стали отправной точкой для столь непохожих, оригинальных произведений двух русских поэтов ХХ в.
2010
«Я ухо приложил к земле»
(Ф. Сологуб и А. Блок)
Два русских поэта-символиста Серебряного века – Фёдор Сологуб и Александр Блок написали стихи с одинаковым зачином «Я ухо приложил к земле» (1900 и 1907), восходящим к фольклорной формуле «припасть ухом к земле», характерной для народных волшебных сказок, когда герои, преследуемые врагами, именно таким способом узнают о погоне. Так, В. Жуковский, создавая свою «Сказку о царе Берендее» (1831) в фольклорном духе, по сюжету, подсказанному Пушкиным, использует этот фразеологизм: Иван-царевич «слезает с коня и, припавши ухом к земле, говорит ей (Марье-царевне. – Л.Б.): “Скачут, и близко”. Этой традиции следует и Ф. Сологуб в стихотворении «Я ухо приложил к земле, / Чтобы услышать конский топот», но слышит «только ропот, только шёпот» и хочет понять, «кто шепчет и о чём?», кто «уху не даёт покоя?» Природные ли это звуки – «Ползёт червяк? Растёт трава? / Вода ли капает до глины?» Оказывается, ни то, ни другое, ни третье: «Молчат окрестные долины, / Земля суха, тиха трава». Тогда возникают новые предположения, и прежде нейтральные ропот и шёпот обрастают негативными эпитетами (печальный, тёмный), а беспокойство («нет покоя») оборачивается вечным покоем, – правда, в форме риторических вопросов.
Пророчит что-то тихий шёпот?
Иль, может быть, зовёт меня,
К покою вечному клоня,
Печальный ропот, тёмный шёпот?
И хотя загадка остаётся неразгаданной, но атмосфера печали и безнадёжности в финале сгущается. В отличие от грустно-импрессионистической и безответно-вопрошающей настроенности стихотворения Сологуба в блоковском царят императивные, восклицательные и жизнеутверждающие интонации. Однако его начало как будто подхватывает и усиливает мрачный колорит сологубовской концовки: печальный ропот переходит в муку и крик, тёмный шёпот – в хриплый стон, вечный покой – в томящуюся во тьме бессмертную душу.
Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле.
Но дальше Блок явно отталкивается от своего предшественника, противопоставляя покою и меланхолии – протест и бунтарство. Нагнетаются глаголы повелительного наклонения: «Эй, встань, и загорись, и жги! / Эй, подними свой верный молот…». Эти призывы вызывают целый ряд ассоциаций. Во-первых, с пушкинским «Пророком» – «Восстань, пророк, и виждь, и внемли», «глаголом жги сердца людей». Во-вторых, повтор междометия «Эй» фигурировал в «Каменщике» (1901) В. Брюсова – «Эй, не мешай нам», «Эй, берегись!», – «городские» стихи которого оказали влияние на молодого Блока. В-третьих, упоминание «верного молота» намекало на образ кузнеца-бунтаря, довольно популярный в русской литературе начала ХХ в. (К. Бальмонт «Кузнец» и «Поэт – рабочему», Скиталец «Кузнец», И. Привалов «Кузнецу»). И у Блока молот (метонимическая замена кузнеца) вступает в схватку со старым миром: «Чтоб молнией живой расколот / Был мрак, в котором не видать ни зги». Затем он трансформируется в «подземного крота», который роется в земле и олицетворяет собой трудовые массы. Поэт вслушивается в его «трудный, хриплый голос» и призывает его рыть «злую землю», сажать зерна, выходить на свет и бороться с тёмными силами, под секирой которых падает слабый колос и чьей «случайной победой роится сумрак гробовой». Так иносказательно и многозначно Блок откликался на роспуск Государственной думы и выражал надежду на неизбежную гибель монархии под напором близкой революции.
В конце стихотворения снова звучит «тройственный союз» повелительных обращений, требующих растить и хранить ростки нового. На этот раз они перекликаются не с Пушкиным, а с Тютчевым и его знаменитым «Молчи, скрывайся и таи / И чувства, и мечты свои». Но у Блока таиться надо не навсегда, а на время, до определённого момента. И воскреснуть чувства могут лишь ценою жертвоприношения и возможной гибели.
Лелей, пои, таи ту новь,
Пройдёт весна – над этой новью,
Вспоённая твоею кровью
Созреет новая любовь.
Если сологубовский текст строился на повторении слов шёпот, ропот, покой, то блоковский – на антитезах: молния – мрак, ты – они, победа – смерть, любовь – кровь и на градации символов: мгла – мрак, в котором не видать ни зги, – сумрак гробовой; свет – новь – весна – любовь. В нём отразились раздумья поэта о стихийности в природе, обществе и в душе человека, о возмездии, угрожающем «страшному миру», о подвиге и жертвенности. Не случайно он включил эту вещь в цикл «Ямбы» (1914), свидетельствующий об активной гражданской позиции автора, о его пути «от личного к общему». По словам литературоведа Д. Максимова, цикл был полон «освободительной энергии, выходящей за пределы индивидуального и индивидуалистического протеста» (Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981. С. 139). А выбор заглавия и стихотворного метра Блок объяснял тем, что ямб – «простейшее выражение» ритмов новой эпохи: «Дроби, мой гневный ямб, каменья». Итак, позаимствовав зачин у Сологуба, А. Блок вступил с ним в полемику и создал диаметрально противоположное по содержанию и образности произведение, услышав не природные шумы, а подземный гул народной стихии, готовой вот-вот вырваться наружу. И не собственную смерть он предчувствовал, как Сологуб, а предвидел общественные потрясения, «неслыханные перемены, невиданные мятежи» и утверждал ценность жизни как в настоящем, так и в туманном будущем, когда «вспоённая твоею кровью созреет новая любовь».
Р. S. Неожиданно, через несколько лет к этому диалогу присоединился молодой стихотворец Илья Эренбург, начинавший свой поэтический путь как последователь символизма. Откликнувшись на стихи своих маститых предшественников, Эренбург полемизирует с ними и видоизменяет начало стихотворения и его размер (вместо 4-стопного ямба – 5-стопный хорей) – «Если ты к земле приложишь ухо…» (1912). Автор слышит звуки природы и повседневной человеческой жизни: муха бьётся в паутине, прорастают молодые побеги, пробегает белка, кряхтит над прудом селезень, скрипят на дороге телеги, поёт бадья колодца, идут девушки с ягодами, и его посещают мысли не о собственной смерти, не о народном бунте, а о живучести и неумолкаемости всего сущего на земле.
Ты слышишь, как дрожит и бьётся
Сердце неумолчное земли.
2010








