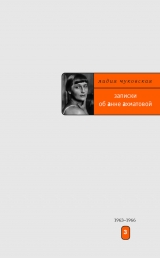
Текст книги "Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941"
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Она включила чайник, распаковала пирожные и продолжала:
– Такую фразу мне сказала однажды моя тетка.
– Плакала бы от счастья? – спросила я.
– Нет, от горя, конечно. Она сказала мне: «Если бы я была твоей мамой, я бы все время плакала».
– Чем же это вы ее так огорчили?
– Мне было тогда лет тринадцать. Я ходила в туфлях на босу ногу и в платье на голом теле – с прорехой вот тут, по всему бедру…
(Я подумала, что и в пятьдесят я частенько вижу ее в халате с прорехой по всему бедру.)
…до самого колена, и, чтобы не было видно, придерживала платье вот так рукой… это, конечно, не способ. И потом, я бросалась в море со всего – со скалы, с лодки, с камня, с балок… Знаете, как я ответила своей тетушке? Все-таки я была ужасная нахалка! Я ответила ей так: «Для нас обеих лучше, что вы не моя мама».
Заговорили о Мандельштаме. Я прочитала строфу:
Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях…
– сказав, что сильно люблю ее, что в этих строках есть что-то необыкновенно точное.
– Да, да, – ответила Анна Андреевна, – прелестные стихи – и так это на него похоже! Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до рыбы… А детей любил. И где бы ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке…
Мы сели пить чай. За чаем Анна Андреевна заговорила о том, как Лотта уверяла ее, будто ее, Анну Андреевну, все боятся.
– Я не могу понять, чем это вызвано. Но мне часто об этом рассказывают. Почему? Я никому не говорю неприятностей. Сологуб, например, – тот любил и умел сказать неприятное, и потому его боялись. Я же – никогда никому. А между тем Лотта уверяет, что однажды, когда я в Клубе писателей прошла через биллиардную, со страху все перестали катать шары. По-моему, в этом есть что-то обидное.
Я спросила, как ее хозяйственные дела. Омерзительно. Таня уехала в Выборг, да и все равно отказалась кормить ее, Лунины тоже не хотят разрешить своей домработнице ее обслуживать. Столовая же Дома писателей закрыта.
– Скоро меня положат в больницу, – сказала Анна Андреевна, – и вот тогда я буду есть три раза в день.
Пришел Владимир Георгиевич, замученный. Сел в кресло, закрыл лицо руками, начал жаловаться. Посидев минут пять, я ушла.
18 сентября 40. Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и пришла – поздно вечером, часов в десять. Лицо ее показалось мне раздраженным, недобрым. Она была в черном шелковом платье и в шелковом платке, красивая, величавая. Разговор зашел о Ксении Григорьевне. Анна Андреевна говорила о ней с яростью, с искаженным от бешенства лицом[235]235
Ксения Григорьевна бесконечно раздражала Анну Андреевну и меня своими рассуждениями об арестах. Точка зрения ее может быть выражена двумя не идущими к делу, но спасительными поговорками, за которые люди усердно цеплялись в те времена: «Лес рубят – щепки летят» (мол, берут виновных – случайно попадаются и невинные) и «Нет дыма без огня» (мол, зря не сажают). Эти поговорки служили оправданием террора и поэтому не могли не приводить Анну Андреевну в ярость.
[Закрыть]. Потом она прочитала мне снова свою великолепную «Современницу» – красавицу тринадцатого года. Потом принялась расспрашивать о моей работе. Я пожаловалась, что, когда только что напишу что-нибудь – стихи ли, прозу, – совсем не могу судить о качестве.
– Да и никто не может… Плывешь без руля и без ветрил… Только потом замечаешь, что все одинаково реагируют на одни и те же места, и тогда сама начинаешь понимать. Например, «Путем всея земли». Все, решительно все говорят об этой вещи одно и то же: «вещь магическая» и «новое искусство». Ну, разумеется, кроме Кс. Гр., которая честно призналась, что она просто ничего не поняла. Но ей понимать и не положено.
Она сидела у меня часов до двух. Я пошла ее провожать. Дворник долго не отпирал нам внизу дверь нашей парадной, и мы смотрели сквозь стекла на темный город. Редкие машины проплывали беззвучно, как рыбы. А трамваи – с громким звоном: «заблудившиеся». Потом дворник открыл нам, мы пошли, и она опять боялась переходить Невский.
24 сентября 40. Вчера я рассчитала, что у меня в Доме Занимательной Науки будет промежуток и я могу подняться на часок к Анне Андреевне[236]236
Мне в это время изредка давади на редактирование рукописи в Доме Занимательной Науки, который помещался в бывшем дворце Шереметевых; Ахматова жила там же, на Фонтанке, 34, но не в основном здании, а во флигеле.
[Закрыть]. Я позвонила ей снизу. «Ну конечно, приходите!» – сказала она. Однако, когда я пришла, выяснилось, что она приглашена к обеду и ей уже пора. Она попросила меня проводить ее, и я отправилась, надеясь вовремя вернуться в ДЗН.
Мы вышли на Фонтанку. День был милый, солнечный, золотой – «совсем ваша «весенняя осень»» – сказала я[237]237
«И весенняя осень так жадно ласкалась к нему» – строка из стихотворения «Небывалая осень построила купол высокий…» (БВ, Anno Domini).
[Закрыть]. Мы шли к Неве. Она заговорила о жене Коли Давиденкова – как та его мучит, настоящая современная Кармен или Манон Леско.
– Но когда у нее будет трое детей от троих разных мужчин – что же, они так и будут целым табором кочевать от папы к папе? – сказала Анна Андреевна. – И всё, в отличие от Кармен, из-за лишних ста рублей, уверяю вас.
Я сказала, что вот такая женщина, никого не любящая и корыстная, всегда будет любима.
– Вовсе нет. Сейчас она очень свежа, но ведь это пройдет. И Коля оставит ее, и другой муж. Тому уж, говорят, надоело. Сколько я таких историй в жизни видела.
Мы перешли через разрытую Симеоньевскую и пошли по Моховой.
– Недавно у меня опять была Валерия Сергеевна, – сказала Анна Андреевна. – Представьте себе, это совершенно другой человек, новый, мне неизвестный. Полное изменение личности. Даже в мелочах она другая. Когда-то, в молодости, она была очень тяжела на подъем. Собирается в гости: переменит три платья, три прически и останется дома. Когда я теперь возобновляла с нею знакомство, я, признаться, немного рассчитывала на эту черту: ну, думаю, придет раза два в зиму – и только. Но нет! Теперь она ходит очень легко! Сколько угодно! Безо всяких затруднений!.. Но это еще полбеды. Она духовно переменилась. На днях взяла у меня почитать Пастернака. И принесла. Возмущена ужасно: «Развязен… бездарен… самовлюблен… плетет словеса…» Все это двадцать лет тому назад мы свободно могли бы прочитать в «Новом времени». «Рекламирует своего друга Нейгауза». Боже мой! Нейгауз – знаменитый музыкант и нисколько не нуждается в рекламе. «Баллада» ее вообще возмутила; ей неведомо, что Подол – это часть города, она воображает, будто речь идет о подоле женской юбки. И возмущена цинизмом.
– Вы ей объяснили?
– Конечно, нет… Я бы желала, чтобы когда-нибудь она встретилась у меня с Ксенией Григорьевной. Они обе и не догадываются, как сильно друг на друга похожи.
– А раньше Валерия Сергеевна была похожа на Ксению Григорьевну?
– Нисколько. Я говорю вам: произошла полная подмена личности.
Мы вышли на Неву. Она пенилась слегка, хотя и была голубая.
– Эта река всегда идет вспять. Всегда, – сказала Анна Андреевна.
29 сентября 40. Третьего дня вечером Коля Давиденков сказал мне, что в «Ленинградской правде», в статье о литературе, есть очень неблагосклонный отзыв об Анне Андреевне. Я хотела сразу к ней зайти, но помешал грипп. Вчера утром, когда мне сделалось полегче, я, позвонив, пошла. Застала ее еще в постели. Возле нее сидел Валя и готовил уроки. Оказывается, про статью она ничего не знала. Известие приняла равнодушно, однако послала Валю к Луниным за газетой. Я прочла ей всю статью вслух. Она обругана не по первому разряду, а так, приблизительно по десятому…[238]238
«Ленинградская правда», 27 сентября 1940. В статье «Активизировать творческую работу писателей» говорилось об «упадочнических» и «бледных» стихах Анны Ахматовой, вошедших, по вине беспечных редакторов, в сборник «Из шести книг». Эта статья, как и последующая в «Литературной газете» (см. с. 217), – обе! – явные и близкие предшественницы постановления ЦК об изъятии ахматовского сборника. (См. примеч. на с. 234.)
[Закрыть] Зато строки, порицающие 3., очень ее огорчили, и она несколько раз в разговоре возвращалась к несправедливости этих строк[239]239
Мною что-то здесь перепутано. Определить, кого я укрыла под буквой «3», мне не удается.
[Закрыть].
Потом она попросила меня достать из комодика пачку писем и, надев очки, прочитала мне письмо какого-то гражданина из Новосибирска, сильно ее тронувшее.
В самом деле, письмо, хоть и неинтеллигентное, но хорошее. Там есть такие слова: «И за это, товарищ Ахматова, я приношу Вам свою благодарность».
– Не правда ли, «товарищ Ахматова» звучит тут очень мило? – сказала Анна Андреевна. – Вчера я была в Пушкинском Доме на заседании Блоковской комиссии. Там, в перерыве, ко мне подошел молодой человек и вручил записку со стихами.
Анна Андреевна прочитала мне это стихотворение вслух, предупредив:
– От избытка чувств в одной строке нету ритма.
Я включила чайник и развернула пирожные. Анна Андреевна отдала два Вале и велела ему идти домой и одно дать Вовочке.
Пока чайник вскипал, Анна Андреевна читала мне стихи. Прочла про темные души, про Шекспира, потом, извинившись, что читает неоконченное, про руки и Павловск[240]240
А. А. прочитала: «Так отлетают темные души»; № 19; «Лондонцам»; № 51 (БВ, Седьмая книга); «Шестнадцатилетние руки» – впоследствии «Пятнадцатилетние» и – окончательно: «Мои молодые руки»; № 27.
[Закрыть].
Я сказала о первом: оно той же тональности, что и «Путем всея земли».
Она удивилась:
– А мне кажется, оно совсем старое, словно из «Белой Стаи»… Новым мне представляется только третье.
Она уже дошла до полного «владения формой», когда воочию осуществляется постоянное, старинное мечтание поэтов:
Слушаешь – и кажется, будто нету слов, размеров, ритмов, рифм, а просто – просто! – говорит сама душа, минуя форму, сама собой, чудом.
Все время, пока она читала, из соседней комнаты доносились Танины крики:
– Ах ты, зараза, сволочь, я тебе покажу, сволочь ты этакая!
Это Таня учила Валю делать уроки.
1 октября 40. Сегодня утром трагикомедия с переплетчиком. Вручая ему две недели назад книгу Ахматовой, я специально просила беречь надпись. Он обещал. А сегодня вручил мне книгу, весьма изящно переплетенную, но с отрезанной надписью – только хвостики от р и д остались. Я топала ногами и кричала. «Что вы расстраиваетесь, гражданка? – сказал он флегматически. – Подумаешь, надпись! Ведь это не Лев Толстой». На прощанье сострил: «Хотите, я вам сам надпишу?»
Я решила пойти к Анне Андреевне и попросить ее надписать мне книгу снова. Зашла к ней вместе с Люшенькой, возвращаясь от англичанки. Пришли мы некстати. Анна Андреевна неприбранная, непричесанная, с изможденным лицом. Я не удержалась и сразу рассказала ей о своей неудаче у переплетчика – не спросив ее о здоровье, не узнав, отчего она так дурно выглядит.
Она рассказала[242]242
Какое-то дурное известие о Леве.
[Закрыть], и я устыдилась себя.
Она села, однако, надписывать заново книгу. Перо оказалось негодным, и Люша была послана к Луниным за другим.
Ночью у Анны Андреевны был сердечный приступ.
Она пыталась быть любезной со мною и ласковой с Люшей, но это ей удавалось плохо.
Попросила меня достать ей вчерашнюю «Литературную газету» – там, оказывается, была статья о ней90.
Мы с Люшей простились. Анна Андреевна пошла проводить нас до входных дверей. Обнаружив на кухне свет, она резко сказала пунинской домработнице: «Погасить сейчас же. Это квартира коммунальная, и я не хочу из-за вас сидеть в лагере». Я в первый раз слышала, чтоб она говорила с кем-нибудь в таком резком и раздраженном тоне.
У дверей, прощаясь со мной и Люшей, она сказала:
– Сегодня день его рождения.
3 октября 40. Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне, что придет. У меня сидел Коля Давиденков, мы работали над его рукописью. Когда подняли голову – был час ночи: Анна Андреевна не пришла.
Сегодня с утра я отправилась к ней узнать, что случилось. В комнате старик-маляр замазывал окно. Анна Андреевна лежала на диване, под толстым одеялом, с желтым лицом – какая-то маленькая, сухая.
– Извините меня. Я вчера вышла к вам, дошла до Невского и повернула обратно: увидела часы и на них оказалось без двадцати двенадцать. А я думала – семь.
– Вы спали сегодня?
– Нет.
Я извинилась, что еще не раздобыла газету.
На стуле возле Анны Андреевны лежал томик Багрицкого, издания Малой серии.
Она спросила меня, знаю ли я стихи Багрицкого и что о них думаю.
Я ответила: знаю, но не думаю ничего, потому что они как-то проходят мимо меня, не трогая и не задевая.
– Совсем неинтересно, – согласилась Анна Андреевна. – Я читаю впервые. Меня поразила поэма «Февраль»: позорнейшее оплевывание революции.
И она очень методически, подробно, медленно пересказала мне своими словами сюжет и содержание этой поэмы91.
– Удивляюсь редактору книги. Зачем было это печатать? А вступительная статья Гринберга! Какая безответственность! Он пишет, будто в 1915 году во всех журналах царили акмеисты. Каждый школьник знает, что 15-й год – это Блок, Сологуб, Брюсов, Белый. Акмеистам в 15 году было негде печататься.
Я собралась уходить, но завыли сирены, закричало радио – началась воздушная тревога.
– Голос беды, – сказала Анна Андреевна.
Она попросила включить чайник. Я нашла в шкафчике кусок окаменелого хлеба, нашла сахар, вымыла чашки и ложки. Рассказала ей замысел своей статьи о Зощенко: статья будет о том, что Зощенко – писатель-моралист, занятый главным образом этическими проблемами, и о том, как ставит он эти проблемы в рассказах для детей92.
Анна Андреевна перебила меня.
– Как это странно! То же самое про этику, про моральное напряжение говорил мне когда-то Хлебников обо мне… Вы подумайте: Хлебников обо мне!
Труба заиграла отбой. Бодрые звуки эти очень шли золотым листьям за окном, яркому солнцу, синеве.
Я простилась.
8 октября 40. Вчера я была в гостях у Анны Андреевны. Впечатление смутное и тяжелое. Когда я вошла, она стояла на коленях у сундука, выкладывая на пол какие-то книги и рисунки. Объяснила, что ищет маленький пейзаж, который хочет подарить Владимиру Георгиевичу. Нашла рисунок: лодочка, озеро, отражение холма в воде… (Подписи художника я не разглядела хорошенько; может быть, Воинов.) И только когда она поднялась с колен и села на свое обычное место – я увидела, что у нее искаженное лицо, какое-то отекшее и осунувшееся. Такое лицо было у нее в прошлогоднем августе, когда она провожала Леву.
Скоро пришел гость – некто из Эрмитажа. Он рассказал о болезни Орбели: у Орбели гайморит, врачи настаивают на операции, а он отказывается.
– Что же будет? – спросила я.
Анна Андреевна все время слушала очень рассеянно, молча сидела и думала о чем-то своем. Но на мой вопрос ответила энергично и с гневом:
– Будет – смерть. Вот наказание за трусость!
13 октября 40. Вчера вечером Анна Андреевна позвонила мне и очень настойчиво попросила прийти. Я отменила работу с Колей Давиденковым и пошла к ней по проливному дождю.
Комната имеет вид пустой, просторной, тщательно прибранной. У Анны Андреевны белые глаза и синие губы. Глаза ввалились, глазницы, как ямы. Усадила меня на диван:
– Я письмо получила. Сегодня. В восемь часов утра. Не получать писем худо – три месяца не было ни строки, – а получать еще хуже.
Прочитала мне письмо вслух. Голос напряженный: «Жизнь, кажется, висит на волоске»[243]243
Строка из стихотворения «Муза»; № 6.
[Закрыть]. Когда она кончила, на глазах у нее были слезы.
А ей ведь предстоит известить Леву о новой неудаче!
Я спросила, какие у нее еще новости.
– Да так, смешные пустяки. – И протянула мне маленькую бумажку. Там, на машинке, с пропуском места для вписанной от руки фамилии, настукано предложение прислать стихи для какого-то сборника – «стихи 39–40 гг.». Бумажка серийного производства. Однако я обрадовалась и такой: она не была бы послана, если бы имя Анны Ахматовой стало уже совсем одиозным.
Анна Андреевна включила чайник. Тут я поняла свою глупость: по дороге я ничего не купила, а к чаю нет ничего решительно. Я отправилась покупать.
Когда я воротилась с пакетами, на диване возле Анны Андреевны сидела Срезневская93. На ней была знаменитая лазурная шаль Анны Андреевны. Мы начали пить чай. Валерия Сергеевна звучным своим голосом, русским говорком пустилась в воспоминания. Говорит она хорошо, красочно, иногда ее замечания тонки, но она слишком часто вставляет в речь словечко «понимаете» и слишком у нее в ходу «исключительно» и «замечательно».
Она говорила: «Теперь старые дамы пытаются присоседиться к Ане. Недавно я слышала об одной, которая у кого-то отняла твою книгу, потому, мол, что у нее и с книгой, и с тобой «столько связано»: вы обе любили одного человека и она его тебе отдала».
– Это Владимира Казимировича, – засмеялась Анна Андреевна. – Какая чушь.
– Он был исключительно, непередаваемо красив, – воскликнула с энтузиазмом Валерия Сергеевна. – Высокий, стройный. Лепка головы просто античная. А какой он был гений.
Я опасалась сначала, что Анне Андреевне эта болтовня неприятна, —..нет, она охотно слушала и вставляла словечки.
Заговорили о том, как недостоверны воспоминания. Срезневская: «Вот, например, Голлербах. Ну что он может помнить и что понимать? Это мы хорошо помним кондитерскую его матери. У нее была целая куча детей, и Эрка бегал – schneller![244]244
Быстрее (немецк.)
[Закрыть] – теряя калоши. Не правда ли, Аня, мы никак не предполагали тогда, что это будущий искусствовед?94 Ну что он может помнить?.. Мы еще там леденцы покупали – ты помнишь, Аня?»
– Он сделал так, – сказала Анна Андреевна, – женился на второй жене мужа моей покойной сестры. И овладел моими письмами и дневником сестры[245]245
Речь идет о письмах Анны Ахматовой к С. В. Штейну. Впервые они были напечатаны за границей в 1977 г. – см.: «Ахматова. Ардис». В Советском Союзе – в журнале «Новый мир» (1986, № 9). Публикация Э. Г. Герштейн.
[Закрыть].
Потом они вспоминали извозчика в Царском, который обернулся и что-то сказал им смешное[246]246
Извозчик сказал: «Ревнивая обида у вас, барышни» (сообщила мне, со слов Анны Андреевны, М. С. Петровых в 1968 г.).
[Закрыть]; потом – няню Валерии Сергеевны, которая чудесно говорила по-русски, носила власяницу и дружила со скопцом Федькой; потом – мать Анны Андреевны.
– Твоя няня, – сказала Анна Андреевна, – все удивлялась, как это Коля на мне женился: горбоносая, худая, ничего в ней нет. А Коля – первый жених в Царском. Это понятно. Она ведь, как и все они там, сильно почитала Колину мать. Анна Ивановна была хозяйкой, не то что наши мамы.
«Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни. Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить – непонятно».
– Не только на курсы, – поправила Анна Андреевна, – она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.
«Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками».
– Чудные белые ручки! – вставила Анна Андреевна.
«Необыкновенный французский язык, – продолжала Срезневская, – вечно падающее пенсне, и ничего, ну ровно ничего не умела… А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр слегка набок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: «Евгения была недурна»…
– Он видел ее в Константинополе, – вставила Анна Андреевна, – и находил, что она – самая красивая женщина в мире.
Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича: «Бессмертные руки!» – сказала Валерия Сергеевна.
Заговорили о деревне, потом о крестьянах, украинских и русских.
– Униженно держались только украинские крестьяне, – сказала Анна Андреевна. – Они были развращены польскими помещиками. Я сама видела там, как едет управляющий в красных перчатках и семидесятилетние старухи его в эти перчатки целуют. Омерзительно! А в Тверской губернии совсем не то – полное достоинство.
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб, —
произнесла Валерия Сергеевна[247]247
Строки из стихотворения «Ты знаешь, я томлюсь в неволе» – БВ, Четки.
[Закрыть].
Опять вернулись к воспоминаниям и к будущей биографии.
«Я знаю одну даму, которая, в подтверждение легенды о твоем романе с Блоком, ссылалась на строчки: «Ты письмо мое, милый, не комкай, / До конца его, друг, прочти. / Надоело мне быть незнакомкой, / Быть чужой на твоем пути»»[248]248
БВ, Четки.
[Закрыть].
Валерия Сергеевна не удержалась и со вздохом добавила:
«Вот так будут писаться наши биографии».
Я глянула на часы – оказалось два. Мы вышли вместе. Пока мы шли через двор, Валерия Сергеевна продолжала говорить о воспоминаниях и биографиях.
– Голлербах что-то пишет, а обо мне и понятия не имеет, – какой у меня материал. Ведь мы учились вместе с Аней в гимназии, у меня она жила, когда ушла от Коли… Ах, какая у меня была исключительная, совершенно особенная дружба с Колей… Но я ни для кого не доступна, Голлербаху до меня не добраться. Я ни для кого не доступна, кроме самых первоклассных людей.
Мы простились.
17 октября 40. Вчера вечером Анна Андреевна пришла ко мне в гости. В черном шелковом платье, в белом ожерелье, нарядная. Но грустная и очень рассеянная.
У меня была Муся[249]249
Муся – Мария Яковлевна Варшавская. О ней см. 95.
[Закрыть].
Анна Андреевна сидела очень прямо на краю дивана, не усаживаясь, как обычно, поглубже, молча курила и молча пила чай.
Высмотрела на полке книжечку стихов Симонова и попросила меня почитать вслух. Я прочитала два стихотворения: «Транссибирский экспресс» и «Чемодан». Я спросила у нее, почему вот в «Экспрессе» все как будто есть, а тем не менее – плохие стихи. Она поморщилась:
– Мелко… мелко… и какую обильную дань он собрал с Пастернака!
Я прочитала вслух «Историю болезни» Зощенко. Она, к моему удивлению, не смеялась, но, когда я окончила, сказала:
– Очень хорошо. Отлично.
Я попросила ее объяснить, почему она не любит Чехова?
– Прежде всего я не люблю его драматургию. Театр – это зрелище. А драмы Чехова – это совершенное разложение театра. Но не в этом дело. Я не люблю его потому, что все люди у него жалкие, не знающие подвига. И положение у всех безвыходное. Я не люблю такой литературы. Я понимаю, что эти черты чеховского творчества обусловлены временем, но все равно – не люблю.
И Художественный театр – тоже. Особенно когда они ставят Шекспира. Им Шекспира совсем трогать нельзя. Они не понимают, как к нему подойти, он не для них. Даже Михаил Чехов, гениальный актер, – я не могу забыть Эрика – в «Гамлете» плох… Я никогда Художественного театра не любила. Один раз пошли мы с Володей Шилейко на какой-то чеховский спектакль. Он мне в антракте говорит: «Ты видела? Там мышка на сцену выскочила. Интересно, это она случайно или так требуется по режиссерскому замыслу?»
Анна Андреевна была в этот вечер очень неразговорчивая. Говорила, только отвечая на вопрос. Я спросила, правда ли, что, как мне рассказывал Корней Иванович, в молодости она занималась гимнастикой.
– Нет, гимнастикой я не занималась. Это, наверное, К. И. имеет в виду фокусы, которые я показывала. Я могла, изогнувшись, коснуться затылком пола. Могла лечь на живот и прислонить голову к ногам. Безо всякой тренировки мне давались такие вещи, которые обычно достигаются только упорной, ежедневной тренировкой. Циркачи говорили, что, если бы я с детства пошла учиться в цирк, – у меня было бы мировое имя.
Опять замолчали. Потом Муся призналась, что пробует читать «Улисса», но не понимает его.
– Изумительная книга. Великая книга, – сказала Анна Андреевна. – Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по пять часов в день и прочла шесть раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало, – знаете, как фотография, которую проявляют. Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его стола.
– А Хемингуэя вы любите? – спросила Муся.
– Очень. Лучшая его вещь – «Снега Килиманджаро».
Она поднялась, вышла в переднюю, надела пальто – и тут обнаружила, обыскав карманы, что оставила дома ключи от квартиры и от комнаты. Позвонила Николаю Николаевичу («говорит Ахматова») и попросила его открыть ей входную дверь.
Я отправилась ее провожать, проводила до верха и подождала, пока ей открыли. Вернувшись домой, позвонила ей по телефону, чтобы узнать, удалось ли ей попасть к себе в комнату? Удалось; дверь открыли с помощью отмычки.
В ответ она спросила, не оставила ли она ключи у меня на диване.
Так и оказалось.
Сегодня около часу дня я отправилась отнести ей ключи.
Лежит; растрепанные волосы, толстое одеяло без простыни – всё, как всегда. Но сегодня она живее, бодрее, чем была вчера. Скинула со стула охапку белья и предложила мне сесть.
– Вы вчера были чем-то дополнительно огорчены? – спросила я.
– Да, – ответила она, не объясняя.
Предложила мне посмотреть пушкинские тетради,
только что ею полученные. Красивый футляр, потом почерк Пушкина. Перелистывая тетрадь комментариев, я наткнулась на ее заметку.
– Надо ее прочесть, – сказала я.
– Нет, нет, совсем не надо! – закричала Анна Андреевна. – Это собачий бред, мура! (Я ужасно люблю слышать из ее уст такие словечки.) Чудаки пушкинисты! Вот Бонди построил весь свой комментарий на полемике с Измайловым. Ну кому это надо? Они так вгрызлись друг в друга, что совсем уже ничего не понимают.
Потом она рассказала мне о посещении Пуц.[250]250
?
[Закрыть] Действительно, по-видимому, пренеприятный господин.
– Сегодня он должен звонить, – продолжала Анна Андреевна. – Я скажу ему, что позировать раздумала. Скажу ему, что друзья не советуют: очень уж старая стала.
– Но тогда он будет галантно возражать.
– Ничего он не будет. Я повешу трубку.
Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны.
– О, да! – весело подтвердила Анна Андреевна, – когда едешь в мягком ландо, под маленьким зонтиком, с большой собакой рядом на сиденье и все говорят: «вот Ахматова», – это одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селедками и пахнет селедками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду»[251]251
Строки из стихотворения «Звенела музыка в саду» – БВ, Четки.
[Закрыть] – это совсем, совсем другое. Меня такое зло взяло, что я даже не оглянулась.
Я спросила, выздоровел ли Баранов и смотрел ли ее. (Она ведь собралась лечиться, лечь в больницу.)
– Не знаю. Но лечиться я больше не стану. Это слишком большого напряжения требует.
– Но вы же сами, Анна Андреевна, бранили меня и уверяли, что лежать в больнице даже приятно!
– А теперь я лечиться не буду. После отказа я решила не лечиться.
22 октября 40. Вечер. Анна Андреевна выглядит чуть получше и лежит в белом платье на своем диване. Встретила меня ласково, радостно. Показала мне неизданного Хлебникова, полученного ею только что в подарок от Николая Ивановича.
– Прекрасная работа, блестящая. Но знаете, что: я прихожу к убеждению, все более и более, что история литературы – это такие все мнимости! Вот даже тут, в прекрасной работе Николая Ивановича, это видно. Хлебников поносит Сологуба, Арцыбашева, Блока. Николай Иванович разъясняет, что это, мол, была борьба с символистами. Вздор! Какой же Арцыбашев символист? И никакой осознанной борьбы с символизмом у Хлебникова вовсе не было. Они боролись со всеми известными тогда людьми, чтобы место расчистить… Тут от Хлебникова и Корнею Ивановичу достается. И это, конечно, тоже в плане борьбы с известностью. Возьмите Маяковского. Теперь вот говорят и пишут, что он любил мои стихи. А публично он всегда ругал меня… Им надо было вырубить лес, и они вырубали вершинки повыше.
Рассказала, возмущаясь, о домысле Максимова96.
– Собачий бред! Мура! И это говорит специалист. Нет, в пушкинизме такого уже не может быть. Пушкинизм – это действительно точное знание. У Пушкина, например, есть письмо к Дмитриеву, очень учтивое. Но мы уже поняли, что значит эта учтивость, пушкинисты осведомлены прекрасно, что для Пушкина Дмитриев был падалью.
Я часто жаловалась ей на свою неспособность понять прелесть Хлебникова. Она вспомнила об этом, изогнулась, добыла со стула очки и старый том Хлебникова и, строгая, в очках, облокотясь на подушку, медленно прочитала два стихотворения: «Правителем не буду» и «А пение и слезы». Потом дала мне самой прочитать вслух третье: о горах, о поездке, о проводнике97.
– Поняли?
– Да, – ответила я неуверенно и решилась заметить, что моему уху мешает отсутствие определенного ритма, что чередование слов и движение стиха представляются мне произвольными, я не чувствую в них обязательности, что мне кажется, будто это заготовки для стихов, еще не написанных, и что, по-моему, или стихи Жуковского – стихи, или это – стихи.
– Ну что вы! Ну как можно так говорить! Это все увидено как бы в первый раз, первоначально. Поэты знают, до чего это трудно: писать, как говорит Борис Леонидович, «без поэтической грязи»…
– Я очень люблю Хлебникова, – продолжала она, – но не во все периоды его. У него ведь много периодов, не то что у Пастернака. Я терпеть не могу раннего Хлебникова, славянского. Вы Ремизова любите? Нет? Я тоже. Что за безвкусица, что за чепуха! Я как прочту «Лель» – так мне тошно станет. Какой Лель, откуда? Вот и у Хлебникова есть период Леля, который я не люблю.
Мы сели пить чай. Разговор зашел о Крыме, о море. Анна Андреевна сказала:
– Я недавно перечла «У самого моря» и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?
– Я думала – девушка шестнадцати-семнадцати лет.
– Нет, именно девочка, лет тринадцати… Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.
– Вы, наверное, очень скучаете без моря?
– Нет. Я его помню. Оно всегда со мной… У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды на обратном пути дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной – говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: «А где же Аня?» – «Выбросилась». А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега…
27 октября 40. Анна Андреевна просила зайти ее навестить. Я отправилась с Люшей. Она спала, но Николай Николаевич, открывший нам дверь, сказал, что она просила непременно разбудить ее, когда мы придем.
Она была очень приветлива, ласкова, хотя, мне кажется, не совсем проснулась.
Осведомилась о Люшиных отметках в четверти, потом, что она читает. Люшенька перечитывает «Хижину дяди Тома». Я спросила у Анны Андреевны, любит ли она эту книгу.
– Я не могла ее прочесть – серьезно ответила Анна Андреевна. – Мне было слишком жалко негров.
Я спросила ее, что она читает теперь.
– «Деяния», – как-то неохотно ответила она.
Я спросила ее, решилась ли она переехать ко мне[252]252
В это время в комнате Матвея Петровича жид уже не Катышев (НКВД), жили обыкновенные студенты, с которыми можно было обменяться законным порядком.
[Закрыть].
– Нет. Николай Николаевич сейчас очень определенно напомнил мне мое обещание не передавать комнату людям, ему неизвестным.
Настаивать я не стала. Мы ушли.
7 ноября 40. У Анны Андреевны бронхит, насморк, а ночью был сердечный приступ. Я пошла ее навещать. Она ровна, спокойна, грустна. Таня, которая собиралась менять свою комнату, остается; Анна Андреевна рада, что не увозят детей. Попросила меня принести для Вовочки «Мойдодыра».
Я осведомилась, что она читает.
– Хлебникова, – ответила она. – Знаете, поразительна в нем его наивность. Ведь он был уверен, что чуть только люди прочтут его стихи – сразу все всё поймут и сразу всё изменится. Поэтому он очень стремился печататься.
Мы заговорили о мемуарах Белого. Она отозвалась о них – уже не впервые – с негодованием:
– Лживые, сознательно лживые мемуары, в которых все искажено – и роли людей, и события.
Я сказала, что мне всегда неприятно все, написанное Белым о Блоке: будто бы благоговеет, а на самом деле осуждает. Она ответила:
– Прежде считалось неприличным писать о ком-либо, находясь в том положении относительно Блока, в каком находился Белый… Ведь не стали бы печатать мемуары Дантеса о Пушкине, не правда ли?








