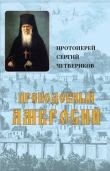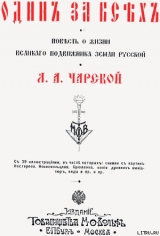
Текст книги "Один за всех"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
X

СЛОВНО вихрь кружится время. Кружится, катится, вертится, клубится, развертывается, разматывается бесконечным клубком. Жизнь бежит точно от погони, как испуганный дикий олень. Судьба-старуха за ним спешит с клюкою. Гонит, гонит… А впереди другая старая ждет: с косой острой, с пальцами костлявыми, с темным непроницаемым взором. Это – смерть. Эта уже не гонит, она ждет. Притаилась, чуть дыша, за углом и ждет. Кто намечен ею – не постесняется, протянет руку, зацепит косою. Дзинь-дзинь-дзинь, – прозвенит коса и нет человека. Вот у нее расправа какова.
Притаилась она за углом Хотьковой обители. Навострила косу, простерла руку. За одним ударом готовит другой. Две жизни разит к ряду, ненасытная. Две жизни! Ликует смерть. Что ей? Так суждено! Так велено судьбою! Так подтолкнуло под руку время! А она, старая, тут не при чем…
В Хотьковой обители стонут колокола печальным, скорбным перезвоном. Похоронное пение звучит в общем монастырском храме. Два гроба, две колоды, в которых хоронила своих умерших прежняя Русь стоят на черном траурном катафалке.
Кирилл и Мария, смиренные старец и старица Хотькова монастыря, умерли скоро один за другим почти к ряду. Хоронили в один день обоих. Были мужем и женою в миру – братом и сестрою во Христе стали в обители.
Лежат оба с холодным поцелуем смерти на лицах, Божьи инок и инокиня.
Спокойны, радостны их лица. Вся жизнь прошла в печали, заботах, нужде и гонениях. Впереди избавление, радость. Смерть принесла сладкий бальзам утешения, блаженство. Они достойны счастья. Они много выстрадали, спасались в обители, прошли суровый, хоть и недолгий, иноческий подвиг.
Варфоломей, Стефан, Петр и Катя с обоими племянниками стоят у гроба.
Стефан сильно изменился за недолгие годы. Поседел, сгорбился, не глядя на молодость. Еще суровее стало лицо. Инок стал в полном смысле. Петр – тот же свежий, ясный, спокойный хозяин-юноша. Катя – румяная, здоровая с обычно веселыми, теперь заплаканными от горя, глазами, мальчиков, сыновей Степана, пуще глаза бережет. Своих детей не так. Привязалась, как к родным, к Ване и Феде.
Варфоломей…
Двадцать лет стукнуло Варфоломею. Не муж он еще, юноша, так почему же при встрече с ним низко склоняются головы обительских старцев? Почему почтительно вскидывают на него глазами прославленные в подвигах благочестия преподобные отцы?
Синий взор Варфоломея глубок, как море. В нем покоится неразгаданная тайна всего его существа. Золотистые кудри вздымаются над вдохновенным высоким лбом, обрамляя бледное, строгое и кроткое в то же время лицо юного красавца. Тонкие губы сжаты. Темные брови сведены. Черточка-думка залегла между ними. Высокий, статный, он глядит прямо. Глядит в душу – и молнии тихих восторженных дум летят от его лица, от его синих глаз, сапфировых, как волны моря.
Молятся осиротевшие дети-сыновья. Молятся – без горя, без глубокой скорби. Жаль родителей, но тиха и праведна их кончина. В ней величавая желанная красота. Нет места гнетущей тяжелой скорби…
Поют на клиросе старцы причт. Дымок кадильника вздымается, летит под купол храма.
Вот раздался голос старого пресвитера. Глубокою верою дышат его слова.
Плачет Катя, плачут дети, влажны ресницы у Петра. Стефан и Варфоломей стоят, замкнутые в тихой строгой печали.
Кончился долгий обряд. Подняли колоды с останками усопших старца и старицы, понесли на кладбище.

Прощание с умершим отцом.
Вот и могила, уже заранее заготовленная. Остановились. Опять раздается дребезжащий голос священника, пение старцев и иноков. Под их тихое пение простились, под их тихое пение опустили в землю, засыпали колоды, уравняли могилу, два креста водрузили. Обвили их цветами – последними, предосенними махровыми маками, диким шиповником, пожелтевшею листвою лип и дубов.
Разошлись старцы, старицы, ушел священник с причтом. Катя стала собирать детей домой. Торопит мужа, Варфоломея. С прежним Степаном, теперь уже иноком Стефаном, прощается.
– Приходи в воскресение, отче! Напеку блинов, батюшку с матушкой поминать будем.
– Спасибо, Катеринушка! Не гость я ваш более.
Что? Что он сказал, или она ослышалась, Катя.
– Варфушка! Варфушка! – зовет вне себя брата на помощь испуганная, изумленная ребенок-женщина, – слышь, что говорить Степа, то есть, как бишь, отец Стефан… – и совсем замолкла, смутившись своей ошибкой.
Варфоломей, молившийся на коленях у родных могил, тихо поднялся, подошел неторопливо, взглянул на жену младшего брата.
Синие глаза его зажглись кроткой лаской. Но полно было сурового решения строгое в эти минуты лицо.
– Брат Стефан прав, Катя, – заговорил он тихо, – ни он, ни я не вернемся в усадьбу домой. Сорок дней здесь в обители молиться за батюшку с матушкой будем. Сорокоуст справим у родных могилок, а там в лесные чащи уйдем, подвижничать, грехи свои и мира замаливать, спасаться. Живите с Господом своей семьею, деток-сироток берегите. За нас молитесь, грешных, а мы, чем можем, у Господа за вас, мирян, работать и молиться станем. Не обессудьте, не гневайтесь… Имение родительское – все ваше. Нам с братом ничего не надо… Так мы со Стефаном, Божьим иноком, давно решили… Прощайте же, Петр, прощай, Катя, детки милые, ласковые, прощайте, Господь со всеми с вами.
Умолк. Затих. Оборвалась горячая речь. А Петр, Катя, как зачарованные, неподвижно стояли на месте, будто все еще слушая их. Первая опомнилась Катя. Бросилась к Варфоломею. Схватила его за руки и, трепеща от волнения, залепетала, обливаясь слезами.
– Варфушка, родимый! Ласковый, желанный наш, не губи себя, свою молодость… Какой же ты отшельник, такой молоденький, юный!.. Останься, Варфушка! Останься за старшего, за любимого. Во всем тебе почет и уваженье будет. Как батюшку с матушкой покойных слушались, так и тебе ни в чем перечить не станем. Братец родненький, не покидай нас, соколик наш!
– Не покидай, братец! – вторит жене и Петр.
Затуманилось лицо Варфоломея. Так в летний жаркий день вдруг туча набегает на прозрачную синеву неба и затемняет его… Но на миг только набежала. Скрылась мгновенно. Чистым и прекрасным стало снова сияние глаз Варфоломея. Заговорил спокойно, но твердо. Падали слова, как родник в лесу в глубокое русло.
– Нельзя. Не могу. Не проси, Катя, сестра любимая. Не проси. Дал слово жить в миру до конца отца с матерью. Свершилось. Господь посетил их милостью своею. И решили мы с иноком-братом искать в лесных чащах молитвы, одиночества и труда. Господь с вами, не мешайте нам. Идем своей дорогой.
И опять стало строго красивое лицо юноши, когда говорил он эти слова.
Поневоле затихла Катя. Замолк и Петр. Не смели просить, уговаривать. Простились тихо, грустно, в слезах. Плакали дети. Плакали, мало понимая. От отца успели отвыкнуть. Глядя на взрослых горевали.
Прослезился Варфоломей и суровый Стефан-инок. Обнимались долго. Теплом дышали прощальные поцелуи… Еще раз подтвердил Варфоломей, что все имение, всю часть своего наследства отдает Петру с Катей. Рыдала Катя. Как по мертвом, по любимом названом брате. Потом села с мужем и племянником в колымагу. Поехали. Кричали из возка о том, что видеться будут, еще не раз во время сорокоуста. Предосенний ветер заглушал слова.
Скрылась из виду колымага, Петр, Катя, дети. Варфоломей с иноком-братом остались один на один.
Долго смотрели друг другу в очи. Потом младший взял старшего за руку.
– Ежели жаль тебе покидать обитель, не ходи, отпусти меня одного. Уйду один. Тяжело тебе будет. Я давно к этому рвался, с детства. Ты же не мыслил о подвижничестве прежде. Аннина смерть толкнула.
– Так! Анна ушла и повела за собою. По ней, голубке, тоскует душа. В обители на людях тосковать труднее. Возьми же меня с собою.
– Да нешто в моей то воле? Иди! Рад буду! С тобой вместе легче осилить подвиг. Так через сорок дней соберемся?
Заглянул глубоко под темный клобук в самые очи Стефана загоревшимися и ласковыми глазами. Призывом пламенел тот взгляд.
Тихо склонил голову инок.
– С тобой, Варфушка! За тобой, мой сокол. Веди, куда хочешь, – всюду пойду. Господь поможет утишить горе вдали от людей.
И тихо поползла по суровому лицу молодого монаха одинокая слеза.


Преп. Сергий благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Картина М. С. Нестерова.
XI

ГЛУХАЯ осень. Ветер злым духом кружит, по лесу гудит. Дика и воинственна его песнь. Красивой непроницаемостью, жуткой тайной отдает сердце глуши. Листья осенние кружат по воздуху, кружат, желтые, лиловые, березовые, как золото, светлые, ясные, кленовые – багряные, в пурпуре. В них прощальный вздох умирания, танец последний, погибельный. Покружатся, попляшут и упадут. А упадут – смерть, гниение, конец короткой жизни с тихим шептанием, с гулким ропотом. Не увидят весенней улыбки золотистого заоблачного сверкания. Упали – умерли. Нет им возврата, живого дыхания. Кончена их жизнь…
Скупо догорает заря на небе. Вечереет. Прощально и бледно сквозят розоватые блики на обнаженных остовах, гордых в своей обветшалой осенней дряхлости, деревьев. Бледная, сухая, с острым ароматом и тупым, неласковым холодком царственная властительница-осень надела багряно-янтарную корону из пурпура и золота перекрашенных, бывших еще недавно зелеными, листьев. Но красавица угрюма и злая и точно хочет запугать всех своими мутными, темными, злыми глазами. В червонных косах играют прощальные зоревые блики.
Тьма подходит. Черноокая ночь-колдунья чарует, чарует. Холод. Тьма. Тишина.
Вдруг легкие хрусты, усталые шаги. По узкой, кочковатой тропе идут двое. Один совсем юный, изможденный от устали, холода. Другой постарше. Варфоломей и Стефан. Высокие посохи в руках, грубые посконные одежды.
Долго бродили. Грязная запыленная обувь у обоих, бледные лица, синие круги вокруг глаз.
С трудом взбираются на холм по лесной прогалине. Место в гору идет, будто маковка, шапкой.
Кругом лес, тьма. Покатая, круглая горка. Спуски в чащу. Всюду лесная стража, могучая неодолимая на вид, стоит черной стеной: дубы, клены, липы, березы, тополя…
В лесу тишь. Жуткая, но любая сердцу.
Озирается кругом синими, в темные круги усталости заключенными глазами Варфоломей. Вспыхивают в глубине их зарницы. Синие звезды очей горят, пылают.
– Стой, Стефан, – говорит он и нежно, мягко звучит его голос, – стой, милый. Здесь это. Чует сердце, что здесь. Велят мысль и оно, вещее, на этом самом месте строиться, и остаться. Хорошо здесь, тихо, далече от людей. Господь Всесильный, как у меня душа трепещет! Здесь… Чую… Чую.
– Ладно! Останемся здесь, – склоняя иноческий клобук, шепчет Стефан, – останемся, родимый!
Ему все равно, где поселиться. Здесь ли, на этой горушке-маковке, окруженной лесом, либо в прогалине чащи, в долинке малой. Нет мочи, устал Стефан, бродя по дебрям. Кружили, кружили они по заповедным Радонежским топям, пока не дошли до этого места. Теперь он только об одном мечтает – как бы прилечь отдохнуть, распрямить усталые ноги, уснуть.
Он не подвижник, Стефан, нет. Он и не шел на подвиг, на тот подвиг, что снился Варфушке с детства. Любовь к умершей жене загнала его сюда в глушь, на вечное поселение. Он только человек, инок с обыденной душой. Бури земные его бьют шибко. И тело его стало слабым. Иссушенное горем не закалено оно для отшельнических нужд. Варфоломей – тот иной. И сейчас будто нипочем ему долгое по лесу брожение, будто устали и не бывало – хлопочет, суетится. Лицо юное, довольное, ликующее, как будто новое, освещенное внутренней радостью.
– Стефан! Братец, инок Божий! Постой, я тебе шалаш живым духом смастерю. Мху с листьями насбираю. Отдохнешь, выспишься. А ужо на заре строиться зачнем. Первое дело церковку. Выстроим – и за избу примемся. Ладно?
А лицо так и сияет, так и сияет. Никогда еще не видал таким радостным брата Стефан.
Вдруг в полутьме сгущенных ранних сумерек смущением вспыхивают глаза Варфоломея. Странная мысль проникает в мозг.
– Братец, а в чье имя святое заложим мы храм Божий?
На минуту задумался Стефан, смешался. Не легкая задача это. Какому святому поручить их будущую маленькую убогую лесную церковь. Задумался крепко. Побежали мгновения. Вдруг мысль ворвалась в голову. Передается душе, сердцу.
– Во имя Святой Троицы заложим, – говорит не Стефан будто, а кто-то живой и вещий из самых недр души Стефана.
– Нельзя иначе! Тогда, до рождения твоего, трижды слышался голос в церкви, во время литургии, и крестивший тебя священник пояснил родимым нашим, что будешь ты служителем Святой Троицы. Во имя ее и соорудим, братец любимый, наш убогий, маленький храм.
Сказал и вздохнул облегченно. Точно скатилось с него тяжелое бремя.
Ничего не ответил брату Варфоломей. Но ярче запылали в полутьме наступившего вечера сияющие глаза, и тихая, сладкая радость озарила все его юное существо.
А ночь все колдовала с новой силой. Расплывались ее чары. Ниспадали черные покровы, махали крыльями беспросветными мрак и тьма.
Варфоломей высек огня, сложил костер из сучьев валежника и бересты, а когда запылал огонь, набрал ветвей, нарезал острым ножом хлестких, гибких прутьев, свил стены кровли, перевил ползучими длинными стеблями, сухими травами, устроил ложе из мха и тлеющих листьев.
Затем вынул хлеб из мешка, посыпал солью, передал Стефану.
– Кушай, братец! Потом спать ложись. Отдохни с Господом.
– Спасибо, желанный. А ты?
– Не хочется что-то!
– Притомился, что ли?
– Нет, нет! Радость моя сон гонит. Не усну все едино. А ты ступай со Христом, ложись.
Встал, пошатываясь, Стефан. Усталость все тело сковала. Ноют ноги.
– Христос с тобой, желанный!
Благословил брата скромным иноческим крестом. Вошел в шалаш. Стал молиться. Потом, обессиленный, упал на мягкое ложе и уснул сразу, как убитый.
Костер догорал.
Варфоломей, сидя у огня, смотрит внимательно на его умирающее пламя. Тлеют темные угольки, вспыхивают рубинами, яхонтами, сапфирами. И сердце Варфоломея пылает не меньше. Теперь он счастлив. Теперь добился всего. Здесь, в тиши, в глуши, вдвоем с братом, проведут они долгую жизнь. Будут молиться за всех, будут трудиться одни в глуши, одни, на груди леса, в самом сердце лесной чащи, от Хотьковой обители верст десять, от усадьбы столько же. Не забывать обещали Катя с Петрушей, присылать хлеба, припасов. Вода есть в роднике, версты две отселе, видал он проходом. Чего же еще надо? Вот с Божьей помощью выстроят церковь, в Москву сходят к митрополиту, испросят благословения. Пришлет владыка священников. Осветят лесной храм в глуши Радонежской. О, Господи! Чаял ли он такого счастья дождаться, Варфоломей.
И потрясенный, радостный, весь в слезах, счастливый, он мягко опускается на колени на сырую, росистую, увядшую траву и молится, и радуется, и благодарить, и ликует.
Здравствуй! Здравствуй, новая светлая, давно желанная жизнь!


Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на победу.
Картина академика А. Н. Новоскольцева.
XII

ГЛУШЕ, жестче, сердитей делается осень. По утрам стоят хрустально прозрачные и чистые, как молитва, холодники. По ночам бродят ветры, как неуспокоенные могилой призраки, и воют голодные волки.

Варфоломей и Стефан за постройкой пустыни.
Шалаш давно сменен крепкой бревенчатой избушкой с очагом, лежанкой, с высоким крылечком, с сенями и боковушами. Даст Господь, странники-путники, калики перехожие, набредут на жилье ненароком, будет где приютить их, принять и погреть усталые бедные косточки. Братья позаботились и об этом. С зари до зари работают над постройками. Церковь уже готова. Ходили в Москву оба к митрополиту. Просили прислать священников с дарами, с антиминсом, освятить вновь выстроенный храм. Свершилось. Священным пением, святыми молитвами осенили дом Божий среди заповедных Радонежских дебрей. Ушли, уехали кроткие московские гости. Опять одни остались братья. Опять закипела повседневная работа.

Братья-подвижники у митрополита московского.
Работает, впрочем, больше один Варфоломей. Инок Стефан болеет. Пожелтел, осунулся. Истома, тоска во всем теле. Очень трудился, помогал брату, изнемог. Тело болит, душа того сильнее. Тоска гнетет пуще Стефана.
– Братец, невмоготу, – зашептал как-то поздним осенним вечером, когда Варфоломей, наскоро перекусив хлебом и водою, – хлебом, однажды в неделю присылаемым им братом Петром из усадьбы, – взялся за священное писание, которое читал брату усердно целыми часами. – Невмоготу мне, Варфушка, такая жизнь. Привык я к обители, тянет в монашескую келью. Душа просит служб церковных, песнопений и жаждет слушать литургию, вечерню. Тянет меня, Варфушка, болит сердце. И опять вот круче по Аннушке тоскую я здесь… Там легче было. Отпусти меня, братец…
Жалобно дрожит голос Стефана. Смущенно глядят измученные глаза инока и жаль ему оставить брата одного в лесной глуши. И тянет, в то же время, гонит его отсюда к простору, к свету, к золотым боголепным храмам, к дивному пению, к торжественным службам, пышность которых радует сердце, уносит, вынимает из него злую тоску.
Варфоломей, затаив дыхание, слушает брата. Чуть кивает головою, золотыми кудрями. Сияет синею ласкою доброжелательных глаз.
– Господь с тобою, милый! Куда влечет сердце, туда и ступай… Постой только малость. Высыплет снежок, утихнут осенние вихри. Справишься и с Богом по первопутку. На Москву пойдешь, братец?
– На Москву, Варфушка! По ней давно горит сердце. Есть там обитель Богоявленская. Наши Хотьковские старцы сказывали, строгих правил общежитие. Святой жизни монахи. Туда пойду. Не серчай, что тебя покидаю. Не по сердцу мне пустынное житье. И горше здесь по покойной жене сердце ноет.
– С Богом! С Богом!
А душа Варфоломея не расходится со словами юноши. От души этой самой и слово: «С Богом! С Богом!».
Затеплил другую лучину. Поправил старую. Подошел к столу, открыл Четьи Минеи и Златоуста.
– Что читать?
Сказал Стефан:
– Что выберешь. За все спасибо. Нежной волной серебристой полились священные, высокие слова, сладкие, ясные, чистые, золотые, благовонные. В них сок учения Христова. В них сила черпается для подвигов. Сила могучего орла.
Читает Варфоломей.
Слова точно алмазный дождь сыплются. Все вещие, все трогательные, все чистые, как родник.
Вдруг какие-то странные звуки врываются в тишину.
– Ау!.. Гу – Ау-гу-гу-гу!..
Вздрагивают братья.
Ближе страшные звуки.
– Ау-гу!..
– Во-о-во-ово-о-во…
Кто-то точно дразнится, кто-то бешено смеется за окнами избы, выставляя жуткую чудовищную голову из чащи.
Все ближе… Ближе!..
– Волки это! – шепчут бледные губы Стефана и прибавляют чуть слышно:
– О, ужасы Господни! Уж скорее бы на Москву, от всего этого подалее.
И мгновенно вспомнил.
– А ты, Варфушка, ты, неужто здесь, в аду этом, останешься? С лесными зверями, с лесными призраками? Нет! Нет! Пойдем со мною, Варфушка, пойдем. Как и я, в обитель поступишь. Право! Со Христом, завтра же отправимся… Варфушка, а?
Странно и тихо усмехнулся на слова эти синеглазый юноша. Одними очами, взглядом, а губы по-прежнему были плотно сомкнуты – строгие гордые губы.
Стефан ждет ответа. Любит он этого кроткого синеглазого юношу-брата, такого хрупкого, нежного и сильного. И телом и душой сильного, выносливого за десятерых.
Опять легкая печальная усмешка трогает синие озера глубоких Варфоломеевых глаз.
– Зачем смущаешь? – спрашивает тихо брата, зачем? Если уйду, кто сторожить станет новый храм Святой Троицы? Кто беречь будет Святыню Господню? Кто? Не проси, милый, на всю жизнь, волей Божией останусь здесь я…
И снова опустил длинные ресницы, уронил на книгу писания прояснившийся взгляд, и зазвучали в убогой избушке снова вещие и трепетные, как далекие песни ангелов, слова о Боге и Сыне Его, о Духе Господнем, о том, что было и надлежало быть по могучему указу Их.
А ночь таила за окнами свои незримые сказки, и выли волки в лесной глуши, и тьма наползала, невидимая, безглазая, как страшная слепая колдунья…


Крест, которым благословил преподобный Сергий князя Дмитрия Донского в поход против Мамая.
Крест этот хранится в Церковно-Археологическом музее при Киевской Духовной академии.
XIII

ДОЛГО боролись две силы – червонно-пурпурная осень и белая, ласковая, студеная и пушистая зима.
Зима победила. Белыми доспехами опоясанная, прогнала ту, испуганную, смятенную, злостно хихикающую, а сама надела на холодные руки пухлые теплые рукавички, на серебряные кудри – лебяжью с горностаем шапочку и покатила на лихой тройке белоснежных коней. Покатила с посвистом, с гиканьем, с песенкой лихою: «Гой, вы, кони, кони быстроногие».
Мчится стрелою. Скачет зайчиком. Пляшет метелицей. Кружит снежком. Дует, свищет и поет песенки молодецкие. Прилетели к озеру кони. Дохнула беловолосая красавица. Застудила водицу. Зеркальными льдами покрыла. Любуется на себя в синюю поверхность ледяного озера.
Дальше кони, дальше!.. Лесной ручеек бежит. Стой, ручеек! Нет у тебя одежды хрустальной? Бери скорее. Нравится? Нравится мой первый ломкий ледок? Вы что, дубы могучие, клены высокие, матушки-березки, липы-печальницы, вам завидно? Ладно, и вам подарки будут.
Сунула обе руки за пазуху. Из лебяжьей шубки вытащила пригоршни инея. Берите, берите, милые, жадные, нетерпеливые. Вот вам монисто, ожерелья, вот подвески алмазные, не браните красавицу-зиму.
Во все белое оделся лес. Как в волшебной сказке. Царством белой чистой красоты стал вместо зеленого весенне-летнего, вместо багряно-золотого осеннего. Намела сугробы зима.
И вокруг избушки сугробы. До самых окон. С самого раннего утра подымается Варфоломей, разгребает снег, прокладывает рыхлую узкую дорожку среди двух снежных стен туда, к опушке.
И сегодня встал пораньше. Надо почистить дорожку. Нынче по ней уходит Стефан. Совсем уходит – в Москву, в Богоявленскую обитель. Взял лопату и, пока брат спит, копошится по пояс в снегу трудолюбивый юноша.
Прибегали смотреть на него две лисички. Рыженькие, пушистые, щеголихи такие, будто Ростовские купчихи… Лукавыми хвостиками вертели, крутили. Мордочками поводили, любопытными, лукавыми. Больно им охота взглянуть было, что делает человек.
Смотрели издалека на работу, на избу, на Варфоломея. Будто не боялись его человеческих глаз. Делали вид или просто не боялись. Постояли, постояли и убежали, оставив на белой пелене снега мелкие частые следы.
Просветлело малость.
Тьма развеялась. Из избы вышел Стефан, готовый к уходу, опоясанный.
Молча кивнул головою.
Варфоломей понял без слов призыв брата. Оставил работу. Вошел в сени, в низкую гридницу, опустился вместе с братом на колени перед киотом. Молились оба жарко и долго.
Первым поднялся Стефан.
– Когда утихнет тоска, покрепчаю, вернусь к тебе, любимый, – сказал брату.
Обнялись крепко. Поцеловались трижды. Потом смотрели в лица один другому. Хотелось запомнить, запечатлеть навсегда каждую черту.
– Прощай! Бог приведет, увидимся снова.
Опять обнялись, вышли на крыльцо и быстрым ходом направились по лесу.
Варфоломей провожал брата.
* * *
Один…
Как странно и дивно катится время. Пышный его клубок разматывается бесшелестно, беззвучно. Белая царевна-зима плотно заперлась в своем царстве. Белая студеная в своем хрустальном царстве. Милая царевна, вся в алмазном уборе, пой свои песенки, играй в свои сказочные игры, шалунья-проказница, сестра мороза, внучка метелицы, крестница вьюг.
Один!
Варфоломей один. Как зачарованный путник – пленник волшебного зимнего царства. В старом тулупчике, в потертой шапчонке работает он между двух зорь, утренней и вечерней, между скупым холодным зимним восходом и лениво томной улыбкой луны.
И нынче с зарею ушел он из избушки в чащу. Замыслил новую работу: расчистить полянку, устроить, вспахать по весне нивушку, посеять хлеб. Не все же утруждать Петра. Посылает брат по-прежнему холопов с припасами из усадьбы. Ежесубботно приносят они хлеб из дому. Устают, мерзнут в пути. Сбиваются с дороги в лесу. Зачем утруждать людей? Надо самому обзавестись хозяйством, вырубить поляну, вырыть корни, сгладить землю к весне. Господь послал его трудиться сюда, Варфоломея. Спасение не только в посте, в одиночестве, в молитве, но и в труде. Ведь и Иисус Сладчайший был плотником в доме Иосифа. Сам Христос Сын Божий Царский, сам Царь.
Ударяет по стволам дерева Варфоломей острым топором. Лезвие сверкает. Падают стволы-великаны. Шуршат, трескаются, ломаются сучья. Сыплется иней. Целый дождь, целая туча белых студеных пылинок.
Как красиво!
Опять взмах сильной руки. Отлетают сучья от ствола. Без передышки рубит, пилит, тешет бревна Варфоломей. Со сверхъестественной силой оттаскивает в сторону. Последнее, большое, перетянет кушаком, тащит домой. Будет житницу строить для будущих зерен, амбары.
Помоги, Господи!
Еще один взмах руки… Стук!
Из норки выскочил белый зайчик. Косоглазенький, длинноухий, с глупой, испуганной мордочкой. Вскинулся раз… два… присел на задние лапки. Весь дрожит. Глядит и дрожит.
– Не бойся, маленький, не бойся, болезный, не причиню тебе лиха!
Что-то есть в лице синеокого юноши, что притягивает к нему не только людей, но и зверей, тогда лисичек, сейчас боязливого зайчишку. Проходит страх у зверька, нюхает воздух потешным носиком, шевелит усами, чешется лапкой. Да как вскинется бегом, играя, дурачась. Прыгает, скачет, смешной такой, резвится косоглазый. Белый ребенок в шубке, сын дикого старого леса.
– Довольно на сегодня. Пора домой!
Заткнул топор за пояс Варфоломей. Схватил тяжелое бревно, поволок по земле, по снегу рыхлому, белому, как саван.
Тяжело. Пот катится градом. Все жилы выступили на побагровевшем лице, а в глазах сияние лазури. В глазах восторг удовлетворения, радость достигнутого, счастье без меры, то, к чему с детства стремилась душа его. Один он в пустыни, трудится, работает за четверых.
Идет согнутый под непосильной ношей, едва передвигает ноги. А на душе весна, радость весны, ликующая, ало-лазурная, праздник весенний.
День умирает быстро, короткий зимний день.
Засветло надо дойти до избы. В потемках не трудно с дороги сбиться…
Вот он близко, близко. Вот темным пятном рисуется крохотная лесная усадебка, с церковью во имя Святой Троицы, с избушкой. Подъем на гору труднее. Ничего, милостив Господь, дотянет он бревно. Варфоломей.
Вот одолел наполовину, вот дотащил и до вершинки, до знакомой площадки… Взглянул наверх и ахнул. Отступил невольно, исполненный изумления.
Велик Господь! Неужто Стефан вернулся обратно? Там наверху, на маковке кто-то есть, копошится высокий. Кто-то с ворчанием ворошится у тына, толкаясь поминутно в закрытую дверь.
Нет, это не Стефан… Огромное что-то… Ворошится, рычит, стонет. Не то человек высокого роста в теплой боярской шубе, не то…
– Кто здесь? Отзовись во имя Господа! – кричит Варфоломей, приближаясь к избе.
Нет ответа.
Ворчание явственнее. Будто сонный ропот недовольства. Будто злой, болезненный стон.
– Кто? Отзовись!
Снопа нет ответа.
В сгустившихся сумерках видно плохо.
– Отзовись!
Молчит. Кряхтит кто-то. Существо какое-то в теплой шубе. Прервало возню, однако. Повернуло от двери. Идет к Варфоломею. Прямо на него.
Как будто нарочно разорвалась тьма в эту минуту. Черные облачка расступились на небе, пропустили вперед странно, лукаво и грустно улыбающуюся всегда луну. Выскользнула луна из своей воздушной светлички. Осветила, прогнала тьму. Огромное существо осветило. Сразу все, мгновенно, с головы до ног…
Страшный, огромный бурый медведь на задних лапах стоял в трех шагах от Варфоломея. Лесное чудовище с громадной мордой. Лесной четвероногий великан. Маленькие глазки глядят смышлено, но сонно. Вышел видно из берлоги ненароком, соседние вотченники спугнули охотой…. Лежал в норе с осени, лизал лапу и дремал. Зимой они не ходят, медведи, погруженные в спячку. Этот случайный, видно. Огромный, страшный великан. Ужас сковал Варфоломея. Холодок побежал по жилам, подкрался к сердцу, заледенил его страхом. Зашевелились волосы, дыбом стали под шапкой на голове.
Медведь стоит, выжидая. Глядит. Маленькие глазки поблескивают в матовом сиянии месяца. Кажется весь при свете его не бурым, а голубым.
Шагнул еще раз. Тяжелый шаг, грузный.
Варфоломей невольно подался назад.
– Съест!.. Растерзает!.. Сейчас, сейчас… – рвется и звенит как-то в голове сбивчивая мысль.
Еще шагнул Мишка. Дохнул в самое лицо юноши горячим дыханием. Из разинутой широко пасти белые, как кипень, сверкнули зубы. Лязгает ими… Голоден. Видно по всему. Голоден и лют. Спугнули, выгнали из берлоги, во время зимней спячки, отвлекли от доброй медведицы, от веселых деток-медвежат.
Дышит в лицо Варфоломею. Из огромной пасти клубится пар. Сейчас… Сейчас.
– Уж скорее бы! – носится в мозгу юноши предсмертная мысль.
В тот же миг страшный, потрясающий рев огласил поляну. Медведь тяжело опустился на передние ноги. Чудовищный по размерам, когда стоял, стал не больше доброй упитанной коровы.
Теперь вплотную подполз к юноше. Обнюхивает его… и вдруг заскулил, застонал тихо, жалобно, как собака…
– Голоден! Голоден! Голоден! – говорит без слов этот стон.
Машинально опустилась в карман тулупа рука Варфоломея.
О! радость!
Там краюха хлеба осталась от обеденной поры. В ужин есть не придется, если отдаст бурому зверю. Так что ж, натощак, в посту, молитва угоднее Богу. Отдать Мишке, отдать!
И протягивает руку к мохнатому.
Глаза зверя заискрились. Почуял запах съестного. Раскрыл пасть, принял из рук юноши краюху. Тихо и нежно принял, как ласковый домашний пес. Стал есть жадно, торопливо, испуганно. Бегали глаза по сторонам – не отнял бы кто, который посильнее. Свирепо рычал, внушительно.
– Ешь, Мишенька, кушай, Божье творенье, никто не обидит, – ласковым шепотом подбодрял Варфоломей.

Встреча Варфоломея с медведем.
– Кушай на здоровье, кушай!
Кончил свой ужин Мишка. Сладко засопел носом и зевнул.
Глаза сузились, как у разлакомившегося котенка. Точно спрашивает: «Нет ли еще?»
– Нет еще, милый, нет! Сам отдал последнее. Вот постой, погоди малость, придет с усадьбы братнин челядинец, ужо принесет новый запас хлебушка, поделюсь с тобою.
И ласково протягивает руку зверю Варфоломей. Точно забыл юноша, что перед ним лютое чудовище, могущее разорвать его каждую минуту. Машинально перебирает мягкий мех медвежьей шубы. Тонут белые тонкие пальцы в высокой пушистой шерсти. Тихо урчит зверь.
Видно по душе пришлась ему эта ласка. Потянулся и лег. Лег у самых ступней Варфоломея, как преданная, верная цепная собака. Приподнял голову и лизнул ему руку. Лизнул большим горячим языком прямо в ладонь.
Теплой волной прилила эта ласка к душе юноши. Он наклонился. Обнял мохнатую доверчивую голову зверя и прижался к ней.
– Ах ты, милый, милый!
Тихо заурчал Миша. Любо ему, любо. В человеке нашел друга бурый мохнач. И человек, и зверь поняли друг друга…