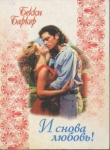Текст книги "Семья Лоранских (Не в деньгах счастье)"
Автор книги: Лидия Чарская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
X
Большая гостиная Вакулиных была битком набита самой разношерстной публикой. Тут были и какие-то полные барыни, говорившие шепотом по-французски, дальние родственницы Юрия Викентьевича, и три-четыре товарища по ведомству его сына, желавшие сделать любезность своему сослуживцу, приехав на панихиду по его отце, и какой-то генерал сурового вида, стоявший на видном месте, держа свечу пред лицом и духовенство, и певчие в парадных кафтанах с кистями, и какие-то старушки, шушукавшиеся и отбивающие поклоны в углу.
После панихиды гости окружили молодого Вакулина, выражая ему свои сожаление и сочувствие его горю. Темная толпа одетых в траур родственниц и черных сюртуков скрыла его от глаз Валентины.
Лоранская перекрестилась и вышла из гостиной,
"Это хорошо, что он не видел меня, – произнесла мысленно молодая девушка по дороге к дому, – иначе он мог бы подумать, что я из-за полученных денег пришла отдать этот долг умершему. И мне было бы неприятно, если бы он так подумал".
Теперь Валентина все время жила, как в сказке. Вчерашний успех и начало ее службы в театре, такое благоприятное и хорошее начало, положили как бы фундамент ее дальнейшему счастью, для полноты которого только разве недоставало до сих пор денег.
Теперь явились и деньги, благодаря чудачеству и доброте покойного Вакулина. И эти деньги радовали девушку, как радует дешевая игрушка неизбалованного ребенка.
Несмотря на всю свою серьезность и положительность, Валентина все же была более ребенком, нежели кто-либо другой. Милым беспечным ребенком, тянувшимся ко всему блестящему и нарядному. Ее раздражали всякие недочеты и недохваты в туалетах, вечные перекрашивание и перешивание из старого на новое, вечное старание скрыть убожество и дешевизну нарядов. Теперь это несносное обстоятельство надолго исчезнет с ее пути. Она может накупить себе по желанию и платьев, и безделушек и одеваться на сцене и в жизни не хуже других. Подумав о сцене, Валентина мысленно перенеслась к предстоящим репетициям. Вчера во время спектакля при виде ее успеха режиссер труппы обещал ей новую роль в самом непродолжительном времени – роль "Снегурочки" в чудесной сказке Островского. Роль эта заранее приводила в восхищение Валентину. Она знала пьесу давным-давно и постоянно мечтала включить в свой репертуар роль Снегурочки.
И тут счастье, казалось, улыбалось молодой девушке своей широкой, многообещающей улыбкой.
"Как хорошо жить! Как хорошо жить!" – мысленно повторяла девушка.
Впрочем, не одна Валентина, а и все Лоранские были как-то особенно наэлектризованы приятным сознанием приобретенного маленького капитала.
Павлук успел днем слетать в государственный банк и произвести операцию с бумагами. Облигации были проданы и сумма торжественно вручена Марье Дмитриевне, положившей ее не без трепета в тяжелую кованую железом шкатулку, еще полученную ею в приданое, когда она выходила замуж за своего Дениса Павловича.
Одна из крупных кредиток была уже тронута, по проекту того же Павлука, и результатом ее размена оказалась обильная закуска на столе, в виде копченого сига, коробок омаров, сардин, шпротов и головы голландского сыра. Посреди стола стояла ваза с фруктами, большой торт от Филиппова с кофейной начинкой (любимое лакомство Марьи Дмитриевны) и бутылка "донского", без которого никак не мог обойтись предусмотрительный Павлук.
Маленькая семья разрешила себе этот кутеж на первых порах. Всем было весело. Все болтали, перебивая друг друга, смеясь беспричинно веселым беспечным смехом, свойственным одной только молодости. Пили за успех Валентины, за дальнейшую ее карьеру, за все, за все…
XI
Прошло две недели.
Валентину вызвали в театр.
Придя на первую репетицию "Снегурочки", ожидая ее начала и прихода прочих актеров, она чувствовала себя не совсем удобно с непривычки. Она стояла на пустой сцене и смотрела в пространство партера, тоже теперь пустое, а еще две недели тому назад наполненного публикой, оживленно приветствовавшей ее появление на этих самых подмостках. И она, как девочка торжествовала в тот вечер. Тогда она была такая бедная! О, ей стыдно вспомнить свою красную кофточку, такую простенькую, сшитую неискусными пальчиками Лелечки кофточку, вполне подходящую к гаванской портнихе или мещаночке. Уж эта кофточка! После окончания спектакля, когда режиссер объявил ей, Валентине, счастливую новость о зачислении ее в труппу, он как-то обидно-снисходительно скользнул взорами по этой злосчастной кофточке и сказал:
– Н-да… и гардеробчик ваш более к ingenue подходит… Да и рано вам в героини записываться, барышня!
И Валентина чуть не сгорела тогда со стыда. Зато теперь, благодаря наследству Вакулина, она одета по последней картинке.
Теперь, когда она стала "настоящей актрисой", ей необходимо одеваться прилично: это влияет на успех. Вот если бы и тогда вместо красной кофточки она надела какое-нибудь изящное летнее платье, подходящее к сезону по пьесе, она выиграла бы еще больше в глазах толпы.
И Валентина вздрогнула, поймав себя на этой мысли.
Неужели это так? Неужели на сцене не таланты нужны, а нарядное платье и дорогие украшения! Нет! Нет, этого не может быть! – решила она. – Искусство так светло и прекрасно в своей основе.
– Ого, как мы аккуратны! Хвалю! хвалю! – послышался веселый оклик за спиной Лоранской, и, живо обернувшись, Валентина увидела Василия Захаровича Дмитрова, режиссера труппы, протягивавшего ей дружески руку. – Давайте-ка, я перезнакомлю вас с вашими товарищами, с которыми вы не успели еще познакомиться, – произнес он, пожимая руку молодой девушки, и повел ее навстречу темноволосой женщине не первой молодости с громадными серыми глазами, единственным украшением ее незначительного лица.
– Наша гордость, Нина Вадимовна Донская-Звонская! – сказал Сергеев, знакомя Валентину с актрисой.
Нина Вадимовна сощурила свои красивые глаза и промямлила, как бы нехотя:
– Будем знакомы. Вы, милушка, только не подумайте, что я такие роли, как Купаву[1]1
Роль Купавы менее значительна, нежели роль Снегурочки.
[Закрыть], играю. Это только для Васеньки: Васенька одолел, – кивнула она в сторону лебезившего пред ней Столпина. – Ну, и для сбора. Ведь вы еще «новая» для публики, не «привились» еще. Так надо сбор поднять сначала. А то бы ни-ни! У меня сейчас переезд на другую квартиру. Не до игры, знаете!
Валентина слушала "премьершу" и в душе смеялась над ней. Ее ломанья потешали молодую девушку.
Комика Лазарского Валентина уже знала по первому игранному ею здесь спектаклю, как и многих других членов трупы. Но кто ее удивил, так это jeune premier.
Валентина никак не могла понять, как этот человек, с завитым надо лбом вихром и лишенным выражения взглядом больших воловьих глаз на самодовольно улыбающемся одутловатом лице, носивший громкую фамилию Заволгина, мог играть Леля, юного, свежего пастушка Леля, так мастерски написанного русским классиком. Что-то тупое и безучастное сквозило во всем лице Заволгина, так что Валентина искренне испугалась и за себя, и за пьесу вообще.
Но Лоранская испугалась ненадолго. С первой же фразы, произнесенной молодым актером, она была принуждена взять обратно свое спешно составленное о нем мнение.
Голос Заволгина, казалось, просился в самую душу. Глаза, когда он заговорил, утеряли свое воловье выражение тупого равнодушия и в них заиграла жизнь, они заблестели. Заволгин имел драгоценное преимущество "играть" на репетициях, чего не делали остальные, и, играя, увлекался сам.
– Милушка, не подсаживайтесь! Прибавки все равно не получите и публики нет! – насмешливо останавливала его Донская-Звонская, торопливая читка которой окончательно стушевывалась около мастерского исполнения Заволгина.
Но он не расслышал даже слов "премьерши". Одухотворенные теперь глаза актера смотрели поверх ее головы, а голос переливался мощной волной, то выдерживая паузы, то усиливая, то понижая тон.
– Что, детка, Петрушу заслушалась? – услышала Валентина знакомый голос, и теплая большая рука легла на ее руку.
– Михайло Михайлович, вы? – приветствовала она Сергеева. – Действительно, заслушалась. Хорошо!
– Что и говорить, молодец парень! Так читает, что умереть мало. И на спектакле также будет, если не лучше. Приятно и играть-то с ним.
Наступила очередь Валентины. Она волновалась теперь, на репетиции, гораздо более, нежели на спектакле. Ее смущали насмешливые взгляды Звонской и репетирование "вовсю" ее партнера, Заволгина.
Лоранская начала читать вполголоса. Но мало-помалу настроение Заволгина, с упоением декламировавшего звучные монологи Леля, захватило и ее.
Валентина попала ему в тон силою своего природного музыкального инстинкта и они прошли дружным дуэтом через весь акт.
– Не может быть, чтобы вы не учились нигде! Скажите, кто вас начитывал? Школу драматическую кончили, да? – спрашивал Заволгин, когда они провели совместно одно из труднейших мест действия.
– Вы, паузы, милушка, укорачивайте! Не тяните! – вставила свое слово Звонская, незаметно подойдя к ним.
– Не слушай ее! Она тебе такого наскажет, что потом винегрет один выйдет, если послушаться, – зашептал Валентине Сергеев, отводя ее в сторону. – Меня только слушай, да Петра Заволгина, потому что славная у него душа! А Звонской ни-ни! Живьем в землю закопать готова, знаем мы ее!
Лоранская слушала и улыбалась. Все ей казалось так ново и своеобразно здесь. Даже борьба не страшила ее. Борьба была необходима: постоянные удачи могли бы избаловать, изленить ее, а эти уколы не пугали Валентину, потому что она не сомневалась уже в успехе. Очевидно, она родилась под счастливой звездой. Она не чувствовала до сих пор кипучей жизни; то, что давала ей судьба, было вполне тихо и спокойно, хотя бывали и лишения, и неприятности. Теперь же она была счастлива вполне.
Когда Лелечка, зашедшая за нею на репетицию, чтобы вместе ехать за покупками в Гостиный двор, увидела Валентину, она с удивлением отступила от сестры.
– Что ты? – недоумевала та.
– Ай, какая ты хорошенькая! – с нескрываемым восхищением произнесла младшая сестра. – Ты всегда красива, а теперь лицо у тебя такое… ну как бы это сказать… ну, хорошенькая ты попросту. Уди-ви-тельно!
– Что удивительно? – усмехнулась Валентина, – что я хорошенькая? Очень любезно!
– Ах, не то, не то! – всплеснула руками Лелечка. – Просто ты какая-то особенная стала, не прежняя Валя, сдержанная, спокойная, а новая, доступная, милая, простая! Знаешь? если б Володя сейчас тебя увидел, он с ума бы сошел от восторга.
– Ну, это еще не великая заслуга, Володю с ума свести: он очень восторженный и не требовательный, наш Володя.
– Не говори. Ведь вот же выбрал он тебя, а не Сонечку Гриневич, ни другую. Значит, у него вкус есть и требовательность известная… Ты – красавица!
– Вот тебе раз, а сейчас только хорошенькой называла! – снова усмехнулась Валентина. – Да я у тебя не по дням, а по часам хорошею, Лелечка. Славная ты!
Сестры вышли из театра и поспешно шагали теперь по направлению к Первой линии в ожидании конки. И вдруг Лелечка взглянула на свою спутницу и расхохоталась звонко.
– Что с тобой? – удивилась та.
– Вот что, значит, привычка, – смеялась Лелечка, – ведь мы утром решили на извозчике ехать, а теперь по привычке конки ждем. И вовсе позабыли, что мы теперь – богачихи.
– Правда, – улыбнулась Валентина, – вот и выходит, что человек не скоро отвыкает от своих привычек, и мы еще не скоро от наших грошовых расчетов отвыкнем.
Последние слова Лоранская произнесла с чуть заметной желчью. Лелечка с удивлением взглянула на сестру. Она не понимала, почему вдруг так ненавистно отнеслась Валентина к тому, что составляло и еще недавно интерес их жизни. Лелечка хотела спросить об этом сестру, но почему-то удержалась. Они молча прошли еще немного, взяли извозчика и поехали в Гостиный двор.
XII
Если кто-либо особенно был доволен «свалившимся с неба» наследством из всей семьи Лоранских, так это Граня. Граня был окончательно вышиблен из колеи. Получение «наследства» совпало как раз со временем гимназического бала, и нет ничего удивительного, если Граня потерял голову, бегая по магазинам, выбирая себе сапоги, галстуки, перчатки, духи и прочие предметы моды, роскоши и туалета.
Граня окунулся с головою в свою любимую стихию. Тотчас же по окончании классов он несся домой, как на парусах, закусывал на скорую руку, брал у матери нужную ему сумму и сломя голову мчался на извозчике в Гостиный двор. Граня был как в горячке. Он покупал и нужное, и ненужное, и полезное, и бесполезное, – словом, все, что только бросалось в глаза и приковывало внимание юноши.
– Гранечка, не много ли будет? – осторожно останавливала своего любимца Марья Дмитриевна. – Ведь четвертую сотенку меняешь, а что купил? Глядеть не на что. Белье-то какое непрактичное, на год его не хватит. И воротнички опять! Раньше "монополь" носил и был доволен, а теперь голландские! Одной прачке чего переплатить придется.
– Прачке из моих денег платите! – фыркал недовольно Граня. – Что же вы беспокоитесь? И как это вы странно, мама, "мо-но-поль!" Теперь "монополь" никто из порядочных людей не носит – приказчики одни. А белье я самое модное купил, крапинками. И у графа Стоютина такое же, и у Миши Завьялова, и у Берлинга, наконец!
– Гранюшка, да ведь то богачи, аристократы… графы да князья, а Берлинг – сын банкира, есть где разойтись… а ведь ты…
– Ах, мама, – досадливо перебивал юноша, – что у вас за нелепость делить людей на классы… Ведь не в древности же мы живем, отстало это… Аристократы, демократы, все это относительное понятие. Кто горд и независим, тот и аристократ… А деньги у меня есть пока, слава Богу, и скупердяйничать ими не намерен.
– Гранюшка! Ты бы полегче, все же! Ведь тают у тебя деньги-то, как сахар… Голубчик, ради тебя же хлопочу! – и даже слезинки навернулись на глаза доброй Марьи Дмитриевны.
Граня притих. Легкое облачко раздумья набежало на его красивое лицо, потом все черты разом осветились милым выражением детского благодушия.
– Мамочка, – произнес он ласково, – мамочка, поймите вы меня, ради Бога, наголодался я! Ведь, до шестнадцати лет, шутка ли, в заплатанных брюках ходил и Бог знает в каких сапогах, от штопок на чулках пальцы натер до мозолей. А кругом богатые люди, щеголи, под нос тычут своими достатками. Поймите, всякое ничтожество, урод всякий – и тот в модной тужурке и в запонках от Фаберже ходит. А я в куцых рубашонках, как приготовишка какой-нибудь. Ведь смеялись они… А теперь вдруг счастье такое упало, можно сказать, на голову. Ведь, пока молоды, только и жить, только и выпить полную чашу счастья. Последней радости лишить хотите! Грех вам, мама.
– Гранюшка, милый, родной! Да разве я… да что ты? – и старушка, чуть не плача, обняла огненно-рыжую голову своего "красавчика" и в неизъяснимом порыве прижала ее к своей груди. – Делай, что хочешь, родной мой! Может быть, ты и прав! Рано тебе заботиться о черном дне. Господь с тобою!
Граня торжествовал. Мать соглашалась с ним, и последнее препятствие отстранялось, таким образом, с его дороги. И Граня наскоро целовал свою старушку и, взяв хорошего извозчика, летел "в город", как называли центр Петербурга скромные гаванцы.
А Марья Дмитриевна, глядя вслед любимцу, думала:
"И правда, ребенок он… и много лишений бедняжка видел. Пусть хоть теперь вдоволь насладится, развернется немножко. Пройдет у него эта лихорадка; одумается и сократит расходы".
Но Граня не одумывался. За новыми голландскими воротничками следовал изящный штатский костюм, сшитый у хорошего портного, рекомендованного богачом Берлингом; затем шли золотые запонки с маленькими сапфировыми звездочками от Фаберже, точь-в-точь такие, как у графа Стоютина, за ними – дорогой туалетный прибор, как у Миши Завьялова, и, наконец, что более всего поразило домашних, покупка великолепного мраморного умывальника, какой Граня видел у того же Берлинга, с которым очень сдружился в последнее время. Умывальник был чудо искусства, и Граня отдал за него громадную для его крошечного капитала сумму. Когда эту мраморную громаду с изящными резными колонками и великолепным венецианским зеркалом артельщики внесли в скромную квартирку в Галерной гавани, Марья Дмитриевна искренне испугалась.
– Не к нам, не к нам это, батюшки, – замахала она им руками.
– Никак нет, должно к вам, госпожа, потому, значит, адресок у нас имеется, – произнес с усмешкой рыжеватый артельщик, чуть заметно усмехаясь себе в бороду, – молоденький баринок емназист покупал.
И он с победоносным видом подал бумажку с адресом, четко написанным рукою Грани.
Вся семья сидела за обедом, за исключением самого Грани, рыскавшего, по обыкновению, в этот час по магазинам.
Павлук громко и искренне расхохотался и нелепой покупке брата, и полной растерянности матери.
– Пашенька, как же быть-то? – спрашивала та, испуганно мигая своими добрыми глазами.
– Взять, конечно, раз вещь куплена, – отвечал Павлуша, все еще не переставая смеяться.
– Да куда же мы его поставим? – волновалась старушка.
– Да устроим как-нибудь! – успокаивала мать Валентина. – Раз глупость совершена, надо, по крайней мере, принять ее с гражданским мужеством.
– В нашу комнату поставить придется, мамаша, – решила Лелечка, почти с благоговением прикасаясь к белому мрамору резных колонок и смотрясь в прелестное венецианское зеркало, в котором, казалось, каждое лицо должно было выигрывать вдвое.
После долгих разговоров, было решено поставить умывальник в гостиной.
И странно было видеть среди скромной старенькой мебели Лоранских эту изящно красивую вещь.
Все обитатели серого домика с недоумением поглядывали на роскошную покупку Грани, которая их всех, как будто даже стесняла и своим неуместным присутствием, и своим эксцентрично-эффектным видом. Но, когда домой явился сам виновник переполоха, все разом изменилось, как по волшебству. Граня был положительно в восторге от своего приобретения и все, при виде его дышащего счастьем лица, решили вдруг, что вещь, действительно, и полезна, и прекрасна во всех отношениях. Когда улыбался Граня, все улыбалось в сером домике. Даже несколько строже других относящаяся к брату Валентина, и та снисходительно усмехнулась, когда он с нежной заботливостью разглядывал свою эффектную покупку.
Теперь уже ни Марья Дмитриевна, ни Лелечка не находили, что умывальник неуместен в гостиной. Лелечка даже робко прибавила, что он, как будто "скрашивает" их обстановку и, если убрать чашку и постлать сукно на доску, то он будет иметь вид прехорошенького письменного столика.
– А когда я буду мыться по утрам, то сукно Фекла может снимать и снова ставить чашку, – категорически заявил Граня.
– Только на кой шут тебе он? – усмехаясь, заметил Павлук. – Ведь не барышня же ты, в самом деле?! И потом лучше уж было мебель купить новую, уж коли на то пошло.
– И мебель купим! и мебель! – обрадовался Граня. – Все сложимся и купим мебели.
– Ну нет, я на это не согласна! – возвысила голос Валентина. – Мне каждая копейка теперь нужна. Необходимо тьму костюмов наделать, и ротонду, и бриллиантовые сережки, хотя скромненькие, а надо… На сцене нельзя иначе – свои условия…
– Ну, сережки тебе публика должна поднести: "Артистке Лоранской от восхищенной толпы", или что-нибудь в этом роде на футляре. Ха, ха, ха! – звонко расхохотался Граня и вдруг щелкнул себя пальцем по лбу. – Ба-а, Валентиночка! Я и забыл главное-то! Кого я встретил сегодня?… Как ты думаешь? К себе тащил. Слово взял, что буду. И буду, непременно буду! Интересно взглянуть, как миллионеры живут! На каком рысаке ехал! Кучеру не удержать даже. Узнал меня, велел остановить, сам слез с пролетки, ко мне подошел… Я из гимназии вываливался с нашими в это время как раз… Когда, – говорит, – можно к вам приехать, Валентину Денисовну поблагодарить за ее участие к судьбе отца?" Вакулин! Понимаешь, сам Вакулин! И как просто, точно свой брат-гимназист!
"Я – говорит, – на ваш гимназический благотворительный вечер собираюсь. На вокально-музыкальное отделение приеду! А ваша сестра не выступает разве?" – "Нет!" – говорю. Очень жалел, что ты не выступаешь; говорил, что читка и экспрессия у тебя изумительные… И знаете что? – обратился Граня уже ко всем, – Миша Завьялов с ним родственник дальний. Ужасно его хвалит… Вообще он мне нравится! Сегодня он будет у нас… Взглянуть, говорит, приеду, как вы устроились.
– Ах! – сорвалось в одно и то же время с уст Марьи Дмитриевны и Лелечки. – Что ж ты раньше не сказал? Мы приготовились бы.
– Да что, у вас денег, что ли, нет приготовляться? Пошлите за тортом к чаю, за закуской… фрукты, вино… Его надо вовсю принять: ведь всем ему обязаны.
– Фекла не сумеет выбрать! – заикнулась Лелечка. – Я поеду.
– Нет, уж лучше я сам! Ты мадеру в рубль купишь знаю я тебя, скрягу! А надо хорошую. Я думаю, при его богатстве, он шампанским зубы полощет… И потом, Бога ради, ванильных сухариков не покупайте, – внезапно раздражился Граня, – задушили вы вашими ванильными сухариками. Этакое мещанство, право! И грошовой колбасы с чесноком не ставьте на стол.
– Да ведь ее Павлук любит! – подняла было голос Лелечка.
– Ну, и пусть ест ее на здоровье, запершись где-нибудь в углу… Надо сига купить… икры свежей… хорошо бы устриц…
– Батюшки! Да откуда ты про устрицы знаешь? – воскликнула Марья Дмитриевна, так и впиваясь глазами в лицо сына.
– У Завьялова ел… устрицы… Это… это ужасно вкусно! – скороговоркой произнес Граня, подражая, очевидно, кому-то из старших товарищей богачей.
– Я уши надрал бы твоему Завьялову за его устрицы! – мрачно бросил Павлук, искоса поглядывая на Граню. – Избаловался сам мальчишка и других к баловству приучает.
Но тот даже и внимание не обратил на недовольство брата.
– А не взять ли к вечеру устриц? Лелька, ты сумеешь выбрать устрицы? – обратился Граня, как ни в чем не бывало к сестре.
– Все это вздор!.. – неожиданно и резко произнесла Валентина, хранившая упорное молчание во все время разглагольствований Грани. – Кого ты думаешь удивить нашим достатком и излишеством? Человека, который знает лучше всех источник этого достатка и даже является как бы косвенно участником благодеяния, оказанного нам… Крайне безрассудно и глупо! – и она, резко оттолкнув свой стул, вышла из-за стола.
Все как-то разом притихли. Это выходило далеко не обыденное явление со стороны Валентины: она никогда не сердилась и не теряла самообладания. И при виде ее резкой выходки Марья Дмитриевна проводила тревожным взглядом свою всегда спокойную, уравновешенную дочь и впервые неприятное чувство к полученному "наследству" шевельнулось в ее сердце.
"Уж лучше не было бы его… А то, как явились деньги, детей не узнать… и споры, и недоразумение. Один покупает зря, другая обычное спокойствие потеряла. Уж Господь с ними, с деньгами, без них как-то лучше и настроение было, да и забот меньше к тому же. Вот разве только долги заплачены, да и Павлуша отдохнуть может, не так уроками надсаживается пока…"
Два последние веские обстоятельства отчасти примиряли старушку с "наследством", взбаламутившим весь строй жизни маленькой семьи.
Два последние обстоятельства примиряли, а Граня тревожил. Зоркий глаз матери не мог проглядеть, как изменился к худшему ее любимец, как плохо учится он за последнее время, как бредит балами и театрами и на каждом слове прибавляет: мы с графом Стоютиным, мы с Берлингом, мы с Мишей Завьяловым, то есть с самыми богатыми и ведущими рассеянный образ жизни юношами их старшего класса.
"Граня портится, в этом нет никакого сомнения, – тревожно выстукивало сердце Лоранской, и она холодела при одной этой мысли, о своем любимчике. – Надо Пашу на него напустить, пусть потолкует с ним… Может быть, он и повлияет на него, как старший брат!"
Остановившись на этой мысли, Лоранская отозвала после обеда Павлука в кухню, где у них обыкновенно происходили все важные семейные совещания, и шепотом попросила его отысповедовать Граню.
Павлук охотно согласился и тут же отправился к младшему брату, который, дав Лелечке ряд всевозможных инструкций для покупок, отдыхал теперь на широкой постели в спальне матери с учебником кверх ногами в руках.
Учебник ни мало не занимал Грани, и Павлук бесцеремонно вытащил его из рук брата, а сам примостился на краю кровати у него в ногах.
– Слушай, Граня, – сказал он, – мать беспокоится, что ты слишком много развлекаешься удовольствиями и забросил ученье, и просила меня переговорить с тобою по этому поводу.
– Гм? – неопределенно-вопросительно проронил Граня и живописным жестом отбросил кудри со лба.
И это "гм", и этот жест были не Гранины. Он заимствовал и то, и другое от Жоржа Берлинга, которому рабски подражал и манеры которого превозносил до небес, считая их последним словом шика.
– Не ломайся! – резко остановил его Павел, – а то говорить противно.
– Так и не говори, тем лучше: я спать хочу.
– Но пойми, мать же беспокоится, тебе говорят…
– Да что ей беспокоиться? Скажи ей, что если я побываю раз-другой в гостях у наших богачей или у них в ложе в театре, от этого я не стану глупее и хуже. – И новый жест пальцами в воздухе, тоже не Гранин, а благоприобретенный им у кого-то, закончил его коротенькую тираду.
– Мать беспокоится за твое ученье, – не унимался старший Лоранский. – Это времяпрепровождение совсем выбивает тебя из колеи. Уж не говоря о том, что это расшатывает здоровье, силы, энергию, тебя, наконец, могут выключить из гимназии, потому, что учиться ты стал премерзко!
– Мой милый, об этом не беспокойся, – произнес Граня, разом меняя тон и усаживаясь на постели. – Что касается развлечений, то ты можешь меня не предостерегать, я не маленький и отлично понимаю, что если меня и выгонят за нерадение – с деньгами я не пропаду, на место поступлю.
– Что такое? что такое? – даже испугался Павел. – Что ты говоришь? Подумай только! Ведь ты юнец! Кому ты нужен, на какое место в шестнадцать лет! И при чем тут деньги?
– Как причем? Богатому скорее, чем бедному поверят! – безапелляционно решил Граня.
– Но где же богатство, Граня, где? Ведь не настолько уж ты ребенок, чтобы не сообразить, что тысяча рублей – грош.
– Из тысячи – можно десятки тысяч сделать, – снова прозвучал уверенно голос юноши.
– Это еще как?
– А в кредит? Мне стоит только графу или Мише…
– Граня! Граня! Но ты же несовершеннолетний! Кто же даст ребенку! – ужаснулся Павлук.
– Граф и Миша тоже!
– Но ведь отдавать надо? Из каких сумм ты будешь отдавать?
– Ах, стоит ли думать об этом! Вон Миша Завьялов в один вечер четыреста рублей выиграл в карты. А он годом только старше меня.
– Граня! опомнись, что ты говоришь? – произнес Павлук с ужасом.
– Что ж тут такого! Самое обыкновенное дело. Здесь нет ничего предосудительного, все играют: и граф Стоютин, и Миша, и Берлинг.
– Твои графы, Берлинги и Миши – отъявленные бездельники! – вдруг неожиданно на весь дом заорал Павел Лоранский, – они портят тебя, сбивают с прямого пути, и если ты не одумаешься и не прекратишь дружбу с ними, я завтра же иду к директору гимназии и заявлю ему о том, что вы, мальчишки, вместо того, чтобы учить уроки, играете в карты и каждый день ездите по театрам, так ты и знай!
– Удивительно честный поступок! – процедил сквозь зубы Граня. – Выпытал, а потом доносить! Подло это!
– Что? – не своим голосом заревел Павлук. – И ты смеешь это говорить старшему брату. Ах ты молокосос!
Павлук был бледен, как мертвец. Глаза его сверкали бешенством, и, схватив за плечи брата, он легко поднял его с кровати и поставил перед собой.
– Если ты не изменишь твоего поведения, мальчишка, я сумею исправить его сам! Понял меня? – произнес он с угрозой, – и слегка оттолкнув опешившего Граню, тяжело дыша, поднялся со своего места и поспешил навстречу матери, прибежавшей на шум.
– Вы, мамочка, не беспокойтесь за Граню. Я с ним поговорил и ему не грозит никакая опасность, – произнес он уже спокойно и, обняв встревоженную старушку, прошел с нею в столовую.