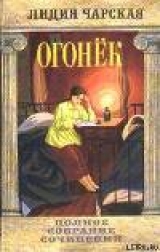
Текст книги "Том 38. Огонек"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Но когда я сказала об этом моим малышам, они зарыдали как исступленные.
– Нет! Нет! Ни за что! Ни за что!
– Но поймите же, ради Господа! Мы тогда уплывем. Промежуток между льдинами увеличивается с каждой минутой, – горячо доказывала я, с ужасом убеждаясь в полной справедливости моих слов.
Промежуток действительно рос, и мы плыли на небольшой отколовшейся ледяной площадке.
Взять их на руки и перенести одну за другой? Но пока я перепрыгну с одною из них, льдина отплывет еще дальше и унесет на себе другую. Что делать?! Что делать?!
Малютки, громко рыдая, взывали о помощи. Их слезы и крики мешали мне сосредоточиться, выяснить наше положение, как следует обдумать все.
Надежды на то, что нас увидят из бельведера, было мало. Там находилась начатая мною новая картина – маленький Кука с его салазками, спускающийся с горы, и я просила не ходить в "мое ателье", как они все прозвали в шутку вышку замка, пока я не окончу этой работы. Да и что пользы в том, если они услышат и придут? Придут с канатами, с веревками даже… Пока они явятся сюда, льдина отплывет еще дальше. А пока они принесут лодку и спустят, будет уже совсем поздно. Да. Теперь и то уже щель была настолько широка, что перепрыгнуть ее можно было только с разбега.
Льдина плыла. Малютки плакали отчаянно и кричали, призывая на помощь. Но увы! И без того сильный ветер теперь крепчал с каждой минутой и заглушал звуки отчаянных детских голосов. Льдина плыла, ветер подгонял ее, и этот крошечный плот из замерзшей воды был готов при каждом столкновении с другой такой ненадежной платформой вдребезги разбиться на тысячу кусков. Между нашим крошечным островком и берегом с плотно примкнувшей к нему ледяной поляной уже шумела черная зловещая полоса воды, то и дело грозя перелиться через край нашего ледяного плота.
Пройдет еще минута, другая, третья, пройдет пять, десять, двадцать минут – и льдина унесет нас в море, где, медленно раскалываясь на куски, погибнет и погубит нас заодно с собою.
Я поняла, что медлить было нельзя. Нас относило все дальше и дальше с каждой минутой.
Я посмотрела на моих маленьких подруг по несчастью. Он стояли посреди ледяной платформы, смотрели друг на друга широко раскрытыми, отупевшими от ужаса глазами и испускали через каждые две-три секунды отчаянные вопли, призывающие к спасению. Лицо Кази было бледно, как снег, взгляд ее черных глаз был ужасен. Казалось, несчастный ребенок уже видел то, что грозило нам всем троим в самом непродолжительном времени. Адочка с трогательной покорностью прижалась ко мне. Ее личико, осунувшееся до неузнаваемости, без единой кровинки, конвульсивно подергивалось. И кричала она хриплым, слабеньким голоском, полным предсмертного страха.
Вид обеих малюток как ножом полоснул меня по сердцу. Их надо было спасти, спасти во что бы то ни стало. И больше я не могла думать ни о чем.
– Молчите, крошки, нас все равно не услышат, – приказала я им, – дайте мне возможность обдумать все хорошенько.
– Мы умрем! Умрем! – простонала Казя и, вся затрепетав с головы до ног, закрыла лицо руками.
Адочка отошла от меня и прижалась к ней, обняв свою маленькую подругу.
– Не кричи, Казя, дай подумать хорошенько Ире-Огоньку, может быть, она спасет нас?! Давай молиться! – с неизъяснимым выражением кроткой покорности произнесла малютка, и ее голубые глазки поднялись на меня. Умру – не забуду этого взгляда! В нем было столько трогательной мольбы и надежды, надежды на меня…
Потом она опустилась на колени на лед, увлекая за собою Казю, и обе, сложив ручонки, обратили взоры к небесам.
Я не могла смотреть на них больше. Слезы брызнули у меня из глаз.
А льдина плыла. Проток становился все шире… все шире. Боже Великий, еще через несколько минут мы будем от берегового льда более, нежели на две сажени. Ни минуты промедления больше! Слышишь, Ирина!
Точно не я сама, а кто-то другой сказал мне это… Точно кто-то подтолкнул меня на исполнение быстрой, как вихрь, мысли, блеснувшей на мгновенье в моей голове.
Теперь я знала, что делать. Быстрыми лихорадочными движениями сорвала я с себя мое длинное теплое пальто. Осталась в одном платье, широкий ремень стягивал мою талию. Я быстро отстегнула его. Длинный шарф, связанный мне бабушкой Лу-лу, нашей комической старушкой, обвивал всю мою фигуру. Шарф и ремень… Длина достаточная, если скрепить их вместе.
И дрожа от холода, стоя в одном платье посреди нашего плавучего ледяного островка, лязгая зубами, вся синяя, как мертвец, я делала свое дело.
Малютки смотрели на меня взглядом, полным ужаса, предполагая, вероятно, что я помешалась. Тогда, стараясь быть как можно толковее и сдерживая все больше и больше охватывавшую меня дрожь, я проговорила:
– Сейчас я переброшу эти связанные мною вещи на ту сторону протока. На противоположную льдину… Затем я поплыву туда… Выйду и перекину вам конец ремня. Поймайте его и держите крепко. Обеими руками. Поняли? Да? У меня будет другой конец в руках и я притяну островок к себе!..
О! Что случилось с ними! Я думаю, они были близки к безумию…
– Нет! Нет! Мы не пустим тебя! Ты утонешь! Утонешь! – кричали они обе, хватаясь за мое платье, за руки, плача и стеная. Сами того не замечая, они говорили мне «ты», как равной. Близость смертельной опасности сравняла нас.
– Надень пальто! Ты простудишься! Надень! – рыдала Казя, и черные глаза ее лихорадочно блестели.
– Не уходи от нас. Не уходи! Ира! Ира!
Но я поняла, что не рискнуть спасти их было бы безумием. Не говоря ни слова, я широко размахнула рукой, в которой были зажаты в огромный клубок закатанные ремень с шарфом, и в следующую же минуту я увидела их лежащими на льду по ту сторону протока.
Теперь скорее, скорее, а то ветер унесет в море последнее орудие спасения и, взмахнув обеими руками, я бросилась в воду.
О, какой ужас! Мне показалось в минуту, что лед внутри меня, лед снаружи, лед сковал меня своими студеными путами с головы до ног. На секунду я вся точно окаменела. Но только на секунду. Острая, как жало, мысль пронзила меня:
– Если ты поддашься, ты пойдешь ко дну, и малютки погибнут!
И я изо всех сил заработала руками и ногам, онемевшими от колючей мартовской воды. Я умею плавать как рыба, но здесь, в почти зимней воде между льдами, одетой в платье, с этим ледяным адом в теле и в мыслях, было мучительно работать руками, едва ли не под самой пятой смерти. Полторы сажени, отделявшие меня от берегового льда, показались мне чуть ли не целой верстою.
Но слава Богу! Есть предел и самой ужаснейшей муке, которую мне пришлось испытать. Я схватилась пальцами за желанный край крепкой береговой льдины и, поднявшись на руках, выскочила из воды. Потом схватила лежавший в нескольких шагах от меня ремень с шарфом и, размахнувшись ими, перебросила противоположный конец через поток.

Боже мой, что было с малютками в эти минуты! Тесно обнявшись, они стояли у края плавучего ледяного островка и рыдали, повторяя одно только слово:
– Ира! Ира! Ира!
Вся мокрая, с текущими с меня потоками воды, я стояла у самой воды протока и командовала осипшим голосом:
– Держите крепко конец ремня! Так! Теперь встаньте на колени. Так! Казя, ты сильнее Ады… Обмотай им два раза кисть руки… Держи крепко, крепко… Ну, Господи помилуй! Я вас притягиваю… Держитесь крепко.
Я вытянула руку как только могла. Сама легла на краю, чтобы моего самодельного каната хватила на всю ширину потока!
К счастью, шарф был в три аршина длиной (бабушка Лу-лу, благословляю твою работу!) и ремень около полутора аршина. Таким образом они блестяще выполнили возложенную на них миссию.
Через несколько секунд льдина с малютками подплыла настолько, что они могли просто перешагнуть только через узенький промежуток воды.
Смеясь и плача, они повисли у меня на шее.
– Это из-за меня! Из-за меня! – рыдала Казя, покрывая поцелуями и слезами мои закоченевшие руки, – ты простудишься и заболеешь из-за меня, Ира-Огонек!
Но я отрицала возможность простуды, успокаивая малютку. Я преважно облеклась в мое теплое пальто, из-под которого бежали ручьи, и, хлюпая полными воды сапогами, схватив за руки обеих малюток, бегом пустилась на гору по дороге к замку.
Появление моей мокрой до нитки особы произвело такой переполох, какого еще со дня своего существования не было в Рамовском интернате. Испуганная до полусмерти бессвязным лепетом молюток обо всем происшедшем, Марья Александровна собственноручно с помощью Маргариты Викторовны и прислуги раздели меня, натерли с головы до ног спиртом, напоили малиной, хиной, еще чем-то и уложили в постель, навалив на мою злосчастную грудь, живот и ноги целую гору одеял и подушек.
Она была так ошеломлена и потрясена, что совсем упустила из виду побранить Казю и только раз двадцать подряд просила меня лежать спокойно, пока не приедет доктор, за которым уже был послан старый Адам.
Разумеется, я буду лежать спокойно, но… но прежде должна же я поделиться с тобою, мой милый, милый дневник!
Апрель 19…
Как, неужели я провалялась целых две недели как колода, с позволения сказать, которая ничего не видит и не слышит?
Ну что я не видела ничего, это уже полный абсурд!.. Я видела, и много, много раз, Золотую. Она приходила ко мне, садилась на край постели и разговаривала со мною долго и нежно, как было дома, в нашем провинциальном гнездышке тогда… Или это было во сне? Говорят, я была очень серьезно больна после моего мартовского купанья. И они уже решили выписать маму… Но… но… я преблагополучно надула госпожу смертельную опасность и опять почти здорова совсем. Но честное же слово здорова, если не считать этого отвратительного кашля по временам… Если бы не этот кашель, ах, я была бы счастлива бесконечно! Еще бы! Никогда не подозревала я, что здесь меня так любят!
Право, иногда совсем не дурно принять морскую ванну в марте месяце, чтобы узнать, как тебя все любят и дорожат тобою…
Жаль только Казю. Бедняжка ходит как потерянная и всем и каждому твердит одно и то же:
– Если бы не мое глупое непослушание тогда на берегу, Ира-Огонек была бы здорова!
Милая дурочка воображает, что я больна из-за нее. Вовсе нет, больна потому, что пришла болезнь. Только и всего. И чего они все так волнуются? Право, даже смотреть досадно! Ну была больна, ну была больна серьезно, ну… Я теперь здорова, совсем здорова! И просто жестоко со стороны доктора (презабавный финн с очками, круглыми, как вентиляторы) держать меня взаперти. Правда, мои пальцы похожи на лапы паука (белого, конечно), так они похудели, а сама я выгляжу выходцем с того света: желта, как лимон, а глаза горят, как плошки. Премиловидная девица, нечего сказать! Золотая, наверное, не узнает, когда приедет.
Ах, теперь остается только две недели до ее приезда… Они вздумали было писать о моей болезни и обо всем том, что случилось, но Принцесса (голубушка Принцесса! Как я ее люблю за это!) – Принцесса на коленях, говорят, умоляла Марью Александровну не делать этого, зная с моих слов, как безбожно беспокоить Золотую перед самым ее дебютом. Мариночка сознает лучше других, что в эти дни решается судьба моей мамы. Что от этих дней зависит вся наша дальнейшая с нею жизнь. Умница моя! Когда я узнала все от Живчика, которая – увы! – от слова до слова подслушала весь разговор таинственного совещания начальства (на него, как взрослую девицу, пригласили и Принцессу), я чуть не прокричала: "Ура!"
Ну разумеется, Золотая не должна знать ничего о «событии» до тех пор, пока я не сойду с постели. А потом я расскажу ей все это в комическом виде. Да! Слава Богу, я могу снова писать дневник и письма Золотой. Последние письма! Скоро я увижу ее! Увижу! Вот-то мы зададим бал им всем, воображаю! Только бы прошел кашель, несносный кашель! Когда его приступ овладевает мною, мне кажется, что я лопну или задохнусь. А эта гадкая красная мокрота, похожая на вишневый сироп по цвету, которая пятнами остается на носовом платке.
Скорее бы прошло все это! Теперь весна. Море совсем вскрылось, если верить Живчику и другим, и из бельведера вид прекрасной. А у меня перед окнами сосны и не видно моря… Какая жалость! Ужасно вспомнить, что не придется закончить моей картины "Куки и его салазки". Это зимний жанр, а теперь уже не увидишь снега, салазок и Куки в его шапке-треушнике, сползающей по самые брови.
Я лежу целыми часами и гляжу в одну точку и припоминаю все, что случилось со мною за все годы моей коротенькой жизни. Почему коротенькой? Я проживу долго – сто лет – и буду такая же старенькая, как бабушка Ирмы. Только не такая важная и спокойная, как она. Ведь я – Огонек. Или под старость люди меняются? Не знаю. Надо будет спросить госпожу Ярви, какая она была в мои годы. Она ежедневно приходит ко мне в те часы, когда девочки и Маргарита с Марьей Александровной заняты на уроках, и мы ведем с нею бесконечный молчаливый разговор. Она вяжет свои вечные салфетки, иногда смотрит на меня подолгу, потом вздохнет тихонько и опять вяжет. По утрам, как буря, врывается ко мне Ирма. С нею вместе врывается запах хлева, который молоденькая Ярви предпочитает лучшим ароматам Maiglockehen и Treffle (моих любимых духов). У нее в руках неизменно жестяные кружки с парным молоком.
– Кушайте, милая Ира, чтобы поправиться, быть толстой, как Воструха! (Воструха ее любимая белая корова с черной отметиной на лбу).
Отвратительное, теплое, густое густое молоко! Она приносит мне настоящее, лучшее. Это ужасное молоко! Я никогда не питала особой симпатии к молоку, а теперь, когда я лишена, благодаря пребыванию в постели, аппетита, оно мне совсем-совсем не по вкусу.
Потом Ирма садится у меня в ногах, глядит на меня вытаращенными глазами и рассказывает, что весь Ярви со всеми его окрестностями превозносит меня до небес, восхваляет как героиню и готов даже, кажется, причислить к лику святых за мое мартовское добровольное купание.
– Довольно! Довольно, Ирма! Бросьте ваши похвалы или я завизжу на весь замок!
Потом она молчит и только смотрит. А я говорю без умолку о том, что скоро приедет Золотая… Говорю до тех пор, пока не приходит Марья Александровна и не гонит Ирму, говоря, что мне нужен покой.
С Марьей Александровной мы друзья и с Маргаритой тоже. Заботятся они обе обо мне так, точно я владетельная принцесса или их дочка. Стыдно даже.
– Точно я не весть как больна, а между тем у меня глаза блестят как никогда, а на щеках все время играют два ярких пятна румянца. С ними я даже кажусь румянее Ирмы.
Сегодня я слышала, как Марья Александровна на вопрос доктора, отчего умер мой папа, сказала:
– У него была скоротечная чахотка.
Скоротечная чахотка. Да. Мама мне говорила это. Должно быть, это очень тяжело. Бедный мой папочка! Он, наверно, не менее моего любил жизнь!
Ах, она так прекрасна! Так поразительно прекрасна, особенно когда живешь под крылышком у Золотой!
Апрель 19…
Боже мой! Что за лица у них были сегодня! Испуганные насмерть, кислые, как лимоны. А глаза-то, глаза! Точно кашляла не я, а они, и задыхалась не я, а они сами…
Это был приступ! Б-р-р! Право, я не солгу, если скажу: одну минуту мне показалось, что я уже не увижу моей Золотой никогда, никогда… Но это только всего одну минуту, одну капельную, малюсенькую минуту всего!
Я закрыла рот платком и, корчась от боли, сжимавшей мою грудь, старалась скрыть от Ярви, от них всех эти алые пятна, сопровождающие теперь каждый такой приступ. Должно быть, от натуги кашля у меня лопнула какая-нибудь жилка в груди, но это не опасно, я знаю. Только надо скорее вылечиться от кашля до приезда Золотой. А то она испугается, если я при ней буду так… барабанить…
Я получила от нее письмо сегодня, такое чудное, такое родненькое письмецо! Она и не подозревает о том, что тут произошло в марте, радуется, что поправлюсь в Финляндии, где такой прекрасный, такой чудный воздух. Просит беречься, не оставаться после заката солнца, пока еще свежо на воздухе.
На воздухе!
Ах, как долго я не выходила! Кажется, целую вечность! Принцесса, Живчик и Слепуша приходят ко мне через каждый час и рассказывают обо всем, что делается там, по ту сторону моей двери. Им запрещено целовать меня из опасения кашля, который я им могу передать, и близко ко мне наклоняться. Но Принцесса каждый раз, когда никого нет в комнате, перецелует все мое лицо, глаза, лоб, волосы и губы, несмотря на запрещение…
– Ах, Ира, Ира! С каким восторгом я бы взяла на себя часть твоих страданий! – говорит она. Ее губы улыбаются, а глаза плачут и смотрят так жалобно, жалобно на меня…
Этого еще недоставало! Чтобы захворала она, моя миленькая, золотоголовая Принцесса! Нет, нет! Она должна быть здорова, я хочу представить ее золотой во всем блеске ее красоты.
Еще неделя… Одна неделя только…
Сегодня приезжал доктор из Петербурга, приглашенный Марьей Александровной для консилиума. Зачем консилиум? Что это значит?
О, как они мучили меня, тот важный из Петербурга и мой милый старичок финн с очками, как вентиляторы. Выстукивали меня молоточками, выслушивали, переговаривались по-латыни. Если бы я была не такая слабая и усталая и у меня не болела бы так грудь и спина, я думаю, что я бы расхохоталась им в лицо, так они были удивительно забавны!
А потом…
Марья Александровна сидела долго у моей постели и говорила так ласково со мною, расспрашивая, не хочется ли мне чего-нибудь.
О, разумеется хочется, и многого, многого сразу. Хочется прежде всего увидеть Золотую.
Хочется чтобы она сидела близко-близко, держала мои руки в своих и рассказывала мне о своей жизни без меня.
Хочется красных-раскрасных роз, которых здесь, наверное, не найдется…
Хочется холодного-прехолодного лимонада-шипучки, которого мне нельзя теперь пить.
Хочется, чтобы прошла эта негодная слабость, чтобы я спала по ночам и не задыхалась от кашля и не тряслась, как в лихорадке.
Хочется закончить "Куки и его салазки" и нарисовать Ирму в ее коровнике.
А еще хочется соскочить с постели, выбежать в сад, где уже так удивительно зеленеет травка, и скатиться кубарем с горы, к самому морю, к самому морю…
Вечером, когда Принцесса пришла ко мне пожелать мне спокойной ночи, веки у нее были красны, как будто она плакала без передышки, а щеки пылали, как огонь.
– О чем ты плакала? (Я самым незаметным для меня образом говорю теперь на «ты» со всеми моими подругами по интернату, кроме разве Ирмы, да и то потому, что эта деликатная девица на «вы» со всеми, даже с собственными коровами. Клянусь!)
Она долго молчала. А потом как разревется, как разревется! Вот не по дозревала-то, что в человеке может заключаться столько слез! И так как я тревожилась на ее счет и все допытывалась о причине ее горя, она вскочила со стула и как сумасшедшая бросилась вон из комнаты.
А вечером, когда Маргарита Викторовна пришла дежурить ко мне на ночь (она с Марьей Александровной чередуется еженощно у моей постели), я выпытала у нее причину Мариночкиных слез. Говорят, они поссорились, Принцесса и Живчик. Ну поссорились, ну и помирятся, зачем же плакать?
Нет тут что-то кроется! Не то! Не то!
Ах, как досадно, что я так слабею! Едва-едва могу водить карандашом по страницам моего дневника. А спина и грудь при этом так ноют, точно я носила тяжесть в гору. Мне это не нравится. Еще бы! Охота быть такой больнущей перед самым приездом Золотой!
Апрель 19…
Итак, все кончено!
Я узнала.
Я узнала все до капельки, больше, чем могла узнать. Так вот почему звали важного доктора из Петербурга!.. Вот почему перенесли меня с моей постелью вместе в самую светлую солнечную комнату замка, где так радостно и хорошо, вот почему плакала Марина вчера перед ночью! И Марья Александровна дежурит с Синей у меня до утра. Вот почему когда я кашляю, как будто стучу лопатой о пустую бочку и на платке у меня после этого кровь, и всю меня трясет от холода. Я все это узнала…
Как все это странно, дико! Огонек, веселый, живой, радостный Огонек – и вдруг…
Вчера ночью я не могла уснуть долго-долго. Я лежала с закрытыми глазами, потому что как нарочно вчера была совсем, совсем слабой, как никогда. Марья Александровна вышла из комнаты, а они вошли. Очевидно, они стерегли ее выход долго-долго за дверью.
Обе малютки вскочили со своих постелей так, как были, в своих длинных ночных рубашках. Я их видела из-под прижмуренных ресниц.
– Т-с-с! – прошептала Казя. – Я тебе говорю, тише, Адочка, она, должно быть, уже уснула!
– Да, она спит, – согласилась крошка.
– А мы все же на нее посмотрим.
– Казя! Казя! Неужто это правда?
– Да, Адочка, да! Она скоро навсегда уснет, наша Ирочка! И это из-за того только, что она спасала нас в то утро в море… Из-за меня, Адочка, из-за меня!
Тут голос малютки прервался. Она всхлипнула горько, жалобно и мгновенно подавила свои слезы.
– Из-за меня, из-за моего упрямства! О Господи! Зачем я убежала тогда… Будь я рядом с вами, ничего бы этого не случилось, мы не попали бы на опасное место, и… и…
– Но может быть, она выздоровеет!
– Ах, нет! Я отлично слышала, как доктор сам сказал нашей: "Ей нечем жить. У нее нет легких. Скоротечная чахотка. Девочка пошла по стопам отца!" Отлично все это слышала, спрятавшись за портьерой. Так и сказал… Да…
– Но значит, не из-за тебя, а…
– Да, не совсем… потому что доктор еще сказал: "У нее это наследственное!.." – Понимаешь?
– Нет.
– И я тоже плохо понимаю это слово… Но, кажется, оно значит приобретенное от отца.
– Значит не ты и не я виноваты, успокойся, Казя!
– Нет, Адочка, успокоиться нельзя! Она жила бы еще долго-долго, если бы, спасая нас, не бросилась в холодное море… А теперь… Теперь…
И Адочка горько заплакала, прижавшись к плечу своей маленькой подруги.
– Ее маме написали обо всем сегодня. Кажется, дали телеграмму. Ждать больше нельзя! Она скоро-скоро должна умереть!
– А мы-то так ее все любим, любим!
– Так уж всегда. Бедная ее мама… Т-с-с! Кажется, возвращается наша, бежим скорее!
Они встрепенулись, как мышки, и кинулись бежать. Когда входила Марья Александровна, я сидела уже на постели и глазами впивалась в дверь, откуда она вошла.
– Что с вами, Ирина?
– Я все знаю! И Золотая узнает тоже. Вы писали ей. Я это чувствую. Да. Скажите же мне правду. Одну правду. Я скоро умру? Да? Да? Да? Да?
Она тихо вскрикнула и выронила склянку с лекарством, которую держала в руках. Склянка – вдребезги, а она упала на колени, обхватила меня руками и застыла так, не говоря ни слова, прижав меня к своей груди.
Теперь я поняла все.
Поняла, что Огонек остался верным себе и тут… Ведь Огоньки не горят долго. Они гаснут скоро. И мне не суждено дожить, как бабушке Ирмы, до седых волос. Не суждено. Только бы увидеть Золотую, еще хоть разок, одним глазком увидеть, одним глазком!
Апрель 19…
О, как они все плакали… Зачем? Будто можно помочь чему-нибудь слезами. Нет, слезами не помочь ничему, уж если это так суждено. Злая фея – эта скоротечная чахотка. Ну что ей сделал бедный Огонек, что она так бессовестно губит его?
Не странно ли, право, что я умираю?! Я, которая так любит жизнь, так ужасно любит ее, как никто… Люблю жизнь, да, люблю солнце, люблю море, лес, тихую реку, синее небо, но больше мира, больше жизни люблю Золотую! Голубушку мою! Увижу ее еще раз, увижу еще раз, наверное! Так шепчет мое сердце, мое бедное маленькое сердце, которое так горячо, так сильно умеет ее любить.
Остается пять дней до ее приезда. Только пять!
Боже мой! Как ужасно то, что ей помешали окончить то, что надо. Помешали ее дебюту. И все этот гадкий, глупый Огонек! Не нашел другого времени хворать и… и…
Говорят, это страшно… Но я не боюсь этого, если со мною будет она… И… почему мне должно быть страшно, ведь я никому в жизни не причинила зла!
Но как они плакали все! Это был концерт, право! Господи Боже! Разве я подозревала, что меня так любят… Ах, не следовало бы объявлять им моей последней воли. Но что же делать?! Каждый человек объявляет свою волю перед тем, как умереть. Прежде всего я просила их плакать не сейчас, нет, а тогда, после…
Ведь те… мертвые, слышат, наверное, когда по ним тоскуют живые, и им должно быть это больно и тяжело…
Потом, я раздарила им все, что имею: мои картины, эскизы, краски, палитру, мои платья, чулки, воротнички. Только портрет Принцессы, тот, что так хвалил Мартынов, и недоконченного "Куки и его салазки", папины кисти и палитру просила передать маме, если… если… Золотая приедет когда… я уже не буду в живых.
Принцессе – мое серое платье, набросок нашей интернатской спальни, мою пелерину малинового плюша (ей как блондинке малиновый плюш удивительно подойдет к ее белокуро-золотистым волосам). Ирме Ярви – рисунок коровы, все мои воротнички (ее собственные не больно-то свежи и новы) и шелковую белую блузку. Жаль, что если она вздумает напялить ее на себя, блузка не выдержит и треснет в проймах. Живчику – ее собственную головку, набросанную углем, мои желтые туфельки и сапоги с пряжками (у нас одинаковые ноги). Сестричкам: старшей – мое форменное воскресное платье (будничное нельзя дарить – я его проносила до дырок на локтях); младшей – мое осеннее пальто и, кроме того, две пары цветных перчаток обеим. Раисе – мою любимую зеленую лампу, привезенную из дома, с которой так удобно и хорошо читать Тургенева, нашего с нею любимца, а малюткам, помимо знаменитых ремня и шарфа, обеим мой альбом с открытками, мои виды Петербурга, ящик с красками, шашки, приобретенные мною для того, чтобы играть с ними же в Петербурге.
Ну вот когда я разделила мое имущество между ними, мне стало легче как-то, и я могу теперь со спокойной душой ожидать Золотую. Да, мою розовую кофточку я никому не отдам! Это ее любимая, и я надену ее в день нашей встречи.
Приходил старый Адам и принес мне первых подснежников из леса. Забавный, право! Смотрел на меня, как смотрят у нас в церкви на образа, и дышал так громко, что я спросила, здоров ли он.
А он ответил мне на это на своем ломанном русско-финском наречии:
– Ах, лучше бы мне, старику, туда махнуть, право (он показал пальцем в землю), нежели болеть такой милой такой, славной барышне… Эх, кабы…
И отвернулся.
А все другие заревели.
У него затянулась давно его рана на пальце, и он говорит, что это благодаря мне…
Так как мне ему нечего было уже подарить, то я попросила Марину вынуть из моих ушей сережки и передать ему для его дочери. Он долго отнекивался, говоря, что не возьмет их и что мне они нужны самой.
Вот потешный-то! Не думает ли он, что там я буду щеголять в сережках?
С трудом записываю эти строки. Рука едва движется. Пальцы немеют. В груди такой хрип, что противно слушать!
Только бы дождаться Золотой!..
Апрель 190…
Целые два часа провела с Мариной.
Зачем она плачет! Ведь я не боюсь, ничуточки не боюсь. Они сами видят это прекрасно. Сначала скрывали – отнекивались и тому подобное, а теперь… Ведь я же заявила всем, что это бесполезно и я знаю все… все до капли. А откуда знаю – не сказала. Пусть думают, что видела во сне.
Завтра приедет из ближайшего города священник. Я буду исповедоваться и причащаться. Тогда, наверное, легче станет в груди. Всех тежело-больных исповедают и причащают… Вот и я попросила.
Принцесса, если ты будешь так плакать, я не пущу больше тебя к себе! Я так люблю твое красивое, задумчивое личико и мне совсем неприятно видеть его раздувшимся, как у утопленника. Да!
Я ее просила не подходить ко мне близко и всех других тоже.
Ведь это, что у меня, может передаться другим. Ах, Золотая, Золотая, если б ты могла прилететь ко мне на крыльях!
– Послушай, я ужасная стала дурнушка? – спросила я Принцессу сегодня.
– Нет! Нет! – ты такой же хорошенький, как и раньше, Огонек, только ты стала такой худенькой. Но все это глупости, когда ты поправишься…
– Не говорите пустяков, очаровательная Принцесса, вы знаете прекрасно, что Огонек не встанет уже больше с этой постели и… и…
Я попросила ее причесать меня получше в тот день, когда приедет Золотая. Это будет скоро, скоро теперь! Три дня… только три дня и три ночи осталось до нашей встречи.
– Принцесса! В тот день, когда она приедет, ты спустишь шторы с утра в этой комнате, чтобы Золотая не заметила, как я исхудала и изменилась. Слышишь? И всюду разбросаешь подснежники, которые Адам ежедневно приносит мне теперь из леса. Слышишь Принцесса? Пусть будет здесь нарядно, как в праздник.
– Да, да, Огонек, мои милый Огонек, успокойся, все будет по-твоему… Так она мне обещала.
А потом я ее еще попросила на ушко, так тихо, тихо, тихо…
– И потом ступай, Принцесса, в дочки к моей маме. Право, вы так подходите одна к другой! Ведь ты меня очень любишь – правда?
– Как перед Богом правда, родная, – и она опять разрыдалась, говоря это.
Бедняжка! Должно быть, ей нелегко.
– Моя мама тебя уже любит, Мариночка, и будет рада, если, если… Ах, как хорошо было бы, если бы ты жила с нею вместо меня, после, когда… и ты была бы ей вместо дочки. Вы бы стали вспоминать далекого Огонька и… и…
Обрываю на полуслове. Опять этот приступ кашля… Какая мука! И слабость… слабость… без конца.
Апреля… 190…
Телеграмму от нее!
Будет завтра!
Господи! Благодарю Тебя, что вспомнил бедного умирающего Огонька… Продли Свою милость! Ты знаешь, чего я хочу, Боже!
Сегодня исповедовалась и причастилась. О, как легко и хорошо мне стало… Совсем хорошо. И я сильнее даже стала, как будто.
Сейчас напишу письмо Золотой и заложу в эти страницы на случай, если… если… Но я верю и надеюсь увидеть ее хоть глазочком, мою незаменимую маму. Еще раз! Только раз. Да, да, одним глазком…
Чуточку, да, да. Золотая!.. Скоро твой глупенький Огонек потухнет на вид… Не горюй, мамуля! Ты ведь знаешь: делу пособить нельзя. И это совсем, совсем не страшно… И потом, я чувствую, что тебя увижу. Да, моя мамочка Золотая, увижу тебя!
Не плачь обо мне… Не горюй, счастье мое, мамочка, родное сокровище мое! Мне легко. Мне хорошо… Я знаю, знаю, что мне нечего бояться. Разве я сделала что-нибудь уж очень дурное? Моя Золотая! Знаешь ли, приятно сознавать, что все кругом так любят, любят тебя! Я даже не стою такой любви, мое сокровище!
Право же, нет другой такой балованной девочки в мире, и моя коротенькая жизнь, могу сказать, прошла так счастливо и прекрасно!.. Только одно грустно! Я не умела доказать тебе ничем, как я люблю тебя, Золотая, а между тем мое сердце так полно, так ужасно полно любовью моей к тебе. Я мечтала сделаться художницею, как папа, чтобы ты могла гордиться твоим маленьким, глупеньким Огоньком.
Но… но… мамочка! Кто же знал, что это так случится?… Впрочем, я утешаю себя мыслью об одном: огоньки не могут гореть долго. И раз мне суждено было стать одним из них, я не могу составить исключения в ряду всех прочих. Ведь правда? Не плачь же, мамуля моя, когда я уйду от тебя, я все же останусь всегда с тобою… и с Принцессой, которую ты, может быть, согласишься взять в дочки вместо меня? Да? Возьмешь, мое сердце, моя ненаглядная, чудная мама? Ох, я бы не знаю, как хотела, чтобы завтрашний день настал сегодня. Но нельзя. Нельзя… Утешься хоть одним, мамочка: я совсем не сильно страдаю. Право. И это далеко не так страшно, как пишется в книгах. А когда я думаю о тебе, мне становится совсем легко. Совсем. И когда молюсь – тоже. Теперь я молюсь часто и подолгу, лежу и думаю о Нем.



