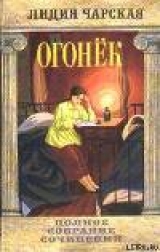
Текст книги "Том 38. Огонек"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Четвертое письмо Огонька к матери

"Ура! Золотая!
О, как я счастлива! Как я безумно счастлива сегодня! Твое письмо! Оно лежит передо мною. Я перечитываю его чуть ли не в десятый раз за эти полчаса времени, а слезы так и капают у меня из глаз. Так и льются на коричневое платье, на белый передник. Слезы капают, а я смеюсь. Ну да, твой глупый Огонек смеется, мамочка! Это от счастья. Тысячу раз благодарю тебя за твои родные, ласковые, так осчастливившие меня строки!
Как я хорошо вижу тебя сейчас перед собою, всю такую изящную, хрупкую с твоими золотыми волосами сказочной девы… Мама, знаешь ли, во мне положительно живет душа художника! Папина душа. Я так чутко и остро понимаю красоту! Моя милая, чудная, прекрасная мамочка! Как бы я хотела нарисовать тебя сейчас!
Спасибо тебе, мамуля-радость, за тот добрый совет, который ты мне прислала. Да, да, я буду вести мой дневник! Конечно, буду. Накоплю за год и пошлю тебе толстыми тетрадками. В письмах же буду писать только самое важное, а так как самое важное для твоего Огонька, мамуля, его любовь к тебе, то значит, мои письма и будут полны моей любовью к Золотой. Как хорошо ты пишешь о новом спектакле. Как хорошо было, должно быть, это первое представление "Короля Аира"! И ты в роли Корделии, обожающей своего отца! Ты, должно быть, божественно играла, Золотая! Пожалуйста, не забудь мне описать поподробнее твой костюм, твою прическу и пришли мне отзыв местной газеты о твоем исполнении. Я уверена, что он будет прекрасен. Я заключу его в рамку от портрета и повешу над моей постелью рядом с твоей карточкой.
Перечитываю твое письмо и мысленно переношусь в наш милый городок, в большой "театральный дом" – наше артистическое ателье, как его называл всегда с такою важностью Заза… Длинный полутемный коридор меблированных комнат госпожи Резинкиной, наполовину занятый нашей труппой, коридорную Пашу, носящуюся, как вихрь, из комнаты в комнату, и наши две комнатки, гостиную и спальню с папиными картинами, карточками и твоими портретами во всех заглавных ролях.
Ах, мамочка, когда ты будешь богата, когда тебе дадут дебют на императорской сцене и у нас будет столько денег, что они не уместятся в цилиндре дяди Вити (помнишь его выражение: "Я желал бы иметь столько денег, сколько уместилось бы в моем цилиндре"), мы устроим непременно в конце нашей будущей роскошной квартиры такую же точно маленькую гостиную и крошечку-спальню и будем вспоминать в них счастливую, хотя и не совсем беззаботную жизнь в далеком провинциальном городке.
Не правда ли, Золотая?
И твой малиновый капот с широкими откидными рукавами ты повесишь там, на гвоздике, моя мамочка. И никогда не выбросишь малинового капотика, нет! Ведь он пережил вместе с нами столько хорошего, право!..
Эти вечера, когда ты возвращалась после окончания спектакля из театра и разогревала себе чай на керосинке и резала тоненькими ломтиками ветчину, стараясь скользить неслышно, как фея, по комнате, чтобы не разбудить твоего Огонька, который нарочно притворялся спящим, стремясь в свою очередь наблюдать без помехи свою Золотую и искренне восторгаться ею. Разве все это не дорого по воспоминаниям мне, моя мамочка?! Я тебя так люблю, так ужасно сильно люблю!
Да, ты права, я буду вести мой дневник, непременно буду. Начну с сегодняшнего дня. Прощай, жизнь моя, мамочка! Надеюсь, тебе будет капельку приятно, если я сообщу тебе, что французский, географию, педагогику, анатомию и физику я выдержала тоже весьма недурно. Передай это моему старому учителю и поблагодари его от меня за то, что он так хорошо меня подготовил.
До свидания, Золотая… Целую тебя так крепко, как могу. Поклон всей труппе, если они не забыли их горячего, взбалмошного Огонька!"

Из дневника Ирины Камской

Сентября 12-го 190…
Сегодня радостный день. Письмо Золотой – это раз, счастливое окончание экзаменационных испытаний – это два. Нет, положительно мне везет. В пятнадцать лет – шестиклассница. Весьма и весьма недурно. Думаю, что это приятно для Золотой. Ведь я ее единственная радость в жизни. Театр – это совсем иное. Разве, если бы папа не умер так рано, оставив меня двухлетней глупышкой на руках Золотой, она бы поступила на сцену? Конечно, нет. А тут надо было кормить Огонька, который требовал так много, так ужасно много… Телефонные, телеграфные барышни, служащие конторщицами в магазинах, получают крохи, и вот, соображаясь с этим, моя красавица мама пошла на сцену. Там, при ее таланте, ей удалось сделать достаточно.
Вначале приходилось кочевать из города в город ежегодно, судя по тому, где Золотая заключала с театральными директорами контракт. И вот наконец судьба нас забрасывает в наш городок… Контракт на три года… Шикарно! Мама торопится пригласить учителя давать мне уроки. До сих пор она занималась со мною сама между репетициями и спектаклями. (А роли учила ночью, бедная моя мамуля! Нелегко ей было это!)
Учитель меня подготовил блестяще. Результат налицо. За все последние три года мама только и твердила о том, что верх ее желания – это поместить меня в одну из петербургских гимназий, устроив в имеющемся при ней общежитии, так как она (моя Золотая надеялась на это) должна была изменить свою кочевую жизнь провинциальной актрисы, приехать в столицу, добиться дебюта на образцовой сцене и уже окончательно водвориться на ее подмостках "хотя бы под старость".
"Под старость" – это не мое, а ее слово. Когда мамуля принимается говорить про свою старость, я начинаю во все горло хохотать. Золотой 34 года, но она кажется двадцатипятилетней. Ужасно смешно видеть нас вместе. Точно сестры. Нас и принимают за сестер, и мамочка всегда страшно обижается на это.
– Зачем ты смеешься, Огонек, или тебе не хочется больше быть моей милой дочуркой? – спрашивает она в этих случаях меня, беснующуюся от смеха.
О, Золотая! Пусть я проживу сто лет, чтобы любить тебя эти сто лет так же горячо и много, как я люблю тебя в эти минуты! Ты недаром прозвала меня Огоньком, дорогая моя мама, за мою способность вспыхивать и загораться от гнева, счастья или восторга. Я – твой Огонек и хочу гореть лишь для тебя всю мою жизнь, всю мою долгую жизнь, Золотая!
Итак, сегодня счастливый день, и я решила отпраздновать его на славу. После урока физики, когда «экстерки» по обыкновению с веселым смехом и шумом высыпали на улицу, а мои подруги по интернату, сгруппировавшись у окна, жадным взором провожали уходивших, я незаметно подкралась к ним и голосом герольда из балаганной феерии прокричала басом на весь класс:
– Ирина Камская задает пир в этот вечер… Просят покорнейше не засыпать сразу после тушения ламп!
– Берегитесь попасться m-lle Боргиной, Огонек (они все уже приучились к моему обычному прозвищу здесь, в гимназии и в интернате), она не любит подобных выдумок, – предупредила меня Принцесса.
Вместо ответа я чмокнула ее и заговорила уже значительно тише:
– Т-с-с! Masdemoiselles! Я приглашаю вас всех, не исключая и малюток, к своей кровати. Будет легкий ужин, сладости и лимонад с медом, заменяющий вино. Сейчас посылаю горничную за всеми припасами. Надеюсь, в этом нет особенного преступления.
– Ну разумеется! – поспешила подхватить Живчик, – надо только дать время Синей убраться из спальни.
– Ах, это будет чудесно! – в один голос вскричали подоспевшие малютки и неистово захлопали в ладоши.
Моя затея, очевидно, понравилась всем. Только Принцесса все еще покачивала своей золотистой головкой да Слепушины больные глаза как-то пугливо поглядывали из-под зеленого зонтика.
Дело в том, что посылать горничную за чем бы то ни было гимназисткам строго воспрещается без разрешения на то ближайшего начальства. Что же касается нас, бедных затворниц, то мы вздохнуть, кажется, не смеем без разрешения Синей, а тем более устраивать пиршества. А если идти спрашивать последнюю, то уж наверное из целой сметы предполагаемых для покупки вкусных вещей не останется и десятой доли.
Итак, решив игнорировать разрешение Маргариты Викторовны, я вынимаю из моего кошелька один из пяти золотых, подаренных мне мамой перед отъездом, исключительно для «удовольствия» ее глупого Огонька, отыскиваю в прихожей девушку и снаряжаю ее в опасный путь.
Сама же как ни в чем не бывало отправляюсь обедать. Должно быть, у меня было несколько взволнованное лицо за обедом, потому что г-жа Рамова осведомляется на мой счет между первым и вторым блюдом:
– M-lle Ирина, не болит ли у вас голова?
Я отвечаю ей твердым «нет». Потом успеваю дать понять малюткам, что горничная уже тю-тю и что вечером я задаю лукулловское пиршество интернату.
Я чувствую: когда этот дневник будет в руках Золотой, и милые фиалочки-глазки пробегут эти строчки, мама вздохнет сокрушенно и мысленно упрекнет своего сумасшедшего Огонька. Но что же делать, Золотая?! Разве виноват твой Огонек, что он имеет свойство гореть тысячу и одним желанием и совсем не заботится о том, насколько удобен или неудобен способ их осуществления здесь, в интернате.
Да, это был пир! Вот это я понимаю! Мы зажгли все огарки, имеющиеся в столике каждой интернатки, и наша спальня превратилась в настоящий ярко освещенный зал. Малыши примчались из своей «детской» в длинных ночных сорочках и с распущенными волосами по плечам, имели вид двух прелестных херувимов, слетевших с неба. Две постели сдвинули, накрыли их пикейным одеялом, сегодня игравшим роль скатерти, приставили к ним наши сундучки и чемоданы (табуреты и стулья были бы слишком высоки для этой цели) и воссели за нашим импровизированным столом с такою важностью и комфортом, точно на настоящем банкете.
Ах, Золотая, наверное, сделала бы свою милую брезгливую гримаску, если бы увидела те лакомства, какими приготовился набить желудки новых своих подруг твой сумасбродный Огонек!
Во-первых, была великолепная ливерная колбаса, моя любимая, и к ней баночка французской горчицы. Затем омары и копченый угорь, похожий на змею. Затем сладкий пирог, начиненный взбитыми сливками, леденцы в бумажках и леденцы без бумажек, рябиновые пастилки и наклеванный хлеб. И в довершение всего грушевый мед и лимонад! Все удивительно вкусные вещи!
Взяв тарелки, вилки и ножи из буфетной, мы, не теряя времени, принялись за угощение. Право, никогда еще ливерная колбаса не казалась мне такой очаровательно-прелестной, как в эту ночь!
– Давайте провозглашать тосты! – предложила Живчик, вскакивая на стул посреди спальни. – Кстати, у моего перочинного ножа есть штопор. Я откупорю бутылки.
И она тут же привела свой замысел в исполнение с таким искусством, что мы все невольно позавидовали ее ловкости. Через минуту, отведав из своей кружки, служившей для полосканья зубов, она проговорила:
– Господа! Лимонад чересчур холоден. Мы его можем пить сами, но я не рекомендую давать малышам, следует согреть его немного в печке, сегодня, кстати, она топилась по утру.
И она бросилась с бутылкой в руках открывать печные дверцы.
– Дело сделано. Ваше питье через четверть часа будет готово, маленькие люди! – комически раскланиваясь, обратилась Аня к малюткам, бросив взгляд на их вытянувшиеся личики, полные обманутого ожидания.
– А теперь, господа, я предлагаю тост за знаменитого отца Ирины Камской и за процветание таланта ее матери. Ура!
– Ура! – подхватили несколько голосов сразу, среди которых звонко выделялись мышиные подвизгивания малышей.
Я была растрогана до глубины души. Взяла свой стакан с медом и раскланивалась с таким же достоинством, с каким дядя Витя, главный герой и резонер нашей труппы, раскланивается с публикой. Должно быть, это было очень смешно, потому что все расхохотались. А малютки буквально «закатились» смехом. Потом пили лимонад и мед за мое здоровье, за процветание моего таланта по рисованию… За золотые волосы и кроткий нрав Принцессы, за улучшение здоровья Слепуши, за общих сестричек, за далекую усадьбу Шинки, за неисчерпаемое веселье Живчика… И я уже готовилась произнести последний и самый хороший для меня тост за милых нашему сердцу отсутствующих, как вдруг… Вот так выстрел!
В первую минуту мне показалось, что молния ударила в крышу или пушка выпалила на чердак. Мои новые подруги, очевидно, были такого же мнения, так как лица их стали белее бумаги, а двое малюток, обезумевших от ужаса, замертво свалились на соседнюю постель. Мы едва успели опомниться от изумления и испуга, как неожиданно послышались осторожные шаги в коридоре.
– Это m-lle Боргина! Это Маргарита! – в ужасе в один голос прошептали сестренки и вмиг чья-то благодетельная рука потушила с волшебной быстротою, могущей разве встретиться в одних сказках, все наши огарки до одного. Теперь спальня погрузилась в полную темноту, так как умышленно или второпях ненароком был погашен за компанию с огарком и сам ночник.
Синяя вошла тихими, чуть слышными шагами и ощупью стала пробираться к столику, где находилась лампа. Вот слабо звякнуло стекло, чиркнула спичка, лампа зажглась и – ужас! Наш импровизированный стол с остатками пиршества и пустыми бутылками от лимонада и меда предстал перед изумленными глазами надзирательницы. С минуту она молчала, не находя слов, и только дышала так порывисто, что я искренно испугалась за ее здоровье. Наконец, дав улечься первому приступу негодования, она заговорила:
– Я никак не ожидала от вас такой ребяческой выходки, mesdemoiselles. Вы почти взрослые барышни-гимназистки и позволяете себе такие глупые детские проделки! Неужели же нельзя было предпринять все это днем с разрешения госпожи Рамовой и моего?! Мало того, что вы непозволительно ведете себя, но еще вздумали привлечь в эту дикую потеху и маленьких. Нехорошо, mesdemoiselles! Очень нехорошо. Я принуждена довести все это до сведения госпожи начальницы…
Тут она сделала очень строгое лицо и замолчала. И вдруг точно только что вспомнила о самом главном.
– Да, но выстрел? Откуда выстрел, mesdemoiselles? Не отрекайтесь. Я знаю, что стреляли здесь, в спальне.
– Совершенно верно! – выступая вперед, согласилась я. – Стреляли здесь и, кажется, в печке.
– Кто мог стрелять в печке? Что за глупости вы болтаете, Камская! Это… Это… – и Маргарита, как мы называли для разнообразия Синюю, волнуясь, не могла найти подходящих слов…
С поразительной быстротою в моем мозгу промелькнула разгадка.
– Это был мед! – неожиданно вырвалось у меня, и я с быстротой молнии кинулась к печке, открыла дверцу и… и все мы увидели разбитую на части бутылку с остатками жидкости в каждом черепке. Теперь было ясно вполне, откуда произошел выстрел. Бедняга бутылка, позабытая нами, долго боролась с тропической теплотой печи, не выдержала и, разорванная на части своим же собственным бродившим в ней содержимым, прикончила свою кратковременную жизнь.
Новая нотация со стороны m-lle Боргиной… Мое признание полной виновности во всем!.. Затем продолжительная проповедь на тему о добродетелях, и мы, мы были великодушно прощены. Синяя Маргарита оказалась много жизненнее и добрее, нежели я это предполагала. Она обещала ни слова не говорить г-же Рамовой ни о пиршестве, ни о выстреле, ни обо всем том, что произошло в злополучную ночь.
Ура! Это мне нравится… Синяя Фурия оказалась очень благородной особой и за это я окончательно меняю свое первоначальное мнение о ней. Да, так будет лучше.
А что скажет Золотая, читая все это?
Ночное пиршество, мед в печке, выстрел…
"Огонек, – подумает она, – показывает свое уменье вспыхивать и разгораться чуть ли не с первого же дня водворения в новую обстановку". Да, но зато, мамочка, у меня есть кое-что и приятное сообщить моему дневнику, этим задушевным страницам: я совершенно отучилась от дурной привычки показывать язык и делать гримасы, так мало соответствующие моему пятнадцатилетнему возрасту. Ура! Ура! Ура! Однако нужно заканчивать дневник на сегодня. Еще предстоит долгая, но весьма приятная работа – писать письмо Золотой. До свиданья, до следующего раза, милая моя тетрадка!
Ноября 10-го 190…
Ого! Целый месяц не писала. Вот так история! Оказывается, вести дневник далеко не такая легкая задача, как это мне казалось прежде! За целый месяц не случилось ничего особенного, а записывать, какие к нам приходят учителя и какие задают нам уроки, это же, право, совсем не интересно. Вчера, впрочем, мне пришла в голову исключительная мысль. Я буду вести не такой дневник, какой ведут обыкновенно все благонравные девицы, а совсем, совсем особенный дневник. Ведь надо же в конце концов сознаться, что и глупый бедовый Огонек – совсем необыкновенный Огонек, стало быть, и поступать ему следует совсем не по обыкновенному. Итак, я решила вписывать в эти страницы только исключительно интересные факты из моей гимназическо-интернатской жизни. А обыкновенные, серо и плоско пробежавшие дни пропускать, не удостаивая их вниманием. Да, так будет много лучше. И Золотая не натрудит своих фиалочек-глазок, когда будет читать пеструю чепуху своего глупого безалаберного Огонька.
Итак начинаю. Сегодня есть уже событие, героиней которого на беду мою выпало быть мне. Был урок физики. Учитель – высокий красивый брюнет со строгими глазами, которого обожает добрая половина гимназии, – не терпит подсказок. И никак не может взять в толк, что в нашей гимназии (я не знаю, а может быть, и в остальных) подсказывание уроков не знающей ученице считается лучшим и вернейшим проявлением дружбы со стороны ее подруг. Сегодня первой была вызвана Усачка. Бедняжка, как говорится, и не нюхала отдела устройства беспроволочного телеграфа системы доктора Маркони. А я его, как нарочно, знаю назубок. Ну как тут удержаться, скажите на милость, когда видишь на аршин от себя конвульсивно подергивающуюся губку с точно нарочно выведенными на ней кисточкою черными усиками и беспомощно обращенные на учителя глаза, полные слез?
Тут-то и началось вовсю. Я приняла самый непринужденный вид, придала сонное выражение моему взгляду и, прикрывши, словно невзначай, рот ладонью, стала подсказывать с остервенением заправского театрального суфлера урок моей соседке. В начале все шло прекрасно… Но вдруг учитель неожиданно произнес громко на весь класс:
– Госпожа Камская, умерьте ваши восторги!
Мне захотелось сделать одну из моих великолепнейших гримас в отместку за это, но я вспомнила своевременно, к счастью, что не пятнадцатилетней барышне, гимназистке да еще дочери художника Камского и Золотой, впору заниматься таким делом, тем более по отношению к своему учителю, и как умела, я сдержала себя. Пришлось на минуту прекратить «суфлерство». Я замолчала. Замолчала и Усачка. Ах, что это была за минута! Бедняжка, очевидно, отвечала урок только под мою ретивую диктовку. Сейчас она дышала так громко от волнения, точно везла необычайную тяжесть в гору. А на лице ее… Всесильный Боже, что было написано на этом многострадальном лице! Положительно, нельзя было смотреть на него без боли или воздержаться от желания помочь этой бедняжечке! И я помогла. С неподражаемым искусством я снова просуфлировала немножко Усачке, и под мою подсказку она ответила уже большую половину урока, как неожиданно Николай Николаевич Фирсов (имя преподавателя) устремляет на меня взор, полный благородного негодования, и говорит:
– Госпожа Камская, ввиду вашего исключительного таланта и на поприще суфлирования, попрошу вас выйти на середину класса и присесть около кафедры на несколько минут. Здесь вам не удастся так блестяще выражать ваш удивительный талант, я надеюсь!
Вот так сюрприз! Еще не легче! Я, признаться, ничего подобного не могла предвидеть! Гимназистку предпоследнего класса сажают в виде наказания посреди класса, как какого-то малыша из младшего приготовительного отделения! Я была красна, как помидор, но тем не менее проследовала с видом триумфатора на указанное место. Должно быть, с таким же гордым лицом шла и несчастная присужденная к смерти французская королева Мария Антуанетта на место казни, про которую мы узнали на последнем уроке всеобщей истории. Кстати, Принцесса уже третий день уверяет меня, что я до безумия (это наше любимое интернатское выражение) похожа на ее портрет.
Это нечто совсем новое. До сих пор, по уверению Золотой, я знала, что похожу до чрезвычайности на глупого маленького сурочка, который всюду сует свою рожицу, куда надо и не надо, а теперь… Гм! Гм! Гм! Так и запишем!
"В вашем лице есть что-то трагическое, Ирина", – так говорит Принцесса, и я ужасно рада, что есть что-то трагическое в глупом лице сумасшедшего Огонька.
Итак, я преисправно промаршировала на середину класса и уселась на стуле с таким видом, что весь класс фыркнул от смеха.
Вот вам и трагическое лицо! И казненная французская королева! Очень хорошо. В будущий раз будем благопристойнее. Дело в том, что после урока я узнала печальную новость. Он поставил две единицы: одну Усачке за незнание урока, другую мне за чрезмерное рвение в деле подсказывания. А, каково? Так и написал сбоку в журнале: "За чрезмерное рвение в деле подсказывания". Удивительно остроумно! И за что только его обожают у нас! Буду каяться сегодня Золотой в длинном-предлинном письме. Бедная моя мамочка, как жаль что у тебя состоит в дочках такой глупый, такой невозможно глупый Огонек! Если бы твоей дочерью была Принцесса, это было бы так справедливо со стороны госпожи судьбы! Обе тихие, кроткие и обе золотые. Вы так подходите друг к другу, право! Но чур! Мою мамочку я никому не отдам! Ни-ни! Даже Марине, которую люблю здесь больше всех изо всей гимназии и интерната!
Мы беседуем с ней по целым часам. Вчера проболтали, например, чуть ни всю ночь до рассвета. Она рассказывала о себе. Она круглая сирота. У нее есть только опекунша, сухая черствая старуха. Опекунша дает ей так мало денег, что ей едва хватает на самое необходимое. Она говорит, что по окончании гимназии пойдет на педагогические курсы. Она, эта кроткая Марина, любит детей и хочет всю свою жизнь отдать их на воспитание. А потом она сказала:
– А вы, наверное, сделаетесь большой художницей, Ира, у вас такой талант!
– Ах нет, вовсе нет! Я хочу быть доктором, как Ольга Денисовна. Врачевать недуги людей, помогать им, по мере сил и возможности, восстанавливать их подточенное здоровье, ах, это так прекрасно!
– Но это не помешает и заняться живописью, – настаивает она.
– Ну конечно!
Я рисую портрет Принцессы. Впрочем, это не портрет, а скорее набросок, сделанный масляными красками и папиной кистью, которые я привезла сюда из нашего уголка. Марина изображена на нем в виде ангела с распущенными вдоль спины и груди длинными золотыми волосами. Волосы и крылья удались мне на славу, но лицо… В тысячу раз легче написать всю гимназию с ее девочками на одной картине, нежели схватить выражение Марининого лица.
После этой работы займусь Усачкой. Катишь Милова обещала оставаться для этой цели на два часа после окончания уроков, лишь бы я только написала ее портрет. Она – пресмешная. Ходит за мной, как верная собачка, смотрит мне в лицо и предупреждает каждое мое желание. Это трогательно и смешно, подчас надоедает немало.
Если она будет продолжать нечто подобное, я оставлю ее без портрета.
Декабрь 190…
Еще событие, Золотая, это относится к тебе. Твой Огонек на этот раз осрамился, кажется, на твою пользу… Но все, все по порядку!
Утро. У нас в классе русский язык. Преподаватель-словесник, Иван Иванович Радушин, пожилой, почти старый человек, но способен увлекаться своим предметом как мальчик. Читает он стихи так, что и я порой заслушаться готова. А ведь я-то уж, мое почтение!.. Хорошей декламацией избалована как никто. У Золотой удивительный талант читать стихи и прозу. И у дяди Вити, и у Кнутика нашего jeune premiera,[1][1]
Актер исполняющий роли молодых людей.
[Закрыть] и у бабушки Лу-лу тоже. Но то актеры-профессионалы, им и книги в руки, как говорится, а Радушин ведь только учитель, и никаких уроков декламации не брал. Ну-с, сидим это мы чин-чином, ручки коробочкой, как настоящие пай-девочки, и слушаем о том, кто такой был Державин и значение его од. Вдруг шаги по коридору, и не одной пары ног, а нескольких… Точно целое общество разгуливает за дверьми класса. Гимназистки чуть не вытянули шеи от любопытства и не свернули себе головы. Разумеется, про Державина с его одами и думать позабыли. Иван Иванович надрывался от усилий вернуть классу его исчезнувшее внимание. Не тут-то было. Все глаза впились в дверь. Смутно ожидалось что-то необычайное, из ряда вон выходящее, что не каждый день происходит в гимназических стенах.
И вот дверь распахивается предупредительными руками коридорного сторожа на обе половинки и… входит Марья Александровна, Василий Дементьевич, наш инспектор, Маргарита в ее вечном синем платье и какой-то маленький, полный старичок в синем вицмундире, со звездой на груди.
– Почетный гость! Вельможа! Большой государственный человек! – пронеслось по классу шепотом, исполненным благоговейного ужаса, точно он был создан не таким человеком, как все.
– Он дальний родственник г-жи Рамовой, – успела мне шепнуть Усачка, – и очень благосклонен к нашему учебному заведению. Бывает довольно часто. Знаете, Ирина, он очень, очень добрый человек!
– У-гу! – соглашаюсь я, кивая головою и менее всего заботясь о том, добр или не добр этот симпатичный по виду, в форменном вицмундире старик. Я равнодушна вполне к неожиданному появлению начальства. Сегодняшний урок знаю и даже усвоила себе кое-что о Державине, так что могу «отличиться», если спросят. Чего же больше? Пускай спросят. Рядом со мной донельзя волнуется Усачка, всеми силами стараясь привести в порядок свои кудрявые волосы. Марья Александровна терпеть не может «лохматых». Позади нас Маруся Линская, красивая девочка с глубокими, обведенными синими кругами, вследствие усиленной долбежки, как уверяют гимназистки, глазами, наша первая ученица, усиленно шепчет заданное к сегодняшнему дню стихотворение. Наверное, Радушин пожелает блеснуть примерными знаниями лучшей ученицы и спросит ее в первую голову. Так и есть.
Едва только успело занять предназначенные им места начальство и выжидательными взорами обратиться к преподавателю, как этот последний с любезной улыбкой произнес:
– Госпожа Линская, пожалуйте!
Девочка с глубокими умными глазами, обведенными синевой, смущенно предстала перед лицом почетного гостя. Сначала робко, потом все смелее и смелее звучит ее ответ. Говорила она далеко не относящееся к уроку. Зная прекрасно свою лучшую ученицу, словесник не стеснялся, гонял, как говорится, Марусю по всему курсу и дал ей возможность отличиться вовсю.
Девочку похвалили. И сам почетный гость, и инспектор, и даже Марья Александровна, обыкновенно скупая на похвалы.
Потом вызвали Слепушу. Болезненный вид девочки, ее зеленый зонтик, защищающий больные глаза, – все это вызывало невольное к ней жалостное сочувствие. Она отвечала недурно, ее похвалили не меньше Линской и отпустили на место.
Вдруг… слышу:
– Госпожа Камская!
Слуга покорный! А я-то совсем не приготовилась к ответу!
– Госпожа Камская! – слышу я во второй раз и поневоле встаю. Встаю, выхожу на середину класса, отвешиваю традиционный реверанс. Марья Александровна при моем приближении наклоняется к почетному гостю и говорит ему что-то. Я знаю, что она говорит. Что я, Камская, дочь умершего художника Камского. Старый вельможа покачал головою. Его брови приподнялись с выражением вопроса, и приятно-удивленно глянули на меня его глаза.
"Вот как! Неужели?" – казалось, говорил он всей своей особой.
– Госпожа Камская, – произнес Радушин, – не прочтете ли вы нам какое-нибудь стихотворение? Право выбора остается за вами.
Я задумалась на минуту. Напрягла память. Неожиданно в уме моем промелькнула картина. Литературно-музыкальный вечер в городской ратуше, у нас в провинции, зал, залитый светом, и мою Золотую, читающую с эстрады красивое и трогательное стихотворение Майкова «Мать», полное неизъяснимых настроений. Я помню до сих пор все малейшие интонации маминого голоса, все мельчайшие переходы. Скопировать их мне не составит никакого труда.
Ну, разумеется, не составит! Надо только сделать усилие над собою и во все время декламации не выпускать из головы любимый, несравненный образ Золотой, читающей на эстраде. Я так и делаю. Я поднимаю глаза к окну, за которым чуть синеет предсмертной осенней синевой небо, и, видя перед собой и зал, и эстраду, и Золотую на ней, начинаю стихи:
Бедный мальчик весь в огне,
Все ему неловко,
Ляг на плечико ко мне,
Прислонись головкой!
Развертывается картина детской агонии. Горе матери… Предсмертный лепет ребенка и сквозь отчаяние несчастной эти сказки, эти песни, которыми мать старается потешить свое умирающее дитя.
Ужасная картина! Я помню, когда Золотая читала эти стихи, в зале многие плакали. С какой-то барыней, потерявшей незадолго до этого сына, сделалось дурно… Ее замертво вынесли на руках…
Бархатный голос моей матери, полный захватывающего чувства, звучал в моих ушах и теперь, все время, все время. Какая-то неведомая волна подхватила и унесла меня… Дрожь колючими искрами пробегала по моему телу. Огромное, непонятное и сладкое что-то разрасталось в груди.
Не помню, как я закончила… Не помню, как замолчала. С трудом оторвала глаза от синего кусочка неба, видневшегося в окно, перевела их на лицо Марьи Александровны.
По этому лицу, я ясно это видела, текли слезы.
Почетный гость сидел с поникнувшей головою и словно в забывчивости теребил усы. Когда я встретилась с ним взглядом, что-то влажное сияло в его добрых глазах. Он улыбнулся мне.
– Прекрасно! – проговорил он. – У девушки, имеющей столько чувства, должна быть глубокая, чуткая душа.
– Ах, нет, – вырвалось у меня прежде, нежели я сама успела сообразить то, что хотела сказать сию минуту. – Я просто передала то, что слышала у Золотой.
– У Золотой? Кто это – Золотая? – снова приподнимая удивленно брови, спросил почетный гость, не обращая внимания на легкий ропот, поднявшийся в классе.
– О, это моя мама! – восторженно вырвалось у меня. – Если бы вы только слышали, как она читает! И видели бы вы ее игру! О! Ничего подобного вы не видели и не могли видеть за всю вашу жизнь! Я уверена в этом.
Ах, я кажется опять перехватила через край! Потому что тотчас же Синяя Маргарита поднялась со своего места и, подойдя ко мне, наклонившись к моему уху, делая вид, что поправляет мне волосы, шепнула:
– Но m-lle, так не говорят с его превосходительством!
Но почетный гость пришел мне на помощь.
– Оставьте девочку, сударыня! Дайте ей высказаться, прошу вас! – произнес он очень любезно по адресу Синей. Потом, обращаясь ко мне, спросил:
– Ваша мать актриса, не правда ли, m-lle? Где же она играет?
– Мама?
Тут уж что-то совсем необычайное стряслось со мною. Я сделала два шага вперед, облокотилась на пустой стул и заговорила. Нет, положительно, никогда еще я не говорила так складно и хорошо. Право, самый великолепный адвокат не сумел бы так блестяще защитить интересы своего клиента! И притом без всякой задней мысли, желая только обрисовать как можно лучше обаятельную личность и талант моей Золотой. Я говорила, говорила без умолку и о том, как бьется у себя в провинции Золотая на бедных маленьких сценах, и как живет одним только желанием очутиться здесь, дебютировать в образцовом театре, с тем, чтобы дать мне, ее дочери, блестящее воспитание в Петербурге, в центре просвещения всей России! Боже мой! Я краснею теперь наедине с самой собою, когда припоминаю, как подробно рассказывала я все пережитое Золотою, всю ее борьбу с нуждой, с лишениями ради ее сиротки – Огонька. Волна, хлынувшая мне в душу, продолжала нести меня как на крыльях.



