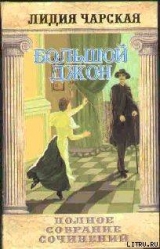
Текст книги "Том 12 Большой Джон"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Я, девочки, вы же знаете, ходить буду. Из города в город, из деревни в деревню. Ах, хорошо!.. Учить ребят не надо по крайней мере – это раз. На балы тоже выезжать не надо и корсет надевать – это два; моя тетка-фрейлина, наверное, меня по балам таскать пожелает. И есть можно тогда, как хочешь, а не в завтрак и обед только – это три… Ясно, как шоколад. Чудная жизнь!..
– А Вороненок с Креолкой великими людьми станут: одна – писательница, поэтесса, другая – художница… Успех и лавры… Дивно! Хорошо!.. – прозвучал восторженно голос Хохлушки.
– А я, – проговорила Елецкая-Лотос, – я, медамочки, совсем из мира уйду…
– Как, в монастырь пострижешься? – раздался недоумевающий голос Малявки.
– О, нет! Я уйду в другой мир, куда есть впуск только избранным духам, – продолжало Елецкая, и русалочьи глаза ее приняли выражение таинственности.
– Ты хочешь умереть, как Рант? Да? Душка… ты обречена смерти? – широко раскрывая черные глаза и замирая от предвкушения чего-то необычайного, проговорила Черкешенка.
– Нет, не то… не то…
Ольга порывисто встала. От этого быстрого движения упали и рассыпались длинные пряди ее волос, слабо закрученные на затылке. Она сбросила себе на грудь их пышные волны, отчего лицо ее, окруженное, точно рамой, живыми струйками черных кудрей, стало еще значительнее и бледнее.
– Я устрою себе комнату, большую, без окон и дверей, темную, темную, как ночь… И все завешу коврами… восточными… – глухо звучал низкий грудной голос Ольги, – а посреди поставлю курильницу на треножнике, как в храме Дианы на картине, которую я видела в журнале «Нива»… И голубоватый дымок будет куриться на треножнике день и ночь, день и ночь… И день и ночь я не буду выходить из моей восточной комнаты… И будут тогда слетать ко мне мои сны голубые, духи светлые и могучие, и Гарун-аль-Рашид, и Черный Принц, и святая Агния, – все будут слетаться…
– Ха-ха-ха! – прервал неожиданно вдохновенную речь девушки веселый смех Лиды. – Ха-ха-ха-ха!
Лотос точно проснулась, грубо разбуженная от сна. С минуту она смотрела на всех, ничего не понимая, потом до боли закусила губы и глухо проговорила:
– Удивительно бестактно! Право же, у тебя нет ничего святого, Воронская…
– Елочка, прости!.. Милая, прости!.. – валясь ничком и колотя ногами о соседнюю постель, сквозь хохот говорила Воронская. – Как же духи-то… духи… через что они пролезут к тебе?… Ха-ха-ха!..
– А в потолке будет дырка, ясно, как шоколад! Неужели же ты этого не понимаешь? – вставила свое слово Додошка.
– Ах, как вы глупы! – произнесла, поднимая глаза к небу, Елецкая. – Но ведь духи бестелесны, они могут пройти даже сквозь иголье ушко… И я не понимаю, чему тут смеяться… – обидчиво заключила она, пожимая плечами.
– Прости, Елочка, но неужели ты еще веришь в Черного Принца и прочую чепуху? – спросила Лида.
– Воронская, молчите, а то я не ручаюсь за себя… Я наговорю вам дерзостей, Воронская… А между тем я так обязана вам… – прошептала Елецкая и закрыла лицо руками.
"Нет, она неисправима", – подумала Лида, и она с сожалением взглянула на подругу.
– Перестаньте спорить, медамочки, – послышался веселый голос Хохлушки, – напоследок мирно жить надо, чтобы в памяти остались хорошие дни, хорошие воспоминания… Ведь разлучимся скоро. Одни на север, другие на юг, или на запад, как сказал Аполлон Бельведерский, разлетимся, точно птицы…
– А ты, Маруся, улетишь в Хохландию свою?
– В Хохландию, девочки! Ах, и хорошо там, милые! Когда бы вы знали только! Солнышко жарко греет, вишневые садочки наливаются, мазанки белые, как невесты, а по вечерам на хуторе парубки гопак пляшут. То-то гарно, гарные мои…
– А что ты там, Маруся, делать будешь? – заинтересовались девочки, и глаза их начинали разгораться понемногу; очевидно, девочки уже мысленно видели перед собою роскошные картины дальнего юга.
– А никому не скажете, девочки, коли выдам вам тайну мою? – и глаза некрасивой, но свежей и ясной, как весеннее утро, девушки зажглись огоньком счастья.
– Не выдадим, Марочка, говори скорее, – зазвенели молодые звонкие голоса.
– Я невеста, девочки… Уж давно моего Гриця невеста… Нас родители с детства сговорили… Хутора наши рядом, так мы ровно брат с сестрой, давно друг друга знаем… Обручены уж с год… А как выйду, так сразу после выпуска и свадьба будет…
– Выпуск!.. Свадьба!.. С год как обручены!.. Господи, как хорошо!..
– А ты любишь своего жениха, Маруся? Марочка, милая, любишь?… Скажи! – допрашивали девочки, с невольным уважением поглядывая на свою совсем взрослую подругу-невесту, какой она им теперь казалась.
– Ах вы, глупые девочки, – засмеялась Мара, – конечно, люблю… Люблю его дорогого, как земля солнышко любит, как цветок полевую росу… Портрет его ношу который год на груди… Его нельзя не любить… Он честный, светлый, хороший…
– Покажи портрет, Мара, покажи! – так и всколыхнулись девочки.
С тою же широкой улыбкой, не сходящей с ее румяных губ, Хохлушка вынула небольшой медальон из-за пазухи, раскрыла его, и перед «группой» предстало изображение симпатичного белокурого юноши в белой вышитой рубах с открытым добродушным лицом.
– Это мой Гриц, – не без некоторой гордости проговорила Мара, пряча свое сокровище снова на груди.
– Масальская, ты изменница! Четыре года подряд ты обожала Чудицкого, а сама невестой была какого-то Гриця! Очень это непорядочно, Масальская, с твоей стороны, – шипела Малявка, злыми глазами впиваясь в Мару.
– Не смей злиться, Малявка! Нехорошо! На сердитых воду возят, – рука Воронской легла на плечо девушки. – Неужели же ты понять не можешь, что все наше обожанье, беготня за учителями – все это шутка, безделье, глупость одна… Заперты мы здесь в четырех стенах, ни света Божьего, ни звука до нас не доходит, ну и понятно, каждый человек "с воли" нам кажется чудом совершенства. Чудицкий прекрасный человек, и я его очень уважаю и за чтение его, и за его гуманность с нами, но это не значит, что я люблю его… Мара Масальская тоже. Не правда ли, Мара?
Та, не говоря ни слова, молча обняла ее.
– Воронская так говорит потому, что у нее тоже есть кто-то. Она любит тоже, – заметила Малявка.
– Ты любишь, Воронская? Любишь? – приставала к сероглазой девочке Рант.
– Люблю, – серьезно и кратко произнесла Лида, и улыбка осветила ее лицо.
– Ага! Вот видишь!.. Видишь!.. Я говорила!.. И какая скрытница!.. Какая "молчанка"!.. От кого таится?! От подруг, от всей "группы"! – хорохорились девочки.
Малявка суетилась и негодовала больше всех.
– Кого же ты любишь, Вороненок? Выкладывай по-товарищески! – снисходительно улыбнулась Креолка.
– Люблю, – проговорила девочка, и насмешливый огонек ее глаз ушел, скрылся куда-то глубоко, – люблю моего папу-солнышко, люблю маму Нелли, люблю сестру Нинушу, братьев, и… и… Симу Эльскую, хоть она и сердится на меня. А больше всех люблю мое солнышко, моего папу. Его люблю больше жизни, больше мира, больше всего! – заключила она пылко и прижала свои худенькие руки к груди. Потом хрустнула длинными пальцами и вдруг рассмеялась счастливо, радостно и задорно, а затем быстро-быстро заговорила:
– Господи!.. Как хорошо!.. Как хорошо жить!.. Любить, быть молодыми, смелыми, полными жизни!.. Так и хочется прыгать, кричать, вопить на весь мир: скоро выпуск! выпуск! свобода!.. Плясать хочется, радоваться! Впереди вся жизнь, целая жизнь! И сколько хорошего можно сделать за всю жизнь, сколько пользы принести окружающим, друзья мои! Вперед же, вперед, туда, навстречу пользе, радости, жизни!..
И, не будучи в силах удержать кипучий поток восторга, Лида сорвалась с постели Креолки, рванулась вперед и, широко взмахнув неуклюжими рукавами своей ночной кофты, из-под которых как-то беспомощно выглядывали тонкие руки, пошла кругом, быстро и мелко семеня ногами, передергивая хрупкими плечиками, играя потемневшими, разгоревшимися глазами и напевая всем знакомый мотив популярной русской песни.
Экстаз Лиды передался другим. Звучное контральто Креолки, тоненькое, надломленное сопрано Рант и фальшивый, но неимоверно громкий бас Додошки – все :подхватили припев, и громкая песня полетела под сводами высокой спальни, разрастаясь и звеня над ней.
Лида теперь уже не приплясывала, а носилась вихрем в танце. Она походила теперь на веселого, бойкого плясуна-мальчишку, живая, быстрая и горячая, как огонь.
– Браво, Вороненок! Молодец! Душка! – слышались ободряющие голоса ее подруг, и эти возгласы, полные восторга и сочувствия, окрыляли плясунью. Ей хотелось сделать что-то необычайное, из ряда вон выходящее, задорное, смелое.

Лида Воронская сидела у рояля.
Разгоревшимися глазами она обвела знакомые, выбеленные известью, дортуарные стены, возбужденные лица своих юных подруг и, быстро вскочив на ближайший ночной столик, завертелась на нем волчком в огневой пляске, неистово выбивая дробь высокими каблучками своих алых, шитых золотом, туфель.
– Будем смелы, как орлы, будем, как рыцари, честны!.. – выкрикнула она звонко и, взмахнув, точно крыльями, полотенцем, которое она накинула на шею, со смехом ринулась вниз, на чью-то ближайшую постель. Потом вновь быстро вскочила на пол и бросилась вперед, вся охваченная тем же молодым задором. Бросилась и… разом замерла на месте с широко раскрытыми глазами.
Перед ней, как из-под земли, выросла небольшая фигурка Симы Эльской.
Шалунья Волька была теперь взволнована, как никогда. Голубые глаза ее сверкали гневом. Обычно розовые щеки были белы, как мел.
Что-то словно толкнуло, словно ударило в самое сердце Лиду. Ей показалось, что сейчас, сию минуту должно случиться нечто ужасное, грозное, неумолимое, как судьба роковая, тем более, что глаза Эльской смотрели на нее с выражением немого укора.
– Ну… ну… – подняв руки и словно защищаясь от незримого удара, предназначенного для нее судьбой, прошептала Лида.
– Вы там, как вас, одержимые и обреченные! Тише! Не беснуйтесь! Слушайте, что я скажу: фрейлейн Фюрст опасно больна… Серьезно… Своим подлым поступком вы уморили ее, – и, махнув рукой, Сима бросилась на свою постель ничком.
* * *
«Фрейлейн Фюрст больна. Своим подлым поступком вы ее уморили»…
Эта фраза раскаленным гвоздем жгла стриженую девочку с не в меру вспыльчивым сердцем и открытой благородной душой.
"Фрейлейн Фюрст больна – вы ее уморили"… – кровавыми буквами стояло перед глазами, неумолкаемым звоном звенело в ушах. И куда бы ни пошла Лида, всюду сопутствовала ей эта мучительная, грозная, как призрак, фраза.
"Вы ее уморили"… "И она умрет" досказывало пылкое и необузданное воображение девочки.
Уроки кончились, к экзаменационным занятиям ввиду предстоящего говения и праздника Пасхи еще не приступали.
"Хоть бы домой на три дня съездить и то хлеб", – тоскливо слоняясь по опустевшим коридорам (весь институт почти разъехался на пасхальные вакации, за исключением старших, которых не отпускали), мечтала Лида.
Но – увы! – это было немыслимо. Шлиссельбург, где служил инженером Алексей Александрович Воронский, в дни весенней распутицы был отрезан от всего мира. Нева едва вскрылась, и куски льда плыли со стремительной быстротою. Об открытии навигации нечего было и думать, а санный или колесный путь был уже невозможен, от тающего снега образовалась на аршин жидкая и липкая, как месиво, грязь.
Из дома прислали пасхальную посылку, поздравление с предстоящим праздником и обещание приехать к девочке, как только установится река. А пока… Это «пока» терзало и томило Лиду, считавшую себя виновницей несчастья, произошедшего с Фюрст.
Впрочем, не одна Воронская томилась от укоров совести. Весь выпускной класс чувствовал себя не легче Лиды.
"Надо было не допускать этого… Надо было не допускать", – звучало в душе каждой из выпускных.
Одна только Сима-Волька ходила с гордо поднятой головой, и ее молчаливое торжество еще более угнетало девочек.
– Медамочки, что за живодерки наши выпускные, – говорили «вторые», издавна ведущие с выпускными войну "Гвельфов и Гибелинов" за первенствующее место. – Одну «синявку» – Ген в чахотку вогнали, до санатория довели, теперь Фюрстшу взяли измором. И все из-за Воронской! Каждое слово ее – закон. Воронская у них командир какой-то! – и «вторые» ехидно улыбались, встречая «первых» и осведомляясь с утонченной язвительностью о здоровье уважаемой фрейлейн Фюрст.
"Первые" нервничали от этого еще больше, и тоскливая дума угрюмой тучей повисла над классом выпускных.
К исповеди, назначенной в страстную пятницу, готовились вяло, в церкви стояли рассеянно, пели на клиросе плохо, о выпуске говорили меньше. Словом, всех угнетала тоска.
Впрочем, Додошку она не угнетала. Додошка, в силу ли непосредственности своей натуры, в силу ли молодости (ей едва минуло шестнадцать лет), не задумывалась подолгу. В ее душе было, по выражению Воронской, все гладко, как стекло.
Додошка любила вкусно покушать, любила детские книжки с хорошим концом, где никто не умирает, любила романы, где фигурировала свадьба, а еще лучше – две сразу или три. Спиритизмом и сеансами Додошка увлекалась потому, что это было модно. А Додошка любила делать то, что делали другие, – иными словами, на языке институток, "собезьянничать с других".
Теперь новая забота, новая мысль забрела в голову Додошки. Девочка слышала признание хохлушки в том, что у нее есть жених, и маленькая «обезьянка» захотела удивить класс точно так же, как и Мара. Чем она, Додошка, хуже Мары и почему у нее не может быть тоже жениха?
Жених! Это так хорошо звучит, так гордо, так веско! У малышей-девчонок не может быть женихов. Они только у взрослых барышень. А стать как можно скорее взрослой барышней – о! – это была тайная и заветная мечта Додошки.
"Вот удивятся-то наши, если им сказать, что я тоже, как и Мара, выхожу замуж, что я невеста, – мечтала Додошка – чудо как хорошо… Но только у меня-то уж жених не будет, точно простой мужик в белой вышитой рубашке. Нет! На нем непременно должен быть блестящий мундир лучшего гвардейского полка, и усы, и шпоры; непременно усы. Безусый жених – мальчик и ничего не стоит… Нет, непременно надо шпоры и усы"…
И Додошка так увлеклась этой идеей, что уже видела себе невестой в белом платье с тюлевой вуалью и веткой флер-д'оранжа в волосах, а рядом – статного высокого красавца с усами a la Тарас Бульба, в блестящем гвардейском мундире.
Вечером, после того как дежурившая m-lle Оттель, пожелав девочкам спокойной ночи, «закатилась» в свою комнату, Додошка дернула за одеяло свою соседку Воронскую и без всяких прелюдий объявила во весь голос:
– А у меня тоже есть жених. И я тоже выхожу замуж…
– Отстань, Додошка!.. Я хочу спать… И что ты врешь? Какой у тебя жених? Может быть, пряничный гусар из фруктовой лавки? – насмешливо отозвалась Лида, которую прервала ее неугомонная соседка на печальных, докучных мыслях о больной Фюрст.
– У Додошки жених! Недурно! – рассмеялась на своей постели Малявка. – Смотри не съешь его, Додик, не проглоти, как ты глотаешь леденцы.
– Не остроумно, совсем даже плоско, – разозлилась Даурская и уже хнычащим голосом добавила:
– Ей-Богу, честное слово, у меня есть жених… Красивый, в мундире, со шпорами, усы в струнку…
– Даурская, не приемли имени Господа Бога твоего всуе. Во время говения грешно божиться и врать, – отозвалась Карская со своей кровати.
– Ну уж ты молчи, священник в юбке, – чуть не плача от злости, огрызнулась Додошка. И тотчас же подхватила, горячась:
– И свинство, собственно говоря, это: раз у Мары есть жених и у меня тоже быть может. И я могу замуж выйти… Ясно, как шоколад…
– Даурская, молчи!.. Ты врешь, и это тоже, как шоколад, ясно… А впрочем, завтра ты покажешь нам карточку твоего жениха, а теперь дай спать… Не до болтовни сегодня… – и креолка положила руку под голову, всеми силами пытаясь заснуть.
Вскоре желанный сон обвеял спальню.
Заснула тревожным сном и Лида Воронская. Заснула и Додошка с мыслью, где достать портрет воображаемого жениха.
Было раннее утро. Солнце врывалось в окна. Институтки, администрация, прислуга крепко спали. Только в полутемном нижнем коридоре, где помещалась квартира начальницы, селюли, перевязочная и лазарет, высокий, атлетического сложения ламповщик Кузьма, или Густав Ваза, по прозвищу институток, заправлял лампы. С грязной тряпкой в руках, в грязном переднике, с всклокоченною со сна шевелюрой он имел вид не то морского пирата, не то бандита.
Густав Ваза усиленно тер лампы суконкой и мурлыкал что-то себе под нос. Он был так увлечен своей работой, что не заметил, как толстенькая девушка в зеленом, кое-как застегнутом платье, с теплым платком, укрывавшем ее с головой, осторожно приблизилась к нему и встала подле.
Кузьма очнулся, только когда девочка тронула его за плечо:
– Густав Ваза, то есть Кузьма… я хотела сказать, не пугайтесь, пожалуйста, я – Додошка… то есть Даурская… вы меня знаете, Кузьма… Я – выпускная…
– Как же, как же, барышня, мы всех выпускных лично знаем, – любезно осклабил свои желтые зубы Кузьма, которому изрядно перепадало на чай от старших воспитанниц, посылавших его в лавочку за мятными лепешками, леденцами и чайной колбасой.
– Ну вот видите… – снова смущенно заговорила Додошка, – ну вот видите… Я рада, что вы знаете меня, Густав Ваза, Кузьма то есть… У меня к вам просьба, Кузьма. Видите ли, я выхожу замуж, то есть нет… не выхожу, а как будто выхожу… Это я подругам так говорю только, подшучиваю над ними… И, чтобы они поверили моим словам, надо им показать портрет моего жениха, то есть не жениха, а как будто жениха, непременно. И надо такой портрет купить в фотографии за пять копеек. Больше у меня нет денег. – увы!.. – только гривенник остался. Вчера я целый рубль проела. Пять себе, Кузьма, за услуги возьмите, а за пять портрет купите… Ну же, хорошо?… Кажется, ясно, как шоколад… Поняли меня?
Додошка от нетерпения уже заметно начале горячиться.
– Только вы мне офицера купите и непременно в шпорах и усах и в военном мундире, – заключила она.
– Офицеров карточки за пятачок не продаются, мамзель Даурская, – уныло произнес Кузьма, покачав своей кудлатой головою.
– Неужели?! Вот жалость-то! – чуть не плача всплеснула руками Додошка. – Как же быть-то теперь, Кузьма?
– Да уж и не знаю, право, – и тут ламповщик, лукаво усмехнувшись, проговорил таинственно: – карточку-то я вам обязательно представлю, мамзель Даурская, в этом не сумлевайтесь… Я вам свою принесу…
– Как свою? – воскликнула Додошка.
– Да вы и не узнаете, мамзель, и никто не узнает, – успокоил ее Кузьма. – Я на карточке молодой. Унтером на ней как раз снимался, в новом с иголочки мундире, во всем аккурате. Шик что ни на есть. Настоящий жених. Увидите сами, барышня, хоть сейчас под венец…
– А что такое унтер, Кузьма? – заинтересовалась Додошка.
– Это, мамзель Даурская, только вот-вот что не офищер, почти что прапорщик, либо фельдфебель… И почет ему от солдат, как старшему, значит. Почти что офицер, стало быть… И красавец я был тогда какой!.. Увидите, барышня, что моя карточка чудно за жениха сойдет… Никто не догадается. Подумают все, что и всамделишный жених. Ей-Богу-с!..
– Ах, как хорошо! Голубчик Кузьма, спасибо, – встрепенулась Додошка. – Давайте же вашу карточку… Поскорее давайте сюда!
– Не извольте сумлеваться, барышня. Ее со мною нет-с, а вы себе спокойно почивать до звонка ложитесь, а я пока портрет-то почищу; он мухами малость засижен; я вам его в ящичек пюпитра классного и положу, – торопливо говорил Кузьма.
– Ах, отлично! – восторгалась Додошка, – вы, Густав Ваза, то есть Кузьма, дивный человек. И вот вам десять копеек на чай, а это вашим детям, – и, живо запустив руку в карман, Додошка извлекла оттуда целую кучку леденцов и высыпала их в черную, шершавую руку ламповщика. – Ух! Гора с плеч! – облегченно вздохнула Додошка и, тотчас же встрепенувшись, опасливо заметила:
– А вы, Кузьма, там, на портрете-то в мундире и с усами? Наверное?
– Уж не извольте беспокоиться, барышня, самом что ни на есть аккурате, а за угощение и милость вашу благодарим покорно, – успокоил ее ламповщик.
– Так в ящик положите, Кузьма, куда леденцы кладете, на то же место… Вся надежда на вас и на карточку с мундиром, – оживленно проговорила Додошка и, шурша тяжелым камлотом платья, опрометью помчалась по лестнице в верхний этаж.
Здесь, не раздеваясь, она бухнулась на постель и до самого звонка сладко проспала.
Наступивший день принес с собой новый ворох впечатлений, будничных и серых, острых и глубоких, отражающихся как в зеркале на юных лицах выпускных.
Но всех значительнее, всех необыденнее было лицо Додошки. Торжествующее выражение не покидало ее.
– Боже! как ты глупо выглядишь сегодня! – не утерпела уязвить свою однокашницу Малявка, когда они обе, после утренней молитвы в столовой, поднялись в класс.
– Пантарова, вы оскорбляете меня и за это должны перед исповедью попросить прощения, – невозмутимым тоном проговорила Додошка и затем, торжествующими глазами обведя весь класс, положила руку на крышку своего тируара и произнесла с тем же взором триумфаторши, сияющим и счастливым:
– Сейчас я покажу вам моего жениха…
– Mesdames, идите смотреть Додошкиного жениха! – зазвенел голосок Рант, и девочки кинулись со всех ног к пюпитру Даурской.
Последняя, ради торжественности момента, выдержала подобающую моменту паузу и, зажмурившись предварительно, широким жестом откинула крышку тируара.
– Ай! – пронзительно в тот же миг взвизгнула Малявка и невольно попятилась назад.
– Вот так страшилище! Откуда ты выкопала такого? – вырвалось у Креолки.
– Да ведь это солдат! Простой солдат! – заливалась смехом маленькая Макарова.
Додошку даже в пот бросило от этого смеха. Она открыла глаза, взглянула и сама отскочила от портрета, обеими руками отмахиваясь от него.
На грязной, выцветшей от времени фотографии стоял фертом, одной рукой подпершись, неуклюжий солдат в уланском мундире с вытаращенными глазами, с огромными усищами, придававшими ему свирепый вид. К довершению всего по всему лицу доблестного унтера шли черные крапинки, происхождение которых раньше всех поняла Додошка: ламповщик Кузьма не солгал – его изображение было изрядно засижено мухами.
– Стойте, mesdames!.. Он мне напоминает кого-то… – Валя Берг, брезгливо схватила злополучную карточку двумя пальчиками, стараясь припомнить, где она видела это победоносное лицо.
Зина Бухарина заглянула через плечо Вали и так и прыснула со смеху:
– Да ведь это ламповщик Кузьма!.. Его усы, его лицо… Только в мундире солдата… Неужели, Додошка, ты выходишь за ламповщика Кузьму?
– Ни за кого я не выхожу!.. Убирайтесь!.. А Кузьма дрянной обманщик… Обещал интересную карточку офицерскую, он… он… негодяй!.. А я-то… я-то… ему и леденцов, и гривенник!.. Гадость, мерзость так обманывать людей!.. И отстаньте вы все от меня, пожалуйста!.. Не понимаете разве, что мне над вами подшутить хотелось… и… и… – тут Додошка, охваченная порывом злости, вырвала из рук Вали злосчастный портрет и разорвала его на мелкие кусочки.
Ее оставили в покое, снизойдя к ее угнетенному состоянию, но все же вплоть до самого выпуска кличка «ламповщицы» так и осталась за ней.
Уныло, по-"постному", звучал колокольчик, призывающий в церковь.
– "Первые", исповедываться! Батюшка ждет! – заглянув в класс выпускных, просюсюкала старая, кривая на один бок, всем и всеми всегда недовольная инспектриса.
– M-lle Ефросьева, простите нас, – послышался голос из толпы девочек и тотчас же зазвенели вслед за ним хором другие голоса:
– Да! Да! Простите нас! Мы все виноваты перед вами!
– Ах, ты, Господи! Я-то ее иначе как кочергой никогда и не называла… – шепнула старшая из сестричек Пантаровых своей соседке Дебицкой.
– Господь Отец наш Небесный и я прощаем вас, и впредь старайтесь быть благонравны, – просюсюкала, размягченная общим смирением, инспектриса.
Спешно выстроившись в пары, девочки стали подниматься по «церковной» (она же и парадная) лестнице в третий этаж.
Двери небольшого институтского храма были раскрыты настежь. Суровые лица святых угодников глядели с иконостаса прямо навстречу чинно входившим в церковь исповедницам. Милостиво и кротко сияли глаза Божией Матери среди полутьмы, царившей в храме. А на правом клиросе стояли темные ширмы, и кто-то невидимый, великий, милостивый и страшный в одно и то же время присутствовал там.
Лида Воронская прошла к своему обычному месту на левом клиросе, в свой «уголок», где находилась северная дверь алтаря с изображением святителя Николая. Лида открыла молитвослов и опустилась на колени, в ожидании своей очереди идти на исповедь. Но молиться она не могла. Не было в душе девочки того обычного спокойствия и мира, который посещал ее в подобные светлые и торжественные минуты в прошлые года.
Совесть, этот неумолимый ночной сторож с его доскою, бросающий прямо в сердце удары своего молотка, не отступал от нее ни на минуту.
"Как можешь ты предстать пред Иисусом Невидимым, когда нет прощения и мира в душе твоей?" – выстукивали эти невидимые молотки в сердце Лиды.
"Нет прощения и мира,… – как эхо повторяла испуганно и горько душа Воронской, – нет мира, потому что я не испросила прощения, не примирилась с тою, которой причинила зло… Да, да, не примирилась с Фюрст, и нет поэтому покоя и радости в душе моей… Но как же сделать это? Теперь, когда обиженная немка находится вне института, как сделать это?" – тоскуя и волнуясь, пытливо спрашивала свое внутреннее «я» бедная девочка.
С бьющимся сердцем, со смятенной душой Лида подняла глаза на образ угодника Божия, умоляя об ответе на свой мучительный и скорбный вопрос. Строгие очи Чудотворца, казалось, глядели ей прямо в душу. Суровые губы точно были сжаты с укором. Весь лик святителя словно предостерегал от греха.
Лида молила страстно и напряженно:
– Господи, помоги!.. Отче Никола, помоги!.. Испроси мне прощение у Бога! Я грешница великая!.. Прости!.. Прости!.. Прости меня!.. – и она замерла на минуту.
Вдруг она поняла.
"Знаю, что делать, знаю… Надо осознать свою низость, свою вину… Надо раскаяться просто и чистосердечно… И я раскаюсь… Я сознаюсь… Надо пойти только туда, где она жила, мучилась и страдала… Надо пойти в ее комнату, встать на колени и с земным поклоном сказать в этой пустой комнате: "Фрейлейн Фюрст, голубушка, родная, мы виноваты… я виновата больше всех… Я злая, ничтожная, гадкая, но простите меня, ради Бога, простите меня, я каюсь, сожалею, я так страдаю".
Мысли в голове Лиды мчались быстро, горячо. Лида поднялась с колен, оглянулась затуманенным взором вокруг.
Слава Богу! Еще есть время. За ширмочки исповедальни только что прошла Арбузина, вторая по алфавиту. До «В» – до нее, Воронской, еще далеко. "Успею… – мысленно говорила себе девочка. – Лишь бы только комната, «ее» комната, была открыта, только бы открыта была!.. Если открыта комната фрейлейн Фюрст, значит, мой поступок угоден Богу, если комната на ключе, то… то…"
Она выскользнула из церкви, промелькнула быстрой тенью в коридор, а через минуту уже стояла у порога комнаты фрейлейн Фюрст. Лида робко коснулась дверной ручки. Сердце замерло на миг в груди. И почти тотчас же тихий ликующий возглас сорвался с трепещущих губ:
– Слава Богу! Дверь открыта!
С тем же трепетом девочка вошла в комнату, маленькую, чистенькую, с убогой мебелью и дешевенькой драпировкой, отделяющей одну половину крошечного помещения от другой.
Чувство стыда обожгло душу Лиды. Щеки девочки залило румянцем.
– Бедная она, жалкая… И комнатка бедная, жалкая, и шпионка, то есть Фюрст, такая же… А мы то… а я то!.. Господи! Господи! Прости меня, – невольно вслух прошептали ее губы.
Внезапно глаза девочки остановились на круглом портрете, висевшем на стене и изображавшем молодую девушку, некрасивую, худенькую, с гладко зачесанными, «зализанными», по общепринятому у институток выражению, волосами, в скромном черном платьице и ослепительно белом воротничке.
"Это она… фрейлейн Фюрст в молодости", – догадалась Лида, и она неожиданно для самой себя опустилась на колени перед портретом и отвесила ему земной поклон:
– Фрейлейн, милая, дорогая, простите меня!..
Тут слезы брызнули из глаз Воронской и глухое судорожное рыдание огласило маленькую комнатку.
Вдруг легкое, как сон, прикосновение вернуло Лиду к действительности. Перед ней стоял прелестный белокурый мальчик лет восьми, с длинными локонами, вьющимися по плечам. Голубые, чистые, но серьезные, пытливые, как у взрослого, глаза, ангельское личико, бедный, но чистенький и тщательно заплатанный костюмчик, ветхие, порыжевшие от времени сапожки – все это невольно располагало в пользу мальчика.
Появление его было столь непонятно и неожиданно для Лиды, что в первую минуту она не могла произнести ни слова.
А мальчик стоял, спокойный и серьезный, как настоящий маленький философ. Видя, что большая девочка смотрит на него как на чудо, удивленно моргая, мальчик придвинулся к ней поближе и смело взглянул на неожиданную гостью.
– Я Карлуша, – проговорил он тоном взрослого. – Я маленький Карлуша, – повторил он, – и пришел вместе с мамой за вещами тети Минхен. Мама пошла к тете, которую называют госпожой начальницей, а меня проводили сюда… Мама что-то долго разговаривает с чужой тетей… Я устал ее ждать и прилег на кровать тети Минхен… и заснул, а ты пришла, стала плакать и разбудила меня. Зачем ты плачешь, такая большая девочка? Нехорошо плакать. Слезами ведь все равно горю не поможешь… Разве кто-нибудь обидел тебя?… Но если и обидел, то все равно плакать не стоит…
– А ты никогда не плачешь, Карлуша? – утерев наскоро слезы и положив руку на головку маленького философа с голубыми глазами, спросила Лида.
– О, нет! И я плачу, но только очень редко. Вот когда тетя Минхен пришла к нам и заболела, тогда я горько плакал. Теперь ей лучше, тете Минхен… А было очень плохо. Ее обидели, тетю Минхен, обидели злые, нехорошие девочки. Тетю Минхен обидели, золотую мою тетечку, добренькую мою… Тетя Мина всю жизнь на нас работает, на маму и на Каролиночку, на Фрица больного, на Марихен и на меня. Мама ведь все больна и служить не может… А мой папа давно умер. Мы очень бедные… И живем только на тетечкины деньги. Что тетя Минхен заработает, то нам и отдает. А теперь она места лишилась из-за них, нехороших девочек… И заболела опасно… Бедная тетя Минхен, милая!.. Мама говорит, что теперь она поправится, может быть, скоро… А было плохо. Каролиночка даже ночью за доктором бегала… И все из-за злых девочек. Они выгнали тетечку. Мамочка тоже больная, и Фриц, и все мы теперь голодные сидим. Уже две недели не варили обеда, только кофе да хлеб… Но это все ничего… А вот что тете Минхен было плохо – это хуже всего… Уж скорее бы поправилась она… Как ты думаешь, девочка, скоро поправится тетя Минхен?








