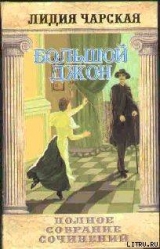
Текст книги "Том 12 Большой Джон"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
– А если казна, значит портить казенное имущество ты не смеешь. Поняла?… А если еще и руки себе уродовать будешь, я не только в "долину вздохов" не приду, а пожалуюсь на тебя вашей классной даме m-lle Фон или прямо кочерге… то есть я хотела сказать инспектрисе, – поправилась в своей антипедагогической ошибке Сима.
– Не буду, mademoiselle дуся… Только не сердитесь, – сконфуженно бормотала малютка и наскоро «прикладывалась» к своему кумиру, то есть попросту чмокала розовую щеку Эльской и ее плечо.
– Mesdames, смотрите, Гулливер со своими лилипутами снова шагает по коридору, – язвила Малявка, просовывая свою лисью головку в их класс и указывая на Симу другим выпускным.
– И буду шагать, и буду! – приходила в неистовство Волька, – не с вами же мне быть после вашей гадости со "шпионкой"!.. Мои лилипуты лучше, чище, добрее… С ними легче дышится… С ними снова чувствуешь себя детски незлобивой и простой. А вы все трусливые исполнительницы воли вашего командира – Воронской…
Сима поворачивала назад и, окруженная целой толпой своих маленьких поклонниц, исчезала.
А время не шло, а бежало все вперед, все вперед. Дольше открывались форточки в классе, ярче играли солнечные лучи на треножниках с аспидными досками. Небо синело все ярче, все томнее, и сорок юных душ готовились выпорхнуть из серых стен крепкой тюрьмы…
Утро. Небо синеет, жгуче-красивое, яркое, веселое, молодое. Пахнет весной, ароматной и свежей, как дыхание ландыша.
В длинных коридорах и классах веет не весной, а тем своеобразным запахом жареной корюшки с картошкой и луком, которую особенно любит давать институтский эконом на последней неделе Великого поста.
Последняя неделя. Последние уроки. И не уроки даже, а скорее репетиции слабым ученицам, исправление дурных отметок, полученных в году. Затем прощальные, напутственные речи учителей и усердная подготовка к выпускным экзаменам и в конце концов, достижение того светлого «финала», о котором мечтает чуть ли не с самого первого дня своего поступления каждая "седьмушка".
Утро. Около большого створчатого окна первого класса собралась группа девочек.
Тут высокая, полная, не по годам развитая Бухарина, красавица-Черкешенка, зеленоокая Лотос-Елецкая, бледнушка Рант с ее чахоточным румянцем и бойкими, шаловливыми, несмотря на недуг, глазами, живая румяная хохлушка Масальская и Додошка, что-то усиленно жующая по своему обыкновению.
Форточка в классе открыта, но Черкешенке жарко; она сбросила пелеринку. Черные кудрявые пряди выбились из прически девочки, упали на ее белый лоб. Глаза ее стали такие прекрасные и большие, точно обновились с началом весны.
– Медамочки, милые, – звенит нежный голосок девочки, – ведь день-то какой сегодня!.. Подумайте, последний день уроков! А там зацветут липы, запестреют цветы, и мы, как сказочные девы, нарушив злые чары злой колдуньи, выйдем из этих зачарованных палат…
– Ну пошла-поехала!.. И девы, и чары, и палаты!.. Хочешь леденец? – великодушно предложила Додошка.
– Какая вы, Даурская, проза. Ничего-то, ничего в вас нет возвышенного, право, – обиделась Гордская.
– Да полно вам спорить, душки. Глядите, солнышко-то как играет! А в Малороссии у нас теперь совсем теплынь. Не то, что у вас. У вас здесь гадость в сравнении с родной моей Хохландией. Люблю ее…
И, вскочив на стул, хохлушка Масальская продекламировала с пафосом:
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В зеленых рощах тонут хутора…
– Зинзерин идет! – шумно распахивая дверь класса, прокричала Воронская.
– Зинзерин! Батюшки! Поправочных спрашивать будет и меня, значит! Господи помилуй, я Пифагоровой теоремы – ни в зуб толкнуть, а у меня шестерка… Поправлять меня, как Бог свят, захочет! – чуть не плача, металась Додошка.
– Глупенькая, тебе же лучше будет. Спросит, ответишь кое-как, семерку получишь, и то хлеб. На экзамене тоже «семь» и в аттестате "удовлетворительно", – убеждала степенная Старжевская не на шутку перепуганную Додошку.
– Ах, да пойми ты, Стриж, не могу я отвечать сегодня. Все равно навру. Я ни одной теоремы – ни в зуб. А тут еще весна катит, дворники улицы скребут, выпуск через два месяца… Хоть убейте меня – ничего не отвечу… Ясно, как шоколад.
– В таком случае беги в лазарет. Скажи Медниковой, что желудок расстроен, – подала совет Рант.
– Ну, уж только не туда, а то я как-то раз от физиканта сбежала, а Вера Васильевна напоила меня касторовым маслом с мятой… Слуга покорный!.. – запротестовала Додошка.
– Тогда полезай в шкап. Мы тебя запрем, а скажем, что ты в лазарете, – великодушничала на этот раз Малявка.
– Мерси боку! Кушайте сами! Там я вчера, когда платки вынимала, видела огромного таракана… И душно как там, медамочки!.. Нет, не могу, – отказалась наотрез Додошка…
– Тогда оставайся на поправочной, – зашумели вокруг нее другие.
– Не могу… Ей-Богу же, не могу, душки, – закрестилась Додошка, бегая растерянным взглядом по классу.
Вдруг она сказала:
– Спасена! Наконец-то придумала… Спасена!.. Помогите мне только влезть в «сферу», медамочки, а там и дело в шляпе.
– В «сферу»? Отлично придумано… Додошка просидит весь урок в «сфере». Ни Зинзерину, ни «синявке» в голову не придет искать ее там…
И девочки, подхватив под руки злополучную Даурскую, успевшую засунуть себе в рот мимоходом леденец, повлекли ее к огромному глобусу, стоявшему посреди класса и называемому "сферою".
Чьи-то услужливые руки отстегнули крючок, скрепляющий две половинки «сферы» в одно целое, другие руки помогли Додошке пролезть в образовавшуюся щель. Затем «сферу» захлопнули, закрыли на крючок, соединив обе половины. И с веселым жужжанием девочки бросились садиться на свои места.
Все было сделано как раз вовремя, за минуту до появления математика.
Когда он вошел, торжественно предшествуемый Медниковой, дежурившей в этот день, «первые» чинно стояли уже вдоль своих скамеек и степенным реверансом приветствовали учителя.
Молодой еще, "непростительно белокурый", как о нем отзывались ученицы, – высокий и потирающий то и дело руки, с немного длинным, но правильным «греческим» носом и красивой белокурой бородой, математик Юлий Юльевич Зинзерин был обожаем чуть ли не доброю половиною класса. Его прозвали Аполлоном Бельведерским, ему посвящали стихи, закладывали в скучный учебник геометрии и начальной алгебры розовые закладки и засохшие цветы, оставшиеся с каникул, чуть ли не дрались из-за чести приготовить ему кусок мела, обернутый нежнейшего цвета пропускной бумагой, с неизбежным цветным бантом из шелковых лент.
Monsieur Зинзерин от природы был очень застенчив; знаки необычайного внимания скорее досаждали, нежели радовали его.
И сейчас он уже сгорал от смущения перед своим последним уроком, на котором ему надо было обязательно сказать выпускным на прощание какую-нибудь речь. Несчастный мученик в вицмундире уже представлял себе, как сорок пар глаз будут ждать от него пышных фраз и чувствительных слов перед долгой, по всей вероятности, вечной, разлукой. И заранее несчастный оратор краснел как пион и обливался потом при одной мысли о предстоявшем ему мучении.
– Девицы… то есть… да… Я хотел сказать, девицы… – начал он, путаясь и заикаясь, – познания многих из вас далеко не отвечают требованиям или… вернее… должны быть много… много… лучше, то есть я хотел сказать, отметки многих перед годовым окончательным выводом неудовлетворительны, а посему я думаю… то есть я желаю… я смею надеяться, что многие из вас пожелают поправить свой балл на лучший, в чем я охотно готов оказать им посильное содействие… И я поэтому позволю себе вызвать госпожу Даурскую, Эльскую, Берг и Воронскую как самых слабых по моему предмету учениц.
– Даурской нет… Она больна, она в лазарете… – раздался дружный хор из тридцати девяти голосов, в то время как тридцать девять же пар глаз невольно скосились в сторону огромной «сферы», откуда слышался подозрительный шорох.
– Очень жаль госпожу Даурскую. Ей придется, стало быть, остаться до экзамена при неудовлетворительной отметке, – произнес математик и пометил против фамилии Додошки в журнальной клеточке миниатюрное шесть.
Потом он повернул в сторону выстроившихся у доски воспитанниц свою классическую голову с греческим носом и красивой белокурой бородой и вежливо предложил Воронской доказать равенство прямых углов.
Вопрос, предложенный Лиде, принадлежал к числу простых, пройденных девочками еще в четвертом классе, но Лида никак не могла найти сегодня сходство между линией ABC и ЕСВ, потому что солнце сияло слишком ярко, а небо синело уж чересчур красиво, и белокурая борода и такие же волосы Аполлона Бельведерского казались вылитыми из золота и бронзы в этот светлый, яркий утренний час.
Эти золотые волосы овладели, казалось, вниманием стриженой девочки, и она уже подыскивала строфы, посвященные им:
Золотое руно на твоей голове,
В нем играют златые лучи…
Линии ABC и ЕСВ уже окончательно переставали существовать для нее, как неожиданно позади вызванных воспитанниц кто-то чихнул сильно и громко.
Зинзерин, Медникова и весь класс замерли от неожиданности. Чихал кто-то невидимый, находившийся в стороне и от вызванных воспитанниц, и от всего класса.
Словом, чихала Додошка в "сфере".
Девочки испуганно переглянулись.
"Что-то будет?! Что-то будет?!" – мысленно пронеслось в душе каждой, и все глаза с тревожным ожиданием впились в Аполлона. Но тот, казалось, не обратил внимания на это обстоятельство и продолжал спрашивать «поправочных», усиленно, по своему обыкновению, потирая руки.
Ему кое-как посчастливилось стряхнуть рассеянность Лиды, помочь ей выпутаться с уравнением углов, и, способной ко всякой науке, кроме математической, девочке удалось довести свою несложную задачу до конца.
Берг тоже довольно бойко проделала уравнение на доске, а Эльская, при усиленной помощи Зинзерина, решила на другой доске несложную геометрическую задачу.
Ответивших отпустили на место. Волнение среди «поправочных» кое-как улеглось, но зато оно вспыхнуло в душе самого математика.
Время говорить речь приближалось, а несчастный Аполлон Бельведерский все не мог приступить к ее началу. По классу прошел легкий гул, чуть уловимый, как шелест утреннего ветерка.
Это чуть слышно сморкались и откашливались девочки перед началом столь ожидаемой речи.
И вот Зинзерин начал. Он схватил с кафедры линейку, безжалостно стиснул ее обеими руками и, обливаясь чуть ли не десятым потом, обвел тоскующим взглядом класс. Обвел и… остановил глаза свои на «сфере». Внезапная мысль, очевидно, осенила его голову, и он очутился у огромного глобуса.
– Девицы… – робко прозвучал его голос. – Вот перед вами изображение земного шара, т. е. мира… Вы видите этот мир, этот огромный мир с его планетами, с его Вселенной… По этому миру рассыплетесь вы… – тут он поднял линейку и слегка ударил ею по верхней оболочке "сферы".
– Апчхи!.. – четко и ясно послышалось изнутри и почти тотчас же повторилось еще более явственным, громким звуком, еще… еще…
– Апчхи!.. Апчхи!.. Апчхи!..
Класс не выдержал на этот раз и дружно фыркнул.
Зинзерин с минуту мялся на месте, подозревая какую-то злую шутку.
Но речь надо было окончить во что бы то ни стало, и все усилия математика сводились теперь к окончанию этой речи.
– И вы рассеетесь по свету, – с легким дрожанием в голосе продолжал он, – и понесете всюду с собою тот светоч знания, который затеплили здесь, в этих стенах, ваш ум, ваши сердца, ваши души… И где бы вы ни находились – на севере ли, на юге или…
Тут черная линейка в руке Аполлона энергично ткнулась в то место «сферы», где обозначался север. Но при этом злополучная палочка наскочила на не менее злополучный крючок, единственную задвижку «сферы». Крючок отскочил, «сфера» раскрылась, как бы раскололась на две равные части, и Додошка, как ядро из пушки, с шумом вылетела из нее. Вылетела и растянулась на полу у самых ног Аполлона.
И что это была за Додошка!..
Классная девушка, прислуга, очевидно, давно не вытирала пыль внутри «сферы», и она толстым слоем облепила девочку. В первую минуту не было видно ни зеленого платья Додошки, ни ее черной головки, блестящей как вакса, ни ослепительно белого передника и пелерины. Все было сплошь покрыто отвратительным густым серым налетом пыли, облако которой закружилось по всему классу, как кружатся в летний вечер над болотом тучи комаров.
– Апчхи!.. Апчхи!.. Апчхи!.. – слышалось то здесь, то там неумолкаемое чихание девочек от немилосердно залезавшей в рот и в нос пыли.
– Ха-ха-ха!.. – вторил ему хохот девочек.
Сама Додошка чихала без передышки. Чихая, поднялась она с полу, чихая, отвесила реверанс оторопевшему учителю, который из опасения расчихаться от целого потока пыли, струившегося прямо в его греческий нос, усиленно покачивал справа налево классической головой греческого бога.
Наконец пыль поулеглась немного, кто-то догадался закрыть «сферу», и Аполлон Бельведерский обрел возможность снова говорить.
– Госпожа Даурская, то есть… вот именно… нехорошо-с… Мне сказали, что вы в лазарете… а вы… то есть, почему же вы это туда-с?… Благоволите объясниться… если возможно, – обратился он к злополучной Додошке, красноречивым жестом указывая на "сферу".
Та стояла истуканом и оторопело моргала длинными ресницами.
"Благоволить объяснить" было однако необходимо, и она уже открыла рот, но, увы!.. – могла только промычать нечто малопонятное как для учителя, так и для всего класса, потому что, по обыкновению, рот Додошки был занят всем запасом леденцов.
– Садитесь, Бог с вами, госпожа Даурская… Надеюсь, на экзамене вы постараетесь загладить свою вину передо мною, – нашел в себе силы улыбнуться учитель. – А теперь, девицы, я хочу вам сказать на прощанье, что, разлетевшись по всему свету, подобно стае вольных пташек, вы унесете с собою тот священный огонь познаний, который зажгли в вас в этих благотворных стенах… и… и… апчхи!.. – неожиданно чихнул математик и, бросив взгляд отчаяния сначала на злополучную «сферу», потом на не менее злополучную Додошку, стремительно поклонился, приложил к носу платок и быстрее молнии исчез за дверью.

Глава 5

Еще прощанье. – Рыжебородый Тор. – Тайна Моры Масальской. – Под покровом апрельской ночи. – Вестник горя. – Драма начинается. – Жених
Прозвенел звонок. Классная девушка с грохотом захлопнула форточку. Почти одновременно с шумно вбежавшею из коридора толпою воспитанниц вошел нервной, развинченной походкой человек в виц-мундире, с огненно-рыжей растительностью на голове, с очками на носу, историк Стурло, или «Рыжебородый Тор» по прозвищу неумолимых институток.
Гроза лентяек и долбежек одновременно, Николай Петрович Стурло требовал сознательного и честного отношения к своему предмету, который он любил всей душой.
– Задалбливанием и зубрежкой вы меня не надуете, – говорил он часто самым лучшим ученицам класса, – вы мне выводы-с подавай-те-с… Причину и следствие того-с или другого-с факта… Чтобы я знал, что у вас в голове мозги-с, а не труха-с сенная…
Он был нервен, зол, взыскателен, но справедлив, и хотя его боялись, но любили почти все его многочисленные ученицы.
Сегодня, на последнем уроке Стурло, все сидели как на иголках. "Скажет или не скажет прощальную речь?" – мелькало в каждой юной головке.
Обожательница Стурло – Малявка – приготовила своему кумиру мелок в великолепном наряде из тюлевой бумаги с ослепительно розовым бантом из атласных лент. Мелок в виде кукольной балерины лежал на самом видном месте у чернильницы.
Когда Стурло понадобилось написать программу по хронологии, он схватил мелок, подошел к доске и тотчас же, брезгливо гримасничая, отшвырнул от себя нарядную "штучку".
– Черт знает, что такое!.. Писать нельзя!.. Дайте мне что-либо попроще, девицы, – морщась, бормотал он, в то время как багровая от смущения Малявка делала над собой самые страшные усилия, чтобы не расплакаться навзрыд от обиды.
Но Стурло было не до обиженной девочки. Сорвав всякие украшения с мелка, он схватил его своими нервными пальцами, облоснил немного о край доски и быстро стал писать программу.
"Не будет речи… – разочарованно вздыхали девочки, – речи не будет… Вот вам и историк!.. Вот вам и "Рыжебородый Тор"!.."
Но на этот раз они ошиблись. За пять минут до звонка Стурло дописал последнюю строчку и, живо обернувшись к классу, без всякой подготовки, ясно и просто начал свою речь:
– Ну, вот и конец. Через два месяца вы уйдете отсюда, разлетитесь вправо и влево и понесете с собою тот, надо признаться, довольно скудный багаж познаний, который вам удалось «нахватать» здесь. Груз, как вы сами понимаете, невелик, и не знаю, как справятся с ним те, которым придется учить ребят. В крайнем случае пусть обратятся ко мне. Я укажу источники, которые помогут сориентироваться хоть немного будущим преподавательницам, гувернанткам. Чего же вам пожелать на прощанье?. Выходите-ка вы поскорее все замуж… Мужу щи сготовить да носки починить – дело не мудреное, и справитесь вы с ним отлично. А пока до свидания. Мое дело окончено. На экзамене встретимся и предупреждаю: лют буду, коли хронологии знать не будете… А теперь счастливо вам оставаться…
И так же стремительно, как и появился, Стурло вышел из класса.
– Грубый материалист!.. Щи варить! Носки штопать!.. И я его любила!.. Я его лю-би-лаа-аа!.. – рыдала навзрыд на плече сестры Кати Пантаровой разогорченная Малявка.
– Милая… такое разочарование!.. Кумир, божество, и вдруг… щи, носки!.. Бррр!.. – Макарова сочувственно поцеловала разгорченную девочку.
– Что же, по-твоему, лучше, чтобы твой муж без носков ходил? – послышался насмешливый голосок Лиды Воронской с последней парты.
– Воронская, вы проза. Вы серые будни. Вы "само обыкновение"… – забывая свои слезы и горе, вспыхнула Малявка. – Гадость какая – про носки говорить!
– Неправда, Пантарова… Лида не проза, она – поэтесса. Это вы все из зависти напускаетесь на Лиду, – вступилась за свою любимицу обычно кроткая Черкешенка и, заливаясь ярким, счастливым румянцем, с нервной поспешностью провела по волосам.
– Чудицкий идет! – послышался вслед затем ее сдержанный шепот.
– Владимир Михайлович идет, – подтвердила Медникова.
Едва успели девочки занять свои места, как в класс вошел "предмет и пассия" чуть ли не целого института, учитель русской словесности Владимир Михайлович Чудицкий.
Про Чудицкого Зина Бухарина, – прекрасно рисовавшая, говорила:
– Одеть бы его, душку, в боярский кафтан и соболью шапку, вот-то был бы красавец!..
И действительно, высокая, статная фигура «словесника», его чисто русское, красивое, дышащее свежестью лицо, его вьющиеся волосы, его изящная походка и деликатные жесты, наконец приятный голос, невольно привлекали к себе. Но не одной внешностью и голосом пленял Чудицкий юные сердца. Он сумел чуткой натурой глубокого психолога и разгадчика детских душ понять своих юных учениц. Сам еще не успевший в силу своей молодости познакомиться с преподавательской чиновной рутиной, он относился к своей аудитории иначе, нежели другие учителя. С воспитанницами, с первого же года своего поступления в четвертый класс, он держался как равный. Он видел в них взрослых девушек, каждую с ее индивидуальностью, с ее характерной чертою, и умел, не затрагивая самолюбия ребенка-девушки, руководить ими. К тому же он обладал редким качеством, столь ценным в преподавателе: он умел читать с захватывающим интересом. Его декламация – образная, артистически-яркая – захватывала юных слушательниц. И класс чтения прозы и стихов считался самым интересным на сером фоне будничной институтской жизни.
В свой последний урок Чудицкий обещал принести лермонтовскую поэму «Демон» и прочесть ее классу.
Немудрено, что его появление было встречено с бурным восторгом.
– В последний раз мы видим вас, в последний раз!.. Прощайте, Владимир Михайлович! – произнесла Дебицкая, и карие, блестящие глазки девочки сверкнули слезами.
– Еще на экзамене увидимся, – поправил учитель.
– Ах, это не то! – кокетливо поводя глазами, проговорила Бухарина, незаметно поправляя локончик на своей кудрявой голове.
– Да, да! не то, не то! – подхватила Мора Масальская, самая ярая из обожательниц "словесника".
– Прощайте теперь, Владимир Михайлович, милый Владимир Михаилович! – неожиданно выкрикнула восторженная хохлушка и тут же от черезмерного смущения юркнула под доску своего тируара с головой.
Чудицкий сдержанно улыбнулся. Потом привстал на кафедре, своими белыми, холеными руками оперся о ее края и начал:
– Я не хочу вам говорить «прощайте», mesdames, я хочу вам сказать "до свидания", ибо, как говорится, гора с горой не сходится, человек с человеком всегда встретиться может. Авось и я, ваш ворчун-учитель, когда-нибудь с вами встречусь. Во всяком случае, прошу не поминать лихом, если кого обидел ненароком. Это было невольно. И на прощанье смею напомнить вам: продолжайте развивать свой ум хорошим чтением. Не забывайте Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Толстого, Гончарова, Тургенева. Помните наших несравненных классиков, следите за новейшими течениями литературы и поэзии, анализируйте, проводите параллель с прежними классическими творениями, сравнивайте – это развивает. А теперь, напоследок, хочу еще раз прочесть вам нашего бессмертного любимца с тем, чтобы запечатлеть высокой памятью о гении Лермонтова наш последний урок.
Чудицкий раскрыл изящно переплетенный томик лермонтовских поэм. Послышалось сдержанное покашливание, чуть слышное всхлипывание на «Камчатке», то есть на последней скамейке, и все умолкло разом. Точно сказочный весенний сон овеял класс и зачаровал юные сердца. Встали мрачные твердыни горных великанов… Повеял дымок из ущелий… Аулы закипели жизнью… Черноокие кавказские девы шли с кувшинами за водой к горным родникам… Голос чтеца передавал эти чудные лермонтовские картины, все замирали от восторга, и только когда явилась Тамара с черными до пят косами, все глаза обратились к Елене Гордской.
– Совсем Черкешенка!.. Совсем она!.. – слышались восторженные голоса.
И красавица Черкешенка рдела, как роза.
Но вот полились кипучим потоком страшные, как смерть, и прекрасные, как юность, клятвы:
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем…
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством…
Бурный вздох вырвался из чьей-то груди. Все невольно обернулись.
На последней скамейке стояла во весь рост Рант с пылающими щеками, со взором мечтательным и счастливым, простирая руки вперед к окну, куда золотым потоком врывалось золотое солнце, и говорила в экстазе:
– Да, да, я скоро умру… Но я хочу теперь умереть… Да, да, хочу!.. Сейчас, сегодня!.. Потому что они все, – она обвела глазами класс, – и вы, Владимир Михайлович, и эти божественные стихи, и гений Лермонтова, и утро нашей весны, такое светлое, и все это не повторится никогда… никогда… никогда…
Целый день выпускные ходили как зачарованные. Не хотелось говорить ни о чем пустом и сером. Чарующая музыка лермонтовского стиха еще звенела в воздухе, как незримые струны Эоловой арфы.
Лида Воронская не отходила от доски, на которую лились целым каскадом новые стихи, слагались целые поэмы.
Это настроение, эти чары молодости, весны и красоты не рассеялись и когда маленький, черноволосый Розенверг, преподаватель физики, прозванный почему-то «протоплазмой», вошел в класс.
– Речь, господин Розенверг, речь! – послышались голоса.
– Еще что выдумали!.. Уж молчите лучше, а то вдруг на «актовом» единиц насею, что твоей пшеницы, – рассердился строптивый учитель. – Что я вам за оратор выискался!.. Небось госпожа Рант причины грозы не знает и элемента Бунзена от Грове не отличит. Отличная девица! Пожалуйте на поправку. А то в среднем шестерку выведу… Срам!.
– Мне Бунзена и Грове отличать не надо, господин Розенверг. Я умру, да, я умру, я хочу умереть молодою, – мечтательно произнесла Мила Рант, не успевшая остыть от лирического настроя, навеянного недавним чтением лермонтовских стихов.
– Да, да, она умрет молодою, – подхватила со своей скамьи восторженная хохлушка Мара.
– Батюшки!.. Да они спятили напоследок!.. – фальцетом выкрикнул Розенверг. – Господи помилуй!.. Да у вас тут все ли в порядке, отличнейшие девицы?…
И он повертел указательным пальцем вокруг своего лысого лба, а через минуту энергично выкрикивал, уже стоя у доски и размахивал руками:
– Госпожа Рант, не угодно ли рассказать мне происхождение кислорода…
"О, этот кислород, противный кислород!..", – почти с ненавистью подумала девочка, призывая всю свою память на помощь…
…Кончился скучный урок не менее скучного «протоплазмы». Кончился и последний урок старого, милого, доброго француза Ратье, которого девочки боготворили дружно всем классом, что не мешало им, впрочем, прозвать своего любимца "римским папой" за особого рода головной убор, который имел нечто общее с папской тиарой и с которым почтенный француз не расставался ни зимой, ни летом.
Старик Ратье сказал глубоко прочувствованную речь, в которой называл выпускных "своими милыми маленькими девочками". От этой речи повеяло той, чисто отеческою, теплотой, которую так чутко умели ценить все эти милые, наивные и впечатлительные девочки.
Во время речи всхлипывали и сморкались. Платки не исчезали из рук, веки вспухли, предательски краснели кончики носов.
Экзальтированная Рант не утерпела, вскочила со скамьи и бросилась пожимать руку тоже, в свою очередь, прослезившегося старика-учителя. Хохлушка рыдала. Черкешенка поводила вокруг своими черными, как взгляд раненой лани, тоскующими глазами.
Лида Воронская кусала губы, а Сима Эльская терла себе глаза, уверяя свою соседку, что ей под веко попала соринка.
Звонок к обеду прервал чувствительную минуту прощания. Старик Ратье дрогнувшим голосом произнес:
– A bientot, mes enfants! (До скорого свидания, мои дети!).
Доброму старому французу было действительно жаль девочек, которых он принял на свое попечение крошечными «седьмушками» и теперь сдавал на руки родителей, выпуская в большой, порой бесчувственный, порой жестокий и холодный, мир.
– Вот и последний урок! – произнесла Бухарина. – Теперь уже мы наполовину свободны. Одной ногой на воле.
– Ура-а-а! – крикнула было Додошка и высоко подбросила учебник французской литературы над головой.
Но никто не подхватил этого «ура», никто не поддержал девочку. Новое, светлое, немного грустное настроение охватило выпускных. Что ждет их впереди? Будет ли им так хорошо и светло на пресловутой воле, которая тянется к ним давно желанным, манящим призраком из-за серых, хорошо знакомых институтских стен?
За обедом вспоминалось чтение Лермонтова, речь француза, последние напутствия учителей. Ели мало и неохотно; говорили нехотя.
Одна Додошка, воспользовавшись моментом, проглотила три порции баранины, заела их молочным киселем и чувствовала себя прекрасно.
Ждали ночи, когда после вечернего чая можно было подняться в дортуар, сбросить камлотовые «мундиры», облечься в собственные шали и юбки, зажечь собственные свечи в под свечниках и, собравшись у кого-нибудь из подруг, вдоволь намечтаться вслух о предстоящем, поговорить о прошлом.
И вот настал желанный час.
Медникова, отдежурив у старших, отправилась восвояси укладывать своих «пятушек», с которыми справлялась в ее отсутствие старшая пепиньерка – "старая дева", как называли воспитанниц двух старших специальных педагогических классов их младшие однокашницы.
Выпускные остались одни.
– Mesdam'очки, я вас приглашаю сегодня к себе в мою "группу", – послышался голос Зины Бухариной, и не прошло и пяти минут, как группа Зины собралась на ее постели.
Зину Бухарину любили в классе. Эта смуглая девушка, несмотря на свою юность (ей было не больше шестнадцати), казалась старше подруг.
Странно сложилась жизнь Зины. Она родилась в цветущей Палестине, где отец ее имел место консула. Роскошь и баловство окружали чуть ли ни с колыбели девочку. Двенадцати лет она танцевала на балах в длинном платье со шлейфом, с венком на кудрявой, как у негра, головке. А когда ей минуло пятнадцать, отец ее умер скоропостижно, и ей с матерью пришлось существовать на сравнительно скромную вдовью пенсию. Из роскошных консульских палат, влиянием капризницы-судьбы, девочку перенесло прямо в серые стены института. Любовь к роскоши, к восхищению своей красотой остались в Зине. Она была кокетлива, любила украшать себя ленточками, бантиками, любила мечтать о прошлом, и будущее казалось ей полным неожиданностей и сказочной красоты. Она прекрасно писала масляными красками и пастелью, и карьера художницы светила Зине путеводной звездой. Хорошенькая «креолка» уже видела в мечтах своих будущие лавры, шумный успех, толпу поклонников и прежнюю роскошь, которою она пользовалась в золотые дни детства. Зина изъездила полмира и умела рассказывать обо всем виденном увлекательно и горячо. К тому же на нее, как и на Лиду Воронскую, возлагались большие надежды. Она, как будущая художница, должна была поддержать честь своего выпуска успехом ее будущих работ.
К этой-то Зине Бухариной и собралась сегодня ее "группа".
– Как подумаю, что через два месяца выпуск, так даже в жар бросает! – прозвенел голосок Черкешенки, по привычке то заплетающей, то расплетающей маленькими хрупкими пальчиками концы длинных черных кос.
– Да… выпуск… все радостные, счастливые, в белых платьях… в белых шляпах… как на праздник… А для многих и не праздник это вовсе, а долгая, мучительная, серая, трудовая лямка, – послышался голос Карской, некрасивой девочки в очках, с изрытым оспою лицом и шершавыми руками.
– Ну пошла-поехала наша святоша! – скривив маленький ротик, сказала Малявка, – то есть удивительно даже, как от вас, Карская, панихидой пахнет…
– Нет, панихидой пахнет от меня, – подхватила Рант, и ее шаловливые глазенки засияли восторгом, в то время как бледные губы улыбались с печальной и сладкой грустью, – панихиду по мне служить будут… Ведь я «обреченная»… У нас все умерли рано: и мама, и бабушка, и Таля, сестра, все от чахотки. Не умерли даже, а растаяли точно, как снег, как свечи, и я растаю. Увидите, mesdam'очки. Вскроется Нева, зацветут липы, ландыши забелеют в лесу, соловей защелкает ночью, а я буду сидеть в белом пеньюаре на балконе и слушать голоса ночи в последний раз… в последний…
– Ночью какие же голоса бывают? – спросила Додошка – Ночью только кошки пищат и дерутся!
– Нет, это невесть что такое! Ты нестерпима, Додошка! Тут ландыши и соловьи, а она – кошки! Я тебя прогоню из «группы», если ты будешь такой дурой, – рассердилась Креолка, сверкнув глазами на сконфуженную девочку.
– Додошка, а ты что будешь делать после выпуска? – обратилась Воронская к толстушке.








