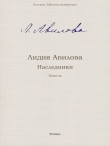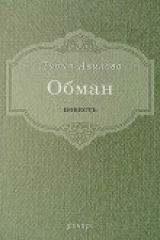
Текст книги "Обман"
Автор книги: Лидия Авилова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Он посмотрелся в зеркало, пригладил волосы и, заметив в зеркале отражение молодой девушки, радостно закивал ей головой. Опять оба засмеялись, а доктор надел шапку и пошёл к двери.
– Прощайте, Дашенька! Спокойной ночи! – сказал он, проходя мимо горничной.
Вера взяла его записку, прочла её несколько раз и, тоже поглядевшись в зеркало, почему-то глубоко вздохнула и отнесла бумажку в кабинет брата.
Проходя по тёмной гостиной, она вдруг, точно вспомнив о чем-то, подбежала к окну и, припав лицом к раме, стала глядеть на улицу. В воздухе кружились крупные, мокрые хлопья снегу и, казалось, таяли раньше, чем касались земли. Мигающие фонари отражали свой мутный свет в лужах среди мостовой, ещё покрытой тёмной снеговой коркой. Через улицу, пересекая её по направлению к противоположному тротуару, проехал извозчик, усердно нахлёстывая лошадь кнутом. В санях сидел седок, похожий сверху на большой чёрный куль. Вера проводила его глазами, пока могла, ещё раз глубоко вздохнула, а потом подошла к роялю, медленно открыла крышку, и в квартире раздались тихие, робкие, жалобные звуки. Но жалоба росла, крепла… Вера медленно раскачивалась туловищем, а с поднятого лица её, в тёмную стену, глядели отуманенные мечтой, ничего не видящие глаза.
В комнате Анны Николаевны горела лампадка, и там, перед таинственно мерцающими образами киота, неподвижно стояла на коленях тёмная фигура старушки. Губы её шептали, а сложенные пальцы крепко прижимались ко лбу. Вдруг из груди её вырвался тихий стон:
– Господи! – сказала она и смиренно опустила свою седую голову до самого пола.
* * *
Семён Александрович вернулся поздно. Он сейчас же заметил на своём столе записку, прочёл её и поглядел на часы. Почти целый день он бесцельно пробродил по улицам, промок, устал, но, несмотря на то, что ему хотелось лечь и заснуть, он был настолько уверен, что уснуть ему не удастся, он так отчётливо представлял себе вперёд томление и ужас предстоящей ночи, что, не задумываясь ни на минуту, прошёл обратно в переднюю, надел свою вымокшую шубу и поспешно побежал вниз по лестнице.
Рачаев ждал Агринцева в ресторане. Когда Семена Александровича провели в отдельный кабинет, он увидал накрытый стол, остывший ужин и несколько бутылок, из которых две были уже почти пусты. Доктор стоял среди комнаты, лицом к двери и встретил приятеля безмолвным недружелюбным взглядом.
– Ты давно так стоишь? – спросил Агринцев и невольно улыбнулся.
– Предупреждаю! – ответил тот и указал рукой по направлению к столу. – Вино с синей этикеткой значительно высшего достоинства, чем то, которое с белой.
– Благодарю тебя! – серьёзно отозвался Агринцев.
Он сел на диван около стола, тоскливо оглянулся и опустил голову.
– Ты писал, что тебе надо переговорить о деле? – вдруг вспомнил он. – О каком деле? Что такое?
Доктор подошёл к столу, налил стакан вина и поставил его перед Семёном.
– Дело придёт само собой, – неспешно заговорил он, – а пока… не бойся пить. Возбуждение от вина совсем иного рода, чем то, которое ты испытываешь теперь. Оно не ухудшит, а напротив, облегчит… Как врач – я советую.
Но Агринцев не испытывал никакого возбуждения. Он сильно устал, и ему хотелось сидеть молча и только чувствовать присутствие Рачаева, присутствие, которое и теперь, как всегда, успокаивало его.
Доктор тоже молчал и стал ходить взад и вперёд. Подошвы его сапог слегка скрипели, и этот однообразный, правильно повторяющийся звук не только не раздражал Семена Александровича, а напротив, как будто убаюкивал, усыплял его. Он глядел перед собой – на комнату, на движущуюся по ней фигуру приятеля, и ему представлялось, что все, что он видел, то приближалось к нему, то уходило так далеко, что он даже переставал слышать однообразный, бесконечно повторяющийся скрип. Иногда ему казалось, что пол и диван, на котором он сидел, начинали быстро колебаться, и тогда зрение его застилало какое-то огромное тёмное пятно. Он проводил рукой по лбу и глазам, начинал опять различать фигуру Рачаева и, успокоившись, бессознательно улыбался.
Вдруг он заметил, что Василий Гаврилович стоят у стола и пристально глядит ему прямо в лицо. Он встрепенулся и постарался принять равнодушное, беззаботное выражение.
– Послушай, – сказал Рачаев, – чего ты хочешь этим достичь? У всякого разумного человека есть цель. Скажи мне свою.
– Я не знаю, – ответил Агринцев. – Да и не надо… Не объясняй. Я устал.
– Я не требую, чтобы ты говорил, но я хочу, чтобы ты слушал, – строго сказал Рачаев. – Я каждый день виделся с твоими… Вера – славная; старуха – смешная, но тоже хорошая, и обе бабы влюблены в тебя. Так вот, знаешь ли ты, что они измучены разными опасениями, предположениями?.. Ты пропадаешь из дому, возвращаешься вот таким молодцом, как сейчас. Ночью ты не тушишь лампу… В общем, ты ведёшь себя непозволительно, и я взял на себя миссию довести это до твоего сведения.
– Мне всё равно! – тихо сказал Агринцев.
– Всё равно – для тебя и для меня, – согласился доктор. – По мне – хоть на голове ходи, если есть охота. Да я тебя и не жалею, а баб твоих жалею. Заметил ли ты, что уже несколько дней не говорил с ними ни слова?
– Нет, не заметил.
– То-то, вот! Они думали, что ты теперь с Катериной разговариваешь, и поехали к ней… наводить справки.
– Ездили… к Кате? – спросил Семён Александрович, и внезапное волнение окрасило его бледное, осунувшееся лицо.
– Ездили. И я ездил. Она не глупая, Катя-то. Бабам она сказала, что простудилась, и поэтому давно не была у них, выведала у них же про тебя, а потом послала за мной.
Агринцев поднял глаза и увидал на себе необычайно презрительный, почти брезгливый взгляд доктора. Ему стало ясно, что доктор знает подробности его последнего свидание с Катей, но впечатление, которое он производил на приятеля, мало беспокоило его. Он только жалел, что завязавшийся разговор вывел его из приятного забытья, и, чувствуя, как в голове, в душе, опять мучительно пробуждалось сознание, он ощутил такой порыв тоски и отчаяния, что сразу забыл про свою усталость и нежелание говорить.
– Я не знаю, каково моё поведение, – волнуясь и задыхаясь, заговорил он, – но я знаю, что жить так, как сейчас, я более не в состоянии. Моё существование дико, нелепо, невозможно. Если бы у меня была логика, я бы прекратил его разом. Но меня связывает какой-то кошмар, рассеять который я не в силах. Пойми, Рачаев, пойми: и у меня были чувства, мечты, надежды… чище кристалла. И я за них любил жизнь и верил в неё. Я носился с своими идеалами ещё тогда, когда это самое слово: «идеал», уже начало отдавать затхлостью и анахронизмом, когда уже многие начали ядовито подсмеиваться над ним. И вдруг – всё рушилось! Боже, до чего мне стало ясно, что все ваши чувства, нравственные понятия, все наши хорошие слова, всё – только одно отдалённое представление чего-то прекрасного и чистого, искреннего и душевного, что могло бы быть и чего не существует на земле. Это приманка жизни, а не жизнь, это волшебная сказка, созданная только для того, чтобы занимать воображение, а не душу. Я любил эту сказку! Я тоскую о ней смертельно!
Он облокотился о стол и закрыл лицо руками.
– Да, если бы у меня была логика, – немного погодя, продолжал он, – я сейчас же, немедленно, кончил бы самоубийством. Но я не логичен, и я боюсь смерти. Отчего я боюсь? Отчего у меня нет убеждения, что моя жизнь, грубая, материальная, прекратится с последним биением моего сердца? Отчего я, отрицающий душу, возненавидевший жизнь за то, что не нашёл в ней ничего духовного, отчего я содрогаюсь от ужаса, когда допускаю предположение, что меня не ждёт небытие?.. Что-то таинственное, непостижимое останавливает мою руку и нашёптывает новую сказку, новые надежды, новые предположения. Я ненавижу жизнь – и не могу убить себя. Почему?
Оба долго молчали.
– А это вопрос особого рода, – задумчиво заговорил Рачаев, – чтобы убить себя, надо, чтобы в мозгу образовался нарост, род шишки. Наука ещё не высказалась вполне определённо, но я, лично, убеждён, что без образования этого нароста самоубийство невозможно.
Агринцев отнял руки от лица, растерянно поглядел на доктора, и вдруг им овладело непреодолимое желание хохотать. Он засмеялся, сперва тихо и сдержанно, потом опустил голову на руки и, уже не владея собой, хохотал всё сильнее и громче. Слезы лились у него сквозь пальцы, грудь судорожно вздрагивала от рыданий. Он делал невероятные усилия, чтобы опять овладеть собой и, сознавая на себе презрительный взгляд доктора, с чувством тяжёлого стыда и глубокого унижения, смеясь, оплакивал свою последнюю иллюзию, свою грустную, робкую, неясную веру, которая, несмотря на все доводы его разума, позволяла ему провидеть сквозь ничтожество всего окружающего, таинственное веяние нематериального, свободного от земного рабства, существования. Так и эта последняя вера оказалась иллюзией, обманом! Природа требовала жизни и обманывала воображение, как старая нянька, запугивающая букой капризных, упрямых детей.
Агринцев плакал, а на противоположном конце стола Рачаев нетерпеливо отбивал пальцами трель. Когда Семён, наконец, успокоился, доктор встал и тщательно пригладил волосы на своей голове.
– Есть больные, которые не хотят переносить боли, – сказал он. – Я им даю морфий. Действие морфия лишает человека чувства действительности, но я, лично, предпочёл бы страдания. К чему морфий? К чему боязнь правды и реальности, если эта боязнь нередко мучительнее правды и реальности? Ты не хочешь глядеть себе под ноги, и плачешь, когда падаешь и разбиваешь себе нос. Жизнь тебя не удовлетворяет! Это вся-то, вся-то жизнь!
Он широко развёл руками, и недоумевающее выражение надолго застыло на его лице.
– Ну, знаешь, пора… Собирайся. Я тебя довезу.
Агринцев с трудом держался на ногах, и встречные легко могли принять его за подгулявшего гостя.
– Послушай, – сказал он, когда они уже ехали на извозчике, – я понял, что «она» тебе всё рассказала. Скажи: она очень меня ненавидит? Как она мне крикнула тогда: «С презрением и ненавистью!.. С презрением и ненавистью!..»
Рычаев провёл рукой по воздуху.
– Это ведь круг, – заметил он. – Она любила, теперь ненавидит, потом опять будет любить.
– Нет, нет! – содрогаясь, возразил Семён Александрович. – Ты не видал её в эту минуту!
– Я думаю, что эта минута имеет мало значения, – спокойно заметил доктор. – Направление её жизни – вполне определённое. Ей нужны любовь и мученичество. Для женщин праздных и обладающих в известной степени развращённым воображением сознание мученичества нередко переходит в потребность, в привычку. Если бы она была ещё более испорчена, она меняла бы свои привязанности. Такие женщины – или клад, или – каторжная цепь.
– Вера тоже живёт воображением, – заметил Агринцев. – Большинство женщин живёт воображением, потому что они выше всего ставят чувство.
– Нет! – горячо возразил Василий Гаврилович. – Веру воображение влечёт к жизни, а не отталкивает от неё. Вера не испугается реальности. Это – разница.
Приятели простились, и Агринцев стал подниматься по лестнице. Он шёл медленно и бесшумно. Начинало светать, и в этом мутном полусвете, в тишине и безмолвии громадного дома с наглухо закрытыми дверями квартир, он пробирался как тень. И каждая закрытая дверь на его пути, казалось, с недоброжелательством и неприязнью следила за его приближением и провожала его холодным напутствием:
– Проходи! Ты чужой!
И когда он вошёл к себе, когда он, одетый, бросился на свою постель и закрыл глаза, ему всё ещё казалось, что он с трудом, с мукой, поднимается по высокой, крутой лестнице. Ему чудился мутный рассвет, плотно закрытые двери и упорное, холодное напутствие:
– Проходи! Ты чужой!..
* * *
Большую часть времени, пока Агринцев был болен, он пролежал без сознания; а когда это сознание ненадолго возвращалось, он видел так же, как и грезил: всегда ярко, рельефно, без всякой последовательности. И он не знал, где начиналась грёза и где кончалась действительность. Отдельный лица, отдельные картины выделялись перед ним вне времени и пространства и затем исчезали в безмолвии и мраке.
Он видел свою комнату, стол, сдвинутый к стене и заставленный незнакомыми ему предметами; он видел широкую спину и затылок Рачаева; а близко над ним склонялось озабоченное лицо его матери, и от прикосновения её рук в его голове он чувствовал тяжесть и холод. Он видел Зину. Она сидела на своей постели. Лицо её было бессмысленно и дико, волосы сбились на голове и у правого уха. Кругом неё толпились какие-то незнакомые люди, и у всех было то же бессмысленное, животное выражение лиц.
– Пустите меня! – просила Зина.
А люди хохотали и отвечали в один голос:
– Некуда! Некуда! Оставайся!
Он видел Веру. Она стояла среди комнаты и медленно раскачивалась туловищем взад и вперёд. Глаза её то ярко вспыхивали, то угасали; она улыбалась упоённой, безумной улыбкой, а руки жадно и порывисто ловили воздух. Потом она закидывала голову и, вся замирающая, трепетная, расплывалась в какое-то безобразное, мутное пятно.
Но чаще всего он видел одно лицо – знакомое, но такое печальное и бледное, что когда он смотрел на него, ему хотелось плакать. Было ли это во сне, или наяву, знал ли он это лицо раньше, слыхал ли он его имя – он в это время припомнить не мог. Уже позже, он как-то долго следил за ним, и когда, случайно, они встретились глазами, он вдруг узнал его и сделал слабое движение рукой.
– Катя! – прошептал он.
И тогда он увидал, как высокая, светлая фигура вдруг скользнула вниз и опустилась у его кровати; он почувствовал слезы и поцелуи на своей руке и услыхал голос, который говорил так ласково и нежно, что ему не надо было понимать слов.
Мало-помалу видения стали менее ярки и отчётливы, но более продолжительны, и он стал сознавать, что то, что окружает его, существует в действительности. Он уже знал, что мать, Вера и Катя ухаживают за ним и сменяют друг друга по дежурствам. Он знал, что Рачаев приезжает раза два в день и часто подолгу засиживается у его постели. Ещё позже он даже стал замечать, что засиживается доктор именно тогда, когда около него дежурила Вера. Исподтишка он наблюдал за ними, и его немного сердили рассеянность и возбуждённость сестры, пылающий румянец её лица и та счастливая улыбка, которую она старалась и не умела скрыть.
Эгоизм страдающего больного возмущался при виде чужого счастья, и несмотря на заботливость и предупредительность, которыми сестра и доктор окружали его, больной капризничал и, в душе, считал себя оскорблённым и обиженным.
Он всегда радовался, когда к нему входила мать, но когда он, наконец, заметил, как сильно изменилась она за это время, как побелели её волосы, как сморщились её руки, он почувствовал к ней такую нежность и жалость, что сильно взволновался сам и напугал старушку до слез.
Как только Агринцев стал чувствовать себя лучше и бодрее, Катя прекратила свои дежурства и только изредка входила в его комнату, явно избегая оставаться с ним наедине. Ему, всё-таки, удалось улучить удобную минуту.
– Вы простили? – спросил он, робко удерживая её руку в своей.
– Мне нечего прощать, – быстро ответила она, смущаясь и краснея. – Ничего не было, Сеня… Ничего!
– И мы опять будем друзьями?
Она опустила глаза.
– Я еду за границу, – тихо сказала она, видимо избегая прямого ответа. – Если хотите, я буду вам писать. Я привыкла путешествовать, и меня уже тянет… тянет вдаль.
Она печально улыбнулась и с этой ласковой улыбкой заглянула ему в лицо.
– Поправляйтесь! Живите долго и счастливо!..
– Разве мы больше не увидимся?
– Отчего же? Когда-нибудь… вероятно… И я ещё зайду проститься с вами.
Но она не зашла. Анна Николаевна рассказала ему, что она уехала, и просила передать ему свой прощальный привет.
Рачаев настаивал на том, чтобы семья Агринцевых как можно скорее переехала в деревню, и вызвался сам сопровождать больного. Анна Николаевна горячо благодарила его.
Гладя на счастливое, похорошевшее лицо сестры, Семён Александрович начал немного тревожиться.
– Ты знаешь, что ты делаешь? – строго спросил он Рачаева, когда они остались как-то вдвоём.
Тот, по обыкновению, надолго задумался.
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, – ответил он. – Конечно, я мог бы заметить тебе, что это не твоё дело, но на этот раз вопрос уже так близок к окончательному решению, что уклоняться от ответа я не нахожу смысла. Если твоя сестра потребует от меня исполнения известного церковного обряда, я не буду сопротивляться.
– Да, она потребует! – сказал Агринцев и засмеялся, а доктор презрительно пожал плечами и потом долго разглядывал носки своей обуви.
* * *
Отъезд был решён, и Анна Николаевна с Верой быстро закончили сборы. Их смущала крайняя слабость больного, но Рачаев ободрял их.
– В деревне отойдёт! – с уверенностью говорил он.
И действительно, с первых же дней своего пребывания в маленьком родном гнезде, Семён Александрович стал чувствовать, что наступило быстрое и несомненное выздоровление.
Целыми днями сидел он теперь на открытом воздухе, под лучами ласкового майского солнца. Пышная молодая листва шепталась над его головой, набегал ветерок и приносил с собой запах цветущей черёмухи, рябины; нежный аромат яблонь, цветов, трав, земли…
Из соседней рощи слышалось немолчное щебетание птиц, отрывистое, но отчётливое пощёлкивание соловья. Это певец любви пробовал свой голос для ночной серенады, когда вся природа будет слушать его одного, когда засвежевший воздух разнесёт его песнь среди чуткой тишины и поднимет её к тёмному, звёздному небосклону.
Иногда, кружась и ныряя, проносились мимо него какие-то белые и цветные лепестки. Это бабочки, любовно переплетаясь крыльями, неслись всё выше и выше к чистому, голубому небу. И когда он глядел им вслед, он видел лазурь и прозрачные белые хлопья облаков. Целыми днями наблюдал он природу, и ему не только не было скучно с ней наедине, но она одна, не утомляя, занимала его воображение и вызывала одну мысль за другой.
Анна Николаевна от времени до времени приходила посмотреть на сына, заботливо заглядывала ему в глаза и ласково гладила рукой по волосам. Её милое старческое лицо казалось одухотворённым преданностью и любовью, но сын знал, что даже в этой великой любви она уже не почерпнёт новой силы для своей угасающей жизни, что здоровье её непоправимо подорвано горем и непосильным трудом. И целуя её трясущиеся, морщинистые руки, он чувствовал укор совести, нежность и покорную печаль. Веру и Рачаева он видел только за столом. Доктор вызвался навестить больного, жившего в соседнем селе. Вернулся он возмущённый и взволнованный.
– У ваших соседей тиф! – сердито заявил он Анне Николаевне. – У них скверный хлеб, а главное – нет воды. Они пьют заражённую, гнилую жидкость и спокойно ложатся умирать. Такое положение дел невозможно!
На другое же утро он опять ушёл в село, а Вера вызвалась сопутствовать ему. С тех пор за столом слышались разговоры о ходатайствах об оздоровлении местности, об изысканиях, где найти лучшую воду.
Вера горячо принялась за роль сестры милосердия. Она уже не играла на рояле, не упивалась печалью. Всё существо её словно выросло и окрепло, а когда она шла рядом с Рачаевым, или говорила с ним, лицо её выражало спокойствие, гордость и счастье.
– Ты мог бы помочь нам! – говорил Василий Гаврилович, обращаясь к Агринцеву.
Анна Николаевна начинала заметно тревожиться.
– Конечно, ещё не теперь, – поспешно добавлял доктор, – но позже, когда ты совсем окрепнешь.
И Агринцев невольно заинтересовался их планами, и бывали минуты, когда он досадовал, что его силы не позволяют ему присоединиться к их трудам.
– Значит, жить? Опять жить? – спрашивал он себя удивлённо и радостно. – Опять поддаться обману, который уже раз открылся мне так ясно и беспощадно?
Он оглянулся на окружающую его природу, и неожиданный порыв торжества и восторга почти болезненно всколыхнул его душу. Он закинул голову, и взгляд его потонул в сияющей, глубокой лазури.
– Но где же он? – мысленно продолжал он допрашивать себя. – Где тот обман, который я понял и который едва не заставил меня отказаться от жизни? Если сама природа указывает нам на такую красоту, которая едва доступна воображению, если она даёт нам представление о такой гармонии, которой ещё не достигло ни одно искусство, – она ли обманула нас? Да, жить! Жить, чтобы сливаться с этой вечной гармонией, чтобы создать своим духом те чувства, те великие представления любви, красоты, правды, которые ещё не нашли себе места на земле. Страдать, бороться, претерпевать бремя физического существования и знать и верить, что созданное духом не опускается вновь к ничтожеству и бессилию, не погибает в мелочной житейской суёте.
Жить и верить, что есть такая высота, на которой человек освобождается от рабства, на которой никакие путы и оковы физических законов уже не стесняют его свободы, и всеми силами души стремиться к этой высоте, к этой свободе; участвовать в постоянном подъёме, в постепенном освобождении духовного начала из-под гнёта мрака, грубости и лжи.
Жить и верить, что если сама природа вложила в душу человека томление, неудовлетворённость, неясную тоску по иной, прекрасной, чистой жизни, – она не обманула его…
Томление, тоска – это крылья, которые она дала человеку, чтобы он имел возможность подняться. И если он не замечал их, если он волочил их по грязи, – она ли была виной его погибели? Она ли не дала ему того, чего он мог ждать и желать для себя?
1901