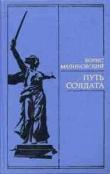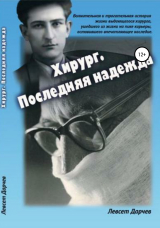
Текст книги "Хирург. Последняя надежда"
Автор книги: ЛЕВСЕТ ДАРЧЕВ
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Рашид находился во дворе под навесом с топором в руке, когда его отец Паша вернулся с работы раньше времени. Он сразу подумал, что что-то случилось.
– Ты опять с топором, сын! – возмутился он с порога. – Это опасно – топор может порезать. Сколько я буду говорить тебе об этом!
Рашид нагнулся и опустил топор на землю.
Отец подошёл близко и стал над его головой. «Сегодня папа не такой, как всегда, – подумал Рашид. – Злой. Лицо нахмуренное, глаза мечут искры».
– Нет, – возразил отец. – Ты поставь его там, где взял. В доме всё должно находиться на своём месте. Ты понимаешь?
– Да, – робко ответил Рашид, подбирая топор, чтобы отнести его на своё место на чурбане возле дров.
На шум на крыльцо вышла мать. Она вставила руки в бока – её любимая поза – и, осмотревшись по сторонам, вмешалась:
– Что тут происходит? – Затем, увидев мужа в неурочное время, съязвила: – А ты что, сбежал с работы?
– Заболел, – буркнул отец, показывая указательный палец. – Адские боли – надо поковырять иголкой. Наверное, заноза зашла. Уже два дня как болит, а я не обращал внимания. Боли невыносимые.
– А ну покажи. – Мать подошла поближе и взяла палец в свою руку. После того, как осмотрела палец со всех сторон, она вскинула голову и заявила:
– Это не заноза, милый.
Паша округлил глаза и открыл рот.
– А что это?
– Инфекция, – без раздумий уверенно выпалила жена. – Это инфекция: иголка тут не поможет.
– Это лучше, чем заноза? – спросил отец.
– Нет, это хуже – можно лишиться пальца.
– Но ты же… ты же лекарь, знахарь, повитуха – помоги.
Мама ощетинилась.
– Не помогу, – резко среагировала мать, отбрасывая палец и поёжившись. – Пока ты укоряешь меня в том, что я знахарь и повитуха, не помогу.
Мать была центром притяжения всех женщин, сплетен, и ни одна более или менее значимая разборка не проходила без её участия. Душа женской компании.
– Да ладно тебе, – сказал Паша с иронией. – Не скажу, пока ты лечишь меня. Откуда ты такая взялась у меня – женщина-огонь? Ты везде, где шум, где сплетни и разборки…
– Не твоё дело, – перебила жена. – Я же не вмешиваюсь в мужские дела. Что плохого в том, что я помогаю другим словом и делом? Я лечу, не калечу.
– Ладно, убедила, – сдался Паша. – Посмотри на палец.
Жена быстро оттаяла, приблизилась и осмотрела палец по кругу.
– Жди, – сказала она, отпуская палец.
Паша растерялся.
– Чего ждать?
– Пока я приду с родника, – проговорила жена. – Заберу травы у Сакинат.
Мать накинула на плечо кувшин и исчезла.
Рашид, всё это время следивший за диалогом родителей, сдвинулся с места.
– Болит, папа?
– Да, сынок.
– Воды тёплой принести тебе?
– Зачем?
– Когда у меня болит живот, мама всегда даёт воды – и у меня проходит.
Паша засмеялся.
– Это мама когда даёт, – произнёс Паша. – У неё волшебные руки.
Но руки мамы не помогли отцу. Не помог и сбор трав, не помог и варёный лук. На второй день Рашид с сочувствием следил за папой, который со вздёрнутым вверх пальцем ходил по двору взад-вперед. Мама больше молчала и не знала, что делать.
– Мама, а нельзя врачу показаться? – поинтересовался Рашид.
– Нет, Рашид, – ответила мама. – Один врач на всю округу, и у него много больных с серьёзными заболеваниями.
Отец не спал, не ел, не шутил. На третий день взял в руки бритвенный нож и сел на табуретку возле камина. В комнате было тихо – мама молчала, испробовав все методы народной медицины, и, зная, чтó сейчас сделает отец, напряжённо следила за ним.
– Папа, ты что собираешься делать? – испуганно спросил маленький Рашид.
– Я сейчас буду забирать боль, – сквозь зубы процедил отец, прикладывая лезвие ножа к опухшей коже.
Всё случилось мгновенно: отец резко срезал часть пальца, и отравленная кровь брызнула из открытой раны. Стон отца и крик мамы поразили сердце мальчика – в нём перевернулся мир, который он только познавал. «Я забираю боль», – стучало в голове мальчика, и его сознание подсказывало ему, кем надо быть, чтобы забирать чужую боль, – доктором.
В школу сегодня Рашид пришёл раньше всех. Он шёл по коридору уверенной походкой и остановился напротив учительской. Он постучал, затем тихо толкнул дверь. Его не смутили глаза учителей, которые одновременно посмотрели на него.
– О, Рашид! – отозвалась учительница Татьяна, которая, наклонившись, копалась в тумбочке. – Что-нибудь случилось? – испуганно спросила она, поднимая стопку тетрадей на стол.
– Татьяна Сергеевна, – прозвучал детский невинный голос мальчика. – Я знаю, кем я хочу стать, когда вырасту.
Пауза, затем раздался смех. Татьяна с улыбкой повернулась к коллегам:
– Он единственный в классе, кто не знал, кем хочет стать. Прошло несколько дней – и вот… – Она приблизилась к мальчику и, сев на корточки, тихо спросила: – И кем ты решил стать, Рашид?
– Доктором, – произнёс Рашид.
В кабинете раздалась вторая волна смеха.
После окончания школы мама, провожая сына в Хасавюрт, долго смотрела ему в глаза:
– Сынок ты уверен, что хочешь стать врачом?
– Да, мама, – ответил Рашид. – Я твёрдо решил помогать людям, чтобы они не болели.
– Ступай! – Она отняла руку с плеча мальчика, который в один миг показался ей повзрослевшим. – Я благословляю тебя, сынок.
Мать долго глядела на отдалявшуюся от неё фигуру сына, который так быстро повзрослел. Поджала губу, и слеза покатилась по щеке. Она не успела впитать всю радость от каждого мгновения, проведённого рядом с ним. «Детство закончилось, и я никогда не верну ушедшее время и неосознанное счастье», – подумала она.
ФЕЛЬДШЕР
Отец привёз Рашида в Махачкалу для поступления в фельдшерскую школу. После поступления и сбора всех бумаг он получил направление в общежитие. Комнаты на четыре человека. Рашид впервые почувствовал, что отрывается от семьи, от привычной жизни. Он самый младший среди учащихся.
Отец сел на тумбочку и долго смотрел на сына, которому ещё не было четырнадцати лет.
– Справишься, сынок? Ты, вообще, хорошо подумал, что хочешь стать фельдшером?
– Да.
В комнату с шумом ворвались трое. Увидев Пашу, они быстро умерили свою пыль и тихо поздоровались. Штаны у всех были мокрые.
– Вы откуда, ребята? – спросил Паша.
– Я из Хучни, – ответил один. Другой оказался из Хунзаха, третий – из Буйнакска.
– Я хотел спросить, откуда вы пришли такие мокрые.
Ребята засмеялись, пытаясь заглянуть назад, на штаны.
– А мы были на море, – хором ответили они. – После обеда пойдём смотреть вокзал, поезда и другие достопримечательности.
В то время в городе действовали две фабрики – нефтеперегонная и бумагопрядильная – и несколько цехов.
– Плавать хоть умеете?
– Не-ет, – протяжно в один голос промурлыкали они. – Будем учиться, а то можно утонуть, как сегодня один утонул.
Паша вздрогнул, а когда, покидая общежитие, прощался с сыном, дал отцовский совет:
– Ребята хорошие, но старше тебя. Не давай себя в обиду никому. Учись хорошо. Соблюдай дисциплину. И главное – на море не ходи. Это тебе не мелководный Сулак, а море.
– А на вокзал можно?
Паша понял, что Рашид вольётся в коллектив и вряд ли сможет удержаться от юношеских увлечений, и мир его с этого дня будет другим.
– Там тоже опасно, сынок. Можно попасть под поезд. Но я не могу подсказать тебе советы на все случаи жизни. Просто будь благоразумен и осторожен.
ПРАКТИКА В АНДРЕЙАУЛЕ
Три года в училище пролетели как один миг. Рашида направили на практику в Андрейаул. Медпункт был расположен в центре села и представлял собой одноэтажный саманный домик с несколькими комнатами: коридор для ожидания, процедурная, палата для неотложного лечения и кабинет фельдшера. Привычный запах йода и медикаментов. Старая женщина – санитарка – толкнула ведро с тряпкой в угол и выпрямилась.
– Здравствуйте, – поздоровался Рашид.
– Её шерстяной клетчатый платок сполз в одну сторону, оставив открытыми чёрные блеклые глаза, нос и часть лица, на котором видны следы, оставленные оспой.
– Здрасьте, начальник, – отозвалась женщина. – Нам уже сообщили, что к нам направили нового фельдшера.
– Да, точно. Это я. Ознакомьте меня, пожалуйста, с обстановкой: что у вас есть, чего нету. – Рашид, увидев запас лекарств и медикаментов, заметил: – Да, у вас тут почти ничего нет! Кто должен обеспечивать медпункт лекарствами?
– Фельдшер, – бросил мужик с сигаретой во рту, который неожиданно появился за спиной санитарки. Похоже, это был её муж.
– У меня сын такого же возраста, как и вы, – сообщила санитарка, продолжая с любопытством изучать нового знакомого. – Я родила семерых детей, двое умерли. Работаю здесь со дня основания пункта в 1924 году.
«Зачем она мне это рассказывает? – подумал Рашид. – Я не могу вернуть ей умерших детей. Или она хочет вызвать у меня сочувствие? Сочувствую, и жалко, что люди болеют и умирают. Я постараюсь вам помочь».
– Мне нужно увидеть председателя сельсовета и вручить представление. Не скажете, как к нему попасть?
– Конечно, – ответила женщина. – Он такой зануда! До вас здесь работал хороший парень из Кизляра. Председатель его выжил. Но он, уходя, что-то сделал – отомстил ему. – Она прыснула. – И он болеет.
– Он ему надоел, – сказал мужик, оттряхивая пепел за порог. – Он всё время рассказывал ему, как спасал доктора Вишневского из реки Сулак.
– Ты скажи ему, что ты об этом уже слышал, – посоветовала санитарка и тихо засмеялась, обнажив рот с одним зубом.
– Хорошо. Скажу.
Протиснувшись бочком в покрашенную дверь, Рашид увидел сидевшего за Т-образным столом сельского правителя. На нём была трикотажная серая рубашка с закатанными по локоть рукавами. Стол был накрыт дешёвым зелёным сукном. В середине красовалась чернильница в форме лунки с коническим углублением, из которой торчала ручка с обычным канцелярским пером, обагрённым фиолетовыми чернилами. Мужчина захлопнул талмуд с набухшей по краям обложкой и поднял взгляд. Брови разрослись вверх и вниз одиночными седыми волосками, которые подчёркивали его преклонный возраст, лицо болезненного цвета было испещрено морщинами.
– Кем будете? – В его голосе были слышны властные нотки.
– Я фельдшер, и направлен к вам на работу.
– Да?! – удивился секретарь. – Такой юный! Сколько тебе лет?
– Шестнадцать.
– Гайдар в твоём возрасте полком командовал! Ты знаешь это?
– Знаю.
– Ну вот и хорошо. Что умеешь делать?
– Могу лечить.
– Ещё что?
– Могу не лечить, если у вас в медпункте нет лекарств.
– Это что, упрёк? Ты, наверное, уже осмотрел свои владения и успел услышать сплетни бывшего врача?
– Нет. Я здесь никого не знаю.
– Какой негодяй! У него закончились лекарства, и ему стало лень поехать в Хасавюрт – и начал лечить всех пургеном.
Рашид прыснул и засмеялся:
– Ну и как – помогло?
– Я ему пожаловался, что из-за мыслей в голове сон потерял. Он мне выписал лекарство. Два дня спокойно домой не мог добраться – шёл по маршруту от туалета к туалету. Вот негодяй! И знаешь, что он мне сказал? Зато теперь у вас в голове будет одна мысль. Не могу забыть его!
Рашид продолжал смеяться.
– Вы, может быть, чем-то обидели его.
– Я в своей жизни видел много врачей…
Рашид, опережая его слова, подумал о Вишневском, чьё имя сейчас должно прозвучать, как его предупредила санитарка.
– Но такого урода не видел никогда!. Надо же додуматься до этого!
«У него точно отравление», – подумал Рашид и пожалел, что смеялся.
– Вам нужно провести очистку организма, товарищ председатель, – произнёс Рашид. – Нужно исключить из рациона острое, жареное и жирное. Больше надо пить жидкости: воду, компоты из сухофруктов и есть каши на воде.
Рашид ждал, когда же он перейдёт к рассказу о Вишневском.
– Вы сказали, что знаете многих врачей. И кто они?
Председатель, прищурив глаза, задумался, как будто догадываясь, что в этом вопросе есть подвох.
Он дотянулся до чернильницы и сдвинул её на другое место. Мысли его, судя по сгустившимся чертам лица, бежали по образам. И почему-то он не посчитал нужным сообщить о своём друге детства Саше Вишневском, которого он спас от смерти, рискуя жизнью. И за это отец Саши, бывший военный офицер русской армии, подарил его нуждающейся семье корову. «Брехун, – подумал Рашид, – даты не совпадают».
В селе оказалось много больных. На следующий же день у порога и в коридоре пункта собралось много народу. Рашид по ходу дела составлял список инструментов, лекарств, инвентаря, которые с согласия председателя и при его содействии собирался запросить у руководства центральной больницы в Хасавюрте.
Рашид быстро завоевал уважение сельчан за отношение к больным и грамотное обслуживание. Он почувствовал в себе силы и уверенность. Но ненадолго. Дома, в селе Султанянгиюрт, тяжело заболела старшая сестра Эмина, которая с самого детства была для него надеждой и опорой. Он чувствовал, что сегодня она нуждалась в его помощи. Она была на попечении родителей и младшей сестры Рупии. Меджид учился на втором курсе Сельхозинститута, а Атия вышла замуж и у неё была своя семья.
Улучив время, Рашид поехал в село, чтобы забрать сестру и показать её опытным врачам в Хасавюрте. Но те лишь помотали головами и пожали плечами. Диагнозы одних не совпадали с другими. А сестра чахла с каждым днём. Рашид спорил с врачами, задавая им неудобные вопросы. Те удивлялись пытливости и аналитическим способностям молодого фельдшера, но предпринять необходимые меры не смогли. Эмина умерла, и это стало для Рашида отправной точкой в профессии врача: он погрузился в литературу и стал черпать знания самостоятельно.
МЕДИНСТИТУТ
Следующим шагом Рашида в профессии стало поступление в мединститут. Он блестяще сдал вступительные экзамены и в 1939 году стал студентом медицинского института. К тому времени его родители преждевременно постарели от тоски по дочери и непосильного сельского физического труда. Спасением для Рашида было то, что старший брат Меджид окончил сельхозинститут, вернулся в родное село и стал работать агрономом. Время бежало. На календаре 1941 год. Июнь…
Рашид, успешно сдав все экзамены и зачёты, в широкой белой сорочке с закатанными рукавами торопился на автостанцию, чтобы приехать домой и обрадовать отца.
На автостанции были необычная суета и мрачные лица. Рашид подумал, что за день – пятница. Не получив ответа, он стал прислушиваться к разговорам людей, в которых всё больше звучало слово «война». Старший брат Меджид, работавший агрономом в колхозе, суетливо собирал свои вещи и прощался с родителями и молодой женой – он уходил на войну. Безмолвное приветствие и странный прощальный взгляд – всем известно, что с войны могут не вернуться. Мать плачет, отец молчит, младшие сёстры в недоумении.
Рашид взял протянутую твёрдую руку брата. Пожатие длилось дольше обычного. Глаза в глаза.
– Рашид, я тебя оставляю старшим. Позаботься о сёстрах, хорошо?
– Да, – скорбно произнёс Рашид. – Ты так говоришь, как будто уходишь навсегда.
Меджид посмотрел назад, чтобы убедиться, что никто не слышит.
– Брат, я ухожу не на свадьбу, – произнёс Меджид. – С войны человек может и не вернуться. Так что позаботься о родителях… – Он запнулся. Глаза покраснели от наплыва чувств. – Вообще, ты понял меня. – Он отвёл взгляд и молча стал снимать с руки часы. – Ты их хотел. Храни как память.
В военкомате столпотворение. Военком в звании лейтенанта в одной руке держит бумаги, а другой даёт команды и указания: кому-то на обследование, кому-то на собеседование, а кому-то на войну. Рашиду не повезло с направлением на двери:
– Пойдёте в военный госпиталь № 3187, подойдёте к начальнику Ризвашу. Понятно?
– Да, товарищ лейтенант.
Лейтенант, чтобы подать ему направление сделал шаг из-за стойки. А при следующем шаге его голова опустилась ниже обычного. Рашид перевёл взгляд на ногу офицера. Вместо ноги из брюк выглядывал деревянный заточенный брус. Глаза Рашида столкнулись с взглядом офицера, который догадался о его мыслях.
– Ампутировали, – ответил офицер на безмолвный вопрос Рашида, который повис в его глазах. – Живу, ничего. Знаешь, где находится гостиница «Дагестан»? Там у нас первый госпиталь за номером 3187 на 1200 коек. Как фронтовая база северной группы войск Закавказского округа. Оттуда идёт весь поток раненых.
– Знаю.
– Под госпитали отведены лучшие места города, – продолжил офицер, который был расположен к беседе. – Тридцать восемь школ, двадцать шесть общежитий, пятнадцать учебных заведений и семь гостиниц. Руководство над госпиталями осуществляет нарком здравоохранения М.С. Яникиан, эвакогоспиталями занимается доцент О.Б. Бароян. Знаешь его – он преподаёт в вашем институте.
– Знаю.
– А других ваших – Цюпака, Владимирцева, Магомедову и Казанфарову – отправили в Дербент, в госпиталь номер 1628. Знаешь?
– Да.
– Удачи тебе. – Он потянул руку на прощание. – И ещё: скажи хирургам, пусть не отрезают ноги, если можно их лечить. Непривычно как-то, и всё время болит. И ещё я не женатый.
Рашид грустно помотал головой.
– Хорошо, я скажу об этом хирургам. – Он выдержал паузу, желая спросить офицера, сколько же тому лет, но промолчал.
– Да, я скажу: «Не отрезайте ноги людям». Скажу.
Пробираясь к гостинице «Дагестан», Рашид мысленно представил ужасы войны: отступление советских войск под натиском врага по дорогам, по городам, просёлкам, где днём и ночью шли грузовики, пешие колонны, а рядом рвались снаряды. Тысячи раненых, искалеченных людей, которые нуждались в лечении… «Главное – ноги не отрезать».
СПРАВКА: ВОЙНА. ЭВАКОГОСПИТАЛИ
В 1942 году немецкие штурмовые отряды вошли на Кавказ, подогреваемые уверенностью в лёгкой победе. Поскольку основные советские силы были сосредоточены на обороне столицы – Москвы – и Ленинграда, лучшего момента для оперативного наступления было не найти. Оккупация Кавказа решала главную задачу вермахта – обеспечение наступающих войск бакинской нефтью и хорошим стратегическим плацдармом.
Сталин, как выдающийся военачальник, не мог не осознавать последствия захвата Кавказа врагом. Поэтому оборона Кавказа и его обороноспособности выступила на передний план боевых операций по фронту. Вместе с тем контролируемое отступление на Кавказе было стратегическим манёвром Сталина, о котором вермахт даже не догадывался. Увлечённые и опьянённые успехами и ни о чём не догадываясь, немцы сосредоточили на Кавказском направлении шесть дивизий. Против них стояли три советские армии, которые оттягивали силы противника подальше от главного стратегического центра – Сталинграда. Немецкие части растянулись, тыл расширился и ослабел: танковые соединения останавливались из-за нехватки горючего, а советские соединения, которыми руководил командарм Будённый, больше стояли на местах, получая подкрепление строго по регламенту. Правда, были ошибки из-за кавалерийского мышления командарма, который по-прежнему считал кавалерию самым эффективным средством для решения исхода сражения. Кроме советской армии у немцев появилась ещё одна проблема – горы, против которых их техника была бессильна, а их прославленные горные егеря оказались бессильными против местных красноармейцев, которые знали каждый кустик.
Шла война, и шёл поток раненых, которых надо было лечить и возвращать в строй. Дагестан стал прифронтовой зоной и местом, где была организована сеть эвакуационных госпиталей. К началу 1942 года были организованы несколько десятков госпиталей на 9000 коек: в Махачкале – 20, в Дербенте – 10, в Буйнакске – 16, в Каспийске – 13, в Избербаше – 2, в Хасавюрте и Кизляре – по три. В Махачкале функционировали госпитали № 3187 на 1200 коек в гостинице «Дагестан», № 1614 на 600 коек, № 4650 на 1200 коек в механическом техникуме, № 4651 на 350 мест в школе № 5, № 2924 на 1200 коек в здании пограншколы…
В Махачкалинском госпитале № 3187 под начальством доктора Д.Н. Розена был организован специальный корпус на 300 мест со специализированными отделениями: хирургическое на 80 коек с начальником Р.А. Цюпак, челюстно-лицевое, возглавляемое профессором М.М. Максудовым, на 50 коек, неврологическое под руководством Х.О. Булача – на сто мест, отоларингологическое под руководством доктора В.А. Лихтенштейна – 50 мест, глазное – на 50 мест
Ведущий хирург челюстно-лицевого отделения госпиталя № 3187 М. Максудов восстанавливал обезображенные ранением лица и своим благородным трудом помогал советским воинам освободиться от физических и моральных травм.
В эвакогоспитале № 5011 доцент М. Нагорный применял методы вторичного шва, костной и мышечной пластики, благодаря чему в короткие сроки к раненым возвращалась общая трудоспособность. Под его наблюдением молодые врачи, воспитанники Дагмединститута, осуществляли сложные операции по реампутации конечностей, ранений грудной клетки и живота.
Начальником эвакогоспиталя № 1614, прибывшего в Махачкалу 11 ноября 1941 года и размещённого в школе № 13, был заслуженный врач ДАССР С.Ю. Алибеков, затем коллектив госпиталя возглавил доктор Ф.А. Голубцов. Здесь работали врачи А.В. Черняева, А.А. Ерёмина, К.Д. Бочарников, Р.И. Израева, А.А. Зайденберг и др.
Ведущим хирургом был проф. И.Ф. Маклецов. Часто посещали госпиталь и консультировали больных профессора Дагмединститута В.Г. Божовский, А.Г. Подварко, М.С. Доброхотов, И.Н. Пикуль, А.В. Россов. Средний и младший медицинский персонал госпиталя состоял главным образом из числа жителей Махачкалы.
На внутригоспитальных курсах за короткое время было подготовлено свыше ста фельдшеров и санитарок. Прежде всего они были обучены технике переливания крови. Этой сложной и ответственной процедурой лучше всех овладели медсёстры М.П. Лосева, У. Сулханова, Е.А. Лукина, А.Е. Мережкина, Х.М. Рахматуллина (впоследствии отличник здравоохранения СССР) и др.
Свыше 33 тыс. бойцов получили в этом эвакогоспитале медицинскую помощь. Одновременно здесь могли разместиться более 1200 раненных воинов Красной армии. Благодаря хорошей постановке лечебной работы коллектив эвакогоспиталя № 3187 добился возвращения в строй более 70% поступивших на лечение бойцов.
Между тем ни на один день не забывали о развитии медицинской науки: в госпиталях были организованы курсы повышения квалификации, чётко налажено шефство над молодыми специалистами. День за днём в госпиталях шла кропотливая работа, причём ни одна хирургическая операция не повторяла другую – всё время шёл поиск новых методов лечения.
В Дербентском госпитале под руководством доктора А.Ф. Серенко внедрили эффективный метод лечения, который способствовал выздоровлению раненых солдат. Новый метод повязки военного врача Пономаренко – «фиксирующая гипсовая при переломах плеча» – не только экономил перевязочный материал на пятьдесят процентов, но и облегчал состояние больного. Здесь также отличились врачи Цюпак, Рейслер, Шаповалова, Синько.
В 1942 году в Дагестане была создана фронтовая госпитальная база северной группы войск Закавказского округа, через который шёл основной поток раненых. Управление госпиталями разработало специальные мероприятия по неукоснительному соблюдению санитарного режима обслуживания раненых.
Полевая санитарная служба северной группы войск Закавказского фронта признала группу госпиталей Дагестана единственной базой передового этапа эшелонированного лечения. Быстро был решён вопрос о создании госпиталей для реэвакуации, а в самих госпиталях – реэвакуационных отделений. На основании приказа Наркомздрава ДАССР по отделу эвакогоспиталей, принятого 28 мая 1942 года, было решено создать в здании кинотеатра «Комсомолец» сортировочный госпиталь.
Для лечения в госпиталях активно стали применяться физиотерапия, лечебная физкультура, диетическое питание и переливание крови. Госпитали стали получать помощь от населения: около двухсот организаций Дагестана шефствовали над ними – люди несли тёплые вещи, овощи, фрукты, ухаживали за больными, сдавали кровь.
В госпиталях была налажена культурно-массовая и партийно-политическая работа: три раза в неделю показывали новые кинокартины, артистами театра им. Горького часто проводились концерты. Покинув стены госпиталей, воины откликались с фронтов в благодарность за заботу и внимание:
«…Мы – красноармейцы, сержанты и офицерский состав – многие прибыли в эвакогоспиталь № 3187 в бессознательном состоянии, совершенно не могли двигаться, сами не верили в спасение наших жизней. Однако, прибыв в этот госпиталь, мы с первого дня были окружены большим вниманием и заботой со стороны медперсонала госпиталя. Они отдавали все свои силы, все свои знания в дело восстановления нашего здоровья и нам сейчас не только спасли жизнь, но и сделали нас способными воинами, дали нам силу и здоровье ехать вновь на фронт – добивать кровавого врага. Большая заслуга в этом принадлежит начальнику эвакогоспиталя, подполковнику м/с Розен и зам. по политчасти капитану Сафаралиеву, а также докторам т.т. Рабаталову, Лихтенштейну, Максудову, Гениснан, Гуляницкому, Джангуватовой, Фисенко и хирургу Цюпаку Роману Александровичу, проф. Булач, док. Чудносоветову и Зубову».
В марте 1942 года Наркомздрав РСФСР издал приказ о привлечении научной медицинской общественности к обобщению опыта лечения раненых в госпиталях и разработке практических мероприятий по дальнейшей организации госпитального дела. Во исполнение этого приказа при Наркомздраве Дагестанской АССР был создан госпитальный совет, в который вошли 20 человек. Среди них – профессора С.И. Ризваш, С.М. Петро, В.Г. Будылин, И.И. Шаров, А.Г. Подварко, О.А. Байрашевский, И.Н. Пикуль, Х.О. Булач, доценты Д.Г. Коваленко, Н.Т. Гительман, Е.М. Варшавский, Н.А. Сергулин и др.
В июле 1943 года в Дагмединституте прошла научная конференция, посвящённая 25-летию советского здравоохранения. На конференции было заслушано 28 докладов, бóльшая часть которых посвящалась практике лечения больных в госпиталях Дагестана. Всего за годы войны было проведено 8 республиканских совещаний медицинских работников, 4 научно-оборонных съезда врачей и 53 межгоспитальных научных конференции. На республиканских совещаниях и съездах врачей было заслушано 238 научных докладов, на межгоспитальных конференциях – 111 докладов и 30 демонстраций.
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ГОСТИНИЦЕ «ДАГЕСТАН»
На пешеходном переходе перекрёстка ул. Дахадаева и Вокзальной Рашид, услышав сигнал грузовика, который вырулил от госпиталя в строну вокзала, ускорил шаг и стал взглядом провожать его, пока не скрылся за поворотом.
– Ещё утро, а уже третья машина, – проговорила пожилая женщина, сидевшая на первой ступени лестницы, ведущей в госпиталь. – Раненых везут без конца.
– А вы почему здесь сидите, мамаша? – спросил Рашид. – Машины считаете?
– Нет, – ответила женщина. – Я приехала к сыну. Он попал сюда десять дней назад. Я скоро заберу его домой.
– А как зовут?
– Нестеров. Капитан Нестеров. Лётчик. Его оперировали, и его уже выписывают.
Рашид кивнул в знак сочувствия, но промолчал. В госпитале тысяча пациентов – кто знает о лётчике Нестерове?
– Он подбил много немецких самолётов, – продолжала мать, – у него много орденов. Он ещё совсем молодой. Я буду ждать его здесь. Я не хочу уходить.
Двадцатидвухлетний студент мединститута Рашид Аскерханов – высокий, с зачёсанными назад волосами, – толкнув массивные двери с тугой пружиной, переступил порог госпиталя. Дверь оглушительно хлопнула, и Рашид от неожиданности вжал голову в плечи. Из вестибюля вправо и влево – широченные коридоры, тоже со сводами. Внутри он оказался среди суеты: молодые сёстры с тазиками, шприцами, бинтами в руках мечутся по коридору с высокими потолками. Врач в углу под лестницами заполняет карточки. Дежурная сестра – полусонная, с пилоткой на голове, из-под которой торчат копны непослушных волос, – сидит за столиком возле стены под портретом Сталина. Увидев Рашида, она зашевелилась и по-военному спросила незнакомца:
– Вы к кому?
Рашид подошёл близко к столу и уставился на орден Красной Звезды, красовавшийся на груди сестры.
– Ух ты! Вы герой, вынесли с поля боя двадцать пять раненых?
Сестра оставила восхищение незнакомца без внимания.
– Вы к кому?
– Я знаю, – продолжал Рашид, проигнорировав вопрос дежурной. – Пятнадцать раненых с их оружием дают награду «За боевые заслуги», двадцать пять раненых – орден Красной Звезды, а сорок – Орден Красного Знамени. Ваш случай – второй. Так? А почему вы сонная на боевом посту? И как вас зовут?
Сестра вдруг выправилась и стала смотреть за спину Рашида.
Рашид оглянулся и увидел пожилого грузного мужчину в белом халате и очках, с тонометром, подвешенным через шею.
– В чём дело, молодой человек? – спросил он сиплым голосом. – Вы из мединститута?
– Да, – ответил Рашид.
– Вам интересно, почему она сонная? – произнёс он прозаически. – Я отвечу. Ей с утра довелось разгружать прибывшие с вокзалов автомашины с ранеными, потом таскать беспомощных людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, простыни, солдатское бельё. Помимо этого – уход за ранеными, помощь в операциях, перевязки, уколы, раздача лекарств, бессонные дежурства… Я посмотрю на вас через пару дней – как будет улетать с вас спесь! Следуйте за мной.
Рашид молча повернулся, чтобы последовать за широкими плечами врача госпиталя. Потом, быстро вернувшись к столу дежурной и храня на лице ухмылку, тихо спросил:
– Кто это?
– Хирург Петро.
– Это имя или фамилия? – спросил Рашид. – А как по отчеству?
– Никак. Его просто зовут Петро.
– Почему?
– За гениальность, – заключила дежурная.
Петро остановился и оглянулся.
– Молодой человек! Следуйте за мной! – Приказной тон.
– И что мне будет? – успел спросить Рашид у медсестры.
– Неделю будешь дежурить на кухне, – с угрозой и улыбкой произнесла дежурная.
– Да, хорошая перспектива, – произнёс Рашид. – Ты мне так и не сказала, как тебя зовут. – Он побежал догонять Петро, но, сделав несколько шагов, вернулся опять.
–Там женщина ждет сына Нестерова,– сообщил Рашид с состраданием.– Поможете ей?
–Нет,– коротко выдохнула медсестра.
–Почему?
–Потому что ее сын умер два дня назад. Когда ей сказали об этом, она сошла с ума.
Рашид замер с открытым ртом.
–Юноша! Следуйте за мной!– Рашид вновь услышал голос Петро. Его хорошее настроение и спесь улетучились окончательно, как только в коридоре он увидел раненых бойцов: перевязанных, стонущих, прикованных к постели. Ужас! И таких здесь тысяча двести человек?
Петро в нерешительности остановился перед дверью кабинета главврача с поднятой в локте рукой, чтобы постучаться: оттуда доносились голоса на высоких тонах. Через несколько секунд он побарабанил в дверь согнутым указательным пальцем.
– Войдите! – крикнул злой голос.
ССОРА
Вот он, начальник госпиталя Дмитрий Николаевич Розен – старый, с седой головой и решительным взглядом, организатор и доктор наук. Напротив него сидит худощавый молодой офицер с линии фронта.