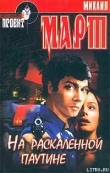Текст книги "Скобарь"
Автор книги: Лев Успенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Ну что ж добавить к этому рассказу? Водокачку до конца войны много раз снимали наши летчики: она оставалась разрушенной. Мост финны кое-как восстановили недели три спустя – до этого поездам приходилось огибать его далеко к северу.
А на лезвии финского ножа, лучшего из принесенных Иваном Журавлевым, вырезана гордая надпись:
«Ахти Вирттанен. Кеггусаари. Да здравствует Суоми до Урала!»
Иван Журавлев очень дорожит этим ножом. Он им вскрывает консервы.
ТЕЛЬНЯШКА
Это очень короткий рассказ. Тем не менее в нем соединены две истории. Впрочем, первая из них до известной меры объясняет вторую. Все же вместе, можно думать, учит тому, как полезно для командира узнать русский язык во всех его наречиях и диалектах, а также тому, какова настоящая русская смекалка и как относятся немцы к нам, советским морякам.
Пейзаж прост, скуп: сосны, песок, железная дорога – пятый километр в тылу у противника.
Задание обычное: достать «языка».
Глубокой осенью, отправляя маленькую группу разведчиков за рубеж, капитан-лейтенант озабоченно сказал старшине при Журавлеве:
– Очень важно, Габов, привести «языка». Понятно? «Язык» нам сейчас вот как нужен. Разбейся, но приведи.
Журавлев удивился новому слову, но, как человек вежливый, не стал надоедать вопросами командиру. Он предпочел в дороге обратиться к старшине.
– Товарищ старшина, – спросил он, легко шагая своими неутомимыми ногами лесника по мокрому октябрьскому бурелому, – чего это командир-то велел? Какого еще языка ему нужно?
– Обыкновенного. Немца. Надо выяснить, какие тут новые части у них стоят.
– Привесть ему немца? Капитану? – почтительно осведомился скобарь.
– Ну да, капитану. Надо сделать, брат Журавлев.
– Да уж коли велено, так, видать, надо! – дисциплинированно заметил Иван Егоров. На этом их разговор и окончился.
Старшине Габову никак не могло прийти в голову, что слово «привести» имеет для прирожденного псковича совсем особое значение, что на севере Псковщины сплошь и рядом говорят: «Я вчера много грибов из лесу привел», или: «Смотри-ка, какую я палку себе привел».
Дальнейшие события развернулись так.
Группа, совершив разведку, пришла без потерь, принеся ценные сведения, небольшие трофеи (шкатулку с документами, новой марки мину от ротного миномета), но немца захватить не удалось. Журавлев же – это за ним водилось, и отучить его от партизанских обыкновений было нелегко – где-то отстал и не вернулся вместе с другими.
Никто особенно не встревожился: медведь в лесу не пропадет! Его даже не вздумали записывать в «без вести пропавшие». Журавлева уже знали.
И на самом деле, утром следующего дня он стал перед Савичем, как лист перед травой.
Из разговора выяснилось, что он «взял маленько левее», наткнулся на тяжелую батарею противника, засек ее местоположение, переночевал в стоге сена, долго следил за лесозаготовками врага (немцы строили там блиндажи на высотке), подсчитал число машин, идущих по дороге в К., – словом, сделал немало. Савич пожурил его за излишнюю предприимчивость, проявленную без разрешения начальства, и хотел уже отпустить, считая разговор оконченным.
– Товарищ капитан! – сказал тогда вдруг Журавлев. – А я к вам там фюрера одного привел…
Савич так и подпрыгнул:
– Как фюрера? Немца? Да что ты говоришь? Чего ж ты раньше молчал? Где он?
Пскович небрежно кивнул за окошко по направлению к лесу, вплотную окружавшему савичевский штаб.
– Да эва, на покрестнях, коло заставы ляжить!
– Лежит? – удивился командир. – Почему лежит? Он что, раненый, что ли?
– Дохлый! – безмятежно ответил Журавлев, тщательно свертывая крученку. – Ну, в превеликую силу доволок; думал, всё мое – не доволоксти!
– Как дохлый? – ужаснулся Савич. – Так на кой же мне черт мертвый немец? И ты его от них сюда мертвого на себе тащил? Голубчик мой, да мне мертвых совсем не надо…
Скобарь перестал крутить табак и, открыв рот, недоуменно воззрился на командира.
– Не, он пёрва живой был… горазд живой. Кусался! Идти ни в жисть не хотел…
– И ты что же, убил его?
– Не, зацем бить? Сохрани бог, я его не бил! Так, помял цуток: уж оцень брыкается, никак с ним не сообразишь…
– А он?
– Сдох цаво-то, – огорченно пожал плечом этот удивительнейший человек. – Ну ж, я думаю, хоть ты дохлый, хоть ты живой, а я ж тебя привяду к капитану! Вот и привел. А знал бы, цто он вам не горазд надо, – да стал бы я его зря столько волоксти, падину такую…
– Вот, понимаете, – говорит и сейчас Савич, – и смех и грех с ним! Черт ли его знал, что у него «привести» и «принести» путаются. Ну что ж? Вышли мы на улицу… Лежит немчик. Щупленький такой, лет двадцати… Ефрейтор, Эрвин Хаазе из Билефельда на Рейне. До войны был приказчиком в универмаге. Вот тут у меня письма от его Анны Лизы, карточка, талисман с богородицей какой-то… Как же, спасет богородица от таких лап! Эх ты, Жоров ты, Жоров!..
Над Журавлевым смеялись в отряде целую неделю. Немца зарыли около дороги под сосной.
Когда же неделю спустя наметилась новая операция, Журавлев уже проявлял полное понимание того, что значит термин «привести языка», и усердно просил у командира разрешения выполнить эту задачу.
Вот тщательно переписанный отрывок из рапорта старшего сержанта Самуила Кацмана о том, что произошло в тот день в тылу у противника возле сто двенадцатого километра железной дороги.
«Подойдя к полотну кустами, по азимуту 106, как раз в том месте, где оно сходится с железной дорогой, мы залегли. Шоссе отлично просматривалось на протяжении 150–200 метров в самой вершине образуемого им здесь крутого извива. По шоссе из Кирилловки в Огнево в это время шел обоз. Нами были подсчитаны 65 фур с обмундированием и порожней тарой от боеприпасов. Обоз шел под сильной охраной, так что обнаруживать себя противоречило смыслу.
Обоз выходил из-за кустистого косогора справа и скрывался влево за таким же кустистым холмом. Когда последняя подвода прошла, я уже намеревался переменить позицию, но в эту минуту на открытое пространство выехал из-за поворота фашистский офицер на велосипеде. Отстав на сотню-другую метров от своих, он газовал вовсю, очевидно боясь одиночества.
Когда он почти поравнялся с нами, краснофлотец Журавлев, не дожидаясь приказа с моей стороны, одним прыжком настиг его и, сбив с машины, скрутил ему руки. Затем немец был перетащен в кустарник, обыскан и оказался обер-лейтенантом 391-го пехотного полка Гергардом Шпехтом, который при сем препровождается. Велосипед утопили в яме с водой.
Считая, что ввиду взятия языка основная цель нашей операции достигнута, я приказал начать отход.
До деревни Глушково мы прошли лесом совершенно спокойно (дозоры выдвигались метров на двести вперед; пленного конвоировал Журавлев; я снова вел группу по азимуту, так как в тумане и мелком дожде ориентироваться было трудно).
У Глушкова нам пришлось пересечь жел. – дор. полотно. При этом группа была замечена путевыми обходчиками немцев; они начали перестрелку от казармы участка службы пути. Силой до отделения противник стал преследовать нас.
Здравый смысл подсказывал, что опасно не само преследование, а тот шум, который оно может создать при нашем подходе к фронту. Я решил во что бы то ни стало оторваться от противника. Это затруднялось присутствием пленного, и я уже склонялся к тому, чтобы избавиться от него, но Иван Журавлев предложил выход, не лишенный остроумия.
В кустах у ручья он разделся и, сняв с себя флотскую тельняшку и бескозырку, напялил их на немецкого офицера, а его вещи зарыл в муравьиную кучу, опасаясь насекомых. Такое переодевание блестяще достигло цели: фашист, до сих пор следовавший за ним с явным страхом и неохотою, теперь стал жаться к нам и прятаться в середину группы, боясь, очевидно, что немцы, приняв его за русского моряка, не станут вглядываться, а застрелят на расстоянии.
Таким образом мы быстро пересекли болотистый луг, что северо-восточнее Глушкова, и, оставляя домик лесничего вправо, а тригонометрическую вышку влево, ускоренным маршем прошли фронт. Следует отметить, что пленный офицер бежал за нами все время рысью, иногда даже несколько опережая нас.
В 22 ч. 07 м. мы встретили нашего дозорного, а в 0 ч. 45 м. прибыли на базу».
Вот и вся история.
КЛЮЧЕВАЯ ВОДА
Любил Журавлев перед сном горяченького чайку попить. Но как попить! Не по-городскому, не стаканчик-другой, а по-настоящему.
Вскипятит целый котелок чистой воды, заварит из заветной красненькой жестяночки порцию душистой травки – и сидит, хрустит сахаром, пока вода вся. Опустеет котелок – второй согреет. Опорожнится второй – и третий поставить небольшой труд. Лишь бы воды было вволю!
Товарищи по отряду часто, просыпаясь на нарах блиндажа, кто с умилением, кто с досадой видели одну и ту же картину: стоит шаткий столик с мигающим ночничком, из алюминиевой посудины клубится и расплывается под бревенчатым потолком густой пар, а Журавлев Ваня сидит, причмокивает, похрустывает сахарком, прихлебывает горячий чай и, кажется, даже стонет от наслаждения: «Эх, хорошо брюшко попарить! Лишь бы воды хватило!»
Вот из-за воды и случилась эта история.
Дело в том, что нет на свете более придирчивого, более капризного знатока и ценителя всяческих «вод», чем Иван Журавлев.
Бывало, как только отряд остановится на новом месте, Журавлев уже вертится у колодца и пробует воду. И ведь как пробует! Можно подумать, что это не простая вода, а какой-нибудь драгоценный и тончайший напиток, выдержанное столетнее вино. Он и глаза возведет к небу, и нос наморщит, и языком прищелкнет. Но одобряет качество воды он очень редко. «Ницаво, – говорит, – водицка; ну только будто она маленько сыростью попахивае!»
И все вздыхает по какой-то небывалой, «цистой, што слезина», ключевой воде, которую он будто бы пил у себя в своей «Пяцорщине».
В том же месте, где отряд остановился в январе месяце сорок второго года, вода, как на грех, оказалась совсем плохой.
Имелся какой-то полуразвалившийся колодезишко, но разве Журавлева такой дрянью удовлетворишь? Колодец этот для него был поводом нескончаемых огорчений и постоянной воркотни.
Он находил, что сруб в нем осиновый, «цухонский» («а это уж, брат ты мой, последнее дело!»). Он утверждал, что в этот колодец, наверное, в пасмурные дни «оттепельная вода затекае». Он допускал даже, что «оцень может быть, в этом колодце осенью кошка утопла». А что до лягух, то их там, на его взгляд, плавают сотни. Даже краснофлотец Вайда, который, по презрительной оценке Журавлева, «воды от карасина не отлицае», и тот что-то начал принюхиваться. Сам Журавлев и совсем перестал пить воду из этого колодца, даже умывался снегом.
Об огорчении Журавлева узнал капитан-лейтенант и решил помочь ему. На карте-полукилометровке, сравнительно недалеко от того места, где разместился отряд, Савич отыскал малюсенький голубой кружочек с таким же голубым извилистым хвостиком. Справьтесь в условных знаках топографов, и вы узнаете, что такой кружочек означает родник, источник, ключ.
– Вот, брат ты мой Журавлев, где должна быть вода по твоему вкусу! – сказал капитан-лейтенант. – Видишь? Вот тут, где две тропинки сходятся. Вот там уж вода – так вода!
Казалось бы, дело в шляпе. Однако одна мелочь помешала Журавлеву немедленно сбегать на этот пока еще неведомый ему «клюцок» и насладиться вечерним чаепитием. Ключ был всем хорош, да лежал он как раз между нашими и немецкими позициями, на равном примерно расстоянии, на «ничьей» земле, где не было ни единой живой души и где по сосновым перелескам, по взгорьям и болотцам бродили по ночам только минеры да разведчики обеих сторон. Вечером Журавлев явился к старшине Габову с пламенной мольбой отпустить его на «тэй клюцок» за «цистой водицкой».
Для старшины Габова отпустить краснофлотца, тем более такого старого лесного медведя, как Журавлев, в лес за передний край или даже в тыл противника вовсе не представлялось невозможным.
Но все же некоторое время он колебался.
Однако Журавлев умел настоять на своем. Он красноречиво изобразил адские муки, которые испытывали без горячего кипятка и его желудок и его «скопская» душа. Вместе с тем он так искусно расписал прелесть душистого грузинского чая, настоянного на чистой, как хрусталь, ключевой воде, что Габову и самому захотелось попить чаю.
– А ну тебя, Журавлев! – с досадой сказал он наконец. – Вот, ей-богу, пристал… Да сделай милость, ступай. Только смотри, помни, куда идешь. И чтоб дома быть к сроку!
Журавлев снарядился и пошел. Снарядился он основательно: взял с собой большое брезентовое ведро, чтобы принести «водицки поболе», вооружился ППД, захватил и гранаты.
Скрипя лыжами, он пересек открытые места и скрылся в подлеске. И Габов, глядя ему вслед, покачал головой: «Удивительно! На людях прямо пентюх-перепентюх, нескладней его и краснофлотца нет, а как чуть в поле, в лес – и где ты найдешь ловчее? Вон, погляди, побежал как, словно рысь какая!»
Войдя в лес, Журавлев и на самом деле почувствовал себя как дома. Тут ему не надо было ни во что вглядываться, ни во что вдумываться, как приходилось делать в тех непролазных трущобах, которые называются городами. Тут с ним каждый пень на знакомом языке говорил.
Мороз был такой, что дух захватывало. Ну и что? Шуба на плечах, да на морозце веселей бежать!
Вот елка стоит… Снежок-батюшка ветки придавил к земле, вышел такой шалашик. Из шалашика чуть заметный парок потягивает. Значит, там спит заяц, пуганая душа. Вот редкой строчкой от дороги в сторону бежит важный след, нога в ногу: волк прошел. Куда ж это ты ходил, хозяин? А вот близ тропинки другой следок, похожий на тот, да не совсем: путанный, сбитый. Это бежала непутевая рыжая собачонка саперного взвода. А у того куста почему ветки разогнуты? Это немец мину на морозе прятал. Думал, куст, как всегда, – опустишь его, он и выпрямится. А он закоченел, замерз на холоду и стоит теперь, кричит: «Иван Егоров, Иван Егоров! Не подходи ко мне! Я хоть и куст, да заряженный!»
Выйдя на большой бугор, Журавлев на ходу задумался и пошел к желанному источнику не тропой, а напрямик, кустами и вышел, как по заказу, прямо на ключ. Вышел и умилился.
Солнце давно уже село. За плечами всходила луна. Теплая вода родничка внизу, под косогором, проела черную выемку в белом снегу и ручьем бежала вниз. От ручья поднимался густой туман и тут же оседал тяжелым серебром на кустиках и ветках. Высокая сосна над источником у самого склона оврага стояла вся в инее, вся розовая под лучами заката. От воды, испугавшись шагов скобаря, сорвалась и порхнула в кусты какая-то серенькая птичка. Значит, никого поблизости нет. Великая красота, глушь и тишь!
Журавлев оставил лыжи на склоне холма и сбежал вниз. Вынув из кармана флотскую кружку с красной звездой, он зачерпнул воды, озабоченно попробовал ее и просиял:
– Эх, ну и водицка!
Ведро пришлось, конечно, сначала ополоснуть; может, из него коней поили! Закинув ППД за плечо, Иван Егорович стал на камни, нагнулся над ручьем, набрал полное ведро и вдруг застыл так, не разгибаясь, над источником. И было отчего.
Совсем недалеко от него за кустами хриплый немецкий голос сказал:
– Нун, Руди, эс ист хир, варшейнлих? Нимм йа ди маппе аус![3]3
Ну, Руди, это тут, по-видимому? Достань-ка карту! (Немецк.)
[Закрыть]
В следующий миг около источника уже никого не было. Вода продолжала течь, некоторые ветки еще покачивались, черная дырка от водяной струи все еще темнела, обмерзая, на снегу, но человека не было.
Иван Журавлев сидел теперь, скорчившись, за густым можжевеловым кустом выше по склону, около своих лыж.
Он поставил полное ведро на снег. Чуть-чуть шевеля плечом, он начал спускать ремень ППД на локоть и замер.
Немцы, два немца, шли по тропе справа. Обвешанные каким-то барахлом, глубоко проваливаясь в снегу, они шли и несли что-то небольшое, но тяжелое в мешках за плечами. В первый миг по наивности Журавлев вообразил, что они тоже явились сюда, к этому ключу, за хорошей водой. Но тут же понял, что это совсем не так. Немцы дошли в это время до развилки дорог, которая приходилась напротив, немного пониже того места, где засел Журавлев. Тут они остановились. Краснофлотец увидел их совсем близко и очень ясно.
Один немец был высок и худ. Голова его поверх пилотки была обмотана вязаным рваным платком; френчик, протертый на локтях, топорщился, потому что под ним, очевидно, было накручено много тряпья. Красное, обросшее, стянутое платком лицо с большим помороженным горбатым носом казалось узким, длинным, лицом бородатой старухи.
Второй был поменьше и покруглее. На его голове был надет серый подшлемник. Валенки, обвязанные для прочности веревками, украшали ноги. На руках были грубые варежки разного цвета.
Немцы стояли в каких нибудь пяти метрах от Журавлева. Разглядев их, он внезапно таким же тихим движением плеча отодвинул ремень ППД обратно на старое место. Осторожно потянулся снова к своему брезентовому ведру, приподнял его за тесьму на воздух, перехватил под дно левой рукой. Ноги его напружились, глаза впились в немцев. Можно было подумать, что он вот-вот пустится бежать от них по кустам.
Из-за леса вставала огромная луна. Немцы о чем-то негромко разговаривали. Длинный (он, видимо, был старшим) показал пальцем вперед, потом вправо, потом опять вперед. Кругленький поднял руку. В варежке его был зажат лист бумаги, наверно карта. Толстяк протер очки, потом, также не снимая варежек, попытался развернуть бумажку. Наконец это ему удалось. В тот же миг рядом громко щелкнула на морозе сосна. Немцы вздрогнули, оглянулись. «О тойфель!»[4]4
О черт! (Немецк.)
[Закрыть]– с сердцем выругался длинный и зябко содрогнулся.
Маленький поднял бумажку к очкам. Длинный наклонился к нему. Их головы сблизились, носы почти касались один другого. И в этот миг…
В этот миг Журавлев одним рывком выплеснул все ведро своей ледяной воды прямо в физиономии немцев. В лунном свете холодными искорками рассыпались бесчисленные брызги. Вода хлестнула по лицам, окатила платки и шлемы, побежала по одежде, потекла за воротники, на руки…
Если бы на этих двух немцев выскочил из кустов взвод русских, они, вероятно, открыли бы стрельбу, стали бы отбиваться. Этому их учили. Начни около них ложиться в этот миг русские мины, они упали бы на землю, постарались бы вжаться в нее, затаиться, отползти. Мины – вещь неприятная, но знакомая.
Но когда вот так, в лунной мгле, на этом сумасшедшем сорокаградусном русском морозе прямо тебе в лицо ударяет струя невыразимо страшной, жгущей хуже, чем кипяток, ледяной январской воды, – нет уж, тут, простите, тут кто угодно потеряет рассудок.
Вода и мороз! Щеки, губы, глаза – все это в один миг обросло холодной корой, точно сама смерть схватила тебя за бороду. Острые струи побежали смертельным ознобом за шиворот, в рукава. «О господин взводный, мы погибли!»
Вот почему, когда вслед за водой на них сверху, со склона оврага, обрушился русский с автоматом, да еще матрос в черной ушанке, они даже не подумали сопротивляться. Безнадежно, дрожа всем телом, они подняли вверх свои мокрые, коченеющие руки.
Много дней после этого Вайда, стоявший в ту ночь на вахте около своего блиндажа, все не мог успокоиться, все ходил от краснофлотца к краснофлотцу и рассказывал всем по очереди:
– Да нет, как же… Луна во все лопатки, тихо, морозно… Видно далеко, слышно еще дальше… Смотрю: что такое? Бегут… Бежит наш Иван и этих двух перед собой гонит. И шибко так гонит, все рысью, рысью… Пробегут немного, он: «Стой, стой, хрицы безмозглые! Стой, говорю! Три нос! Крепце три, тЮпа нямецкая! Сморозишь морду! Три!» И сам трет, помогает…
Около часу ночи оба немца – обер-ефрейтор Ганс Шнабель и рядовой Рудольф Деммеле – были доставлены в отряд Савича. Оба оказались в очень тяжелом состоянии; их тотчас отправили в госпиталь. А Ивану Журавлеву пришлось отложить свое чаепитие до следующего дня.
УХОД СКОБАРЯ
В конце января или начале февраля в штаб савичевской группы должен был прибыть командир одного очень прославленного партизанского отряда, много месяцев работавшего в глубоком тылу противника.
В расположение наших частей партизаны являлись часто. Командиры и краснофлотцы обычно с глубоким и теплым чувством оглядывали идущих по асфальтированному шоссе людей, увешанных немецкими автоматами, с немецкими яйцеобразными гранатами у пояса, одетых в самые разнообразные пестрые одежды. Все они были неописуемо бородаты, похожи на каких-то лесных гномов: черные, заросшие до глаз. Копоть костров лежала в морщинах лба и щек, глаза казались красными от дыма.
Их водили в баню. Люди, месяцами сидевшие в лесных землянках, долгие недели видевшие человеческое жилье только по ночам, в зареве пожаров, в ярком пламени зажигательных бомб, с детским восторгом кидались к душам, к горячей и холодной воде. Они с наслаждением топали босыми ногами по шероховатому цементу полов. Рыча от блаженства, они парились, брызгали струями воды друг в друга, ухая, залезали в чистое теплое белье, починенное заботливыми руками. С трепетом выслушивали они сообщение, что завтра в кино им будет показан «Богдан Хмельницкий», и, не веря себе, вытягивались на пружинных койках. Зато наутро на камбузе краснофлотцы тщетно искали глазами давешних изнуренных бородачей: за столом сидела шумная компания гладко выбритых юнцов, буйно веселых, ясноглазых, крепких.
Все мы с любопытством и радостью следили за такими веселыми превращениями. Но, может быть, всего внимательнее, с особенной жадностью, неотрывно вглядывался в приходящих партизан Иван Журавлев. Они больше всего интересовали его именно тогда, когда от них пахло лесной сыростью, прелым листом, горьким дымом, землей и мхом. Он обязательно задерживался около них, вступал с ними в долгие разговоры, о чем-то расспрашивал. А когда после короткого отдыха тот же отряд, подкрепившись, подтянувшись, снова грузился в машины или в тракторные прицепы, увозя с собой тюки листовок для немецкого тыла, ящики со взрывчаткой, мины, оружие, продовольствие, Журавлев подолгу стоял где-нибудь в стороне над мокрым от дождя шоссе и слушал, как доносится, постепенно слабея, веселая песня и как затихает фырканье мотора.
Да, но все это были партизаны ближние. Они являлись к нам из недалеких сравнительно мест, из оккупированных районов, лежавших непосредственно за линией фронта. А теперь к капитан-лейтенанту Савичу должен был прибыть командир большого отряда, целого соединения партизан, которые действовали за много десятков, даже за сотни километров от нас, там, у берегов Псковского озера.
О деятельности этого отряда многократно упоминалось в сводках Совинформбюро. Про него рассказывали чудеса. Говорили, что немцы оценили голову командира отряда, товарища Ж., в десять тысяч рублей и вывесили это объявление за подписью предателя-бургомистра Силантьева. На следующее утро у здания, где жил комендант города, под самым этим объявлением часовой обнаружил труп Силантьева с приколотым к нему конвертом.
В конверте лежали двадцать тысяч немецких оккупационных марок и вежливое письмо в адрес коменданта: партизаны сообщали в нем, что товарищ Ж. не хотел бы вводить полковника в напрасные расходы и считал, наоборот, долгом вежливости снабдить его некоторой суммой на текущие расходы. Уверяли, будто однажды, когда машина, на которой ехал адъютант коменданта, застряла в грязи, из леса вышел какой-то старик русский, без всякого труда еловой дубиной вывернул автомобиль из ухаба, сел к шоферу, чтобы, по требованию эсэсовца, указывать дорогу, а через несколько минут этот старик выбросил из машины зарезанного водителя, обезоружил офицера и оказался самим неуловимым Ж.
Рассказывали разное. В отряде капитан-лейтенанта Савича все нетерпеливо ждали гостя. Особенно волновался Иван Журавлев. Савич понимал его: партизанский отряд товарища Ж. действовал в лесах между Гдовом, озером Самро и Псковом. Это были места, близкие к родине скобаря.
Товарищ Ж. прибыл в штаб Савича поздно вечером, а на следующее утро капитан-лейтенант, увидев Журавлева на улице, сказал ему:
– А, Азраил Егорович! Вот что, дорогой друг, хочешь на своего земляка взглянуть? Зайди ко мне часа через полтора. Познакомлю.
– На какого это земляка, товарищ командир? – не понял Журавлев.
– Да вот на товарища Ж. Ты же слышал… Большой, брат, человек! Ученый человек. Лет немного, а уж профессор по одной очень хитрой науке. Теперь стал боевым командиром. И фамилия такая же, как у тебя, Журавлев. Видно, все журавли – птицы боевые, а?
– Товарищ капитан-лейтенант, – с волнением спросил Иван Журавлев, – а ницаво он вам такого не говорил? Не слуцилось ли ему в Пяцорщине-то нашей быть? Може, Стеньку мою видел?
– Не было разговора об этом, Журавлев. Ну да приходи, сам обо всем расспросишь; он человек хороший, простой, что знает, обо всем расскажет!
Около двенадцати часов дня Иван Журавлев во всей форме, в бушлате и ушанке, явился в кабинет командира.
Савич и гость разбирали у стола какие-то немецкие документы.
– Да, да, входи, Иван Егорович! Одну, брат, минутку обожди, мы сейчас. На-ка новый маузер немецкий, посмотри, какой затвор любопытный. Мы сейчас…
Журавлев сел, но маузер, по-видимому, на этот раз интересовал его меньше, чем человек. Для виду он занялся разборкой пистолета, однако больше поглядывал на командира партизан, поглядывал с некоторым разочарованием: не таким, должно быть, он рисовал его себе.
Командир партизанского отряда был молод, никак не старше его самого, Журавлева, и капитан-лейтенанта. Был он русоволос, довольно высок, достаточно строен, но сухорук. Одна рука его, левая, выглядела заметно слабее и короче правой. Над высоким открытым лбом по волосам пролегли две неширокие седые пряди.
Савич и гость оживленно разговаривали. Общий смысл их речей Иван Журавлев понимал без труда – дело шло о какой-то очень большой и рискованной операции на дорогах, там, у немцев. Но подробности ускользали от скобаря: слишком много собеседники произносили непонятных для него слов. Только-только начнешь разбирать что к чему, хлоп: «коммуникации», «рокадные дороги», «стратегия».
Но вот разговор пришел к концу. Гость привстал, потянулся к коробке папирос.
– Григорий Осипович, – сказал ему тогда Савич, – хочу я вас познакомить с нашим замечательным бойцом. Я еще вчера собирался рассказать вам про него, да не пришлось. Прошу! Иван Егорович Журавлев, старший краснофлотец. Ваш тезка. Представлен к ордену. Бывший партизан. Да к тому же и земляк ваш, по-моему.
Командир партизан улыбнулся земляку.
– Я тоже скопской, – весело сказал он, протягивая руку и чуть заметно начиная произносить слова так, как их произносят скобари. – Ну, ну, мы, скобари, народ отцаянный! Известно! Знаете, как одна старушка еще в ту войну солдата спрашивала: «А что, сынок, англицане-то за нас?» – «За нас, бабушка!» – «Слава богу. А француз, сынок, и он за нас?» – «Тоже за нас, бабушка!» – «Вот хорошо! Ну, а цто я тебя спрошу: скопские-то за нас?» – «И скопские за нас, бабушка!» – «Ну, тогда дело будет!» – И он засмеялся. – Так какого же ты, земеля, района? – обратился он к скобарю.
Иван Журавлев смотрел на товарища Журавлева. Лицо его расплылось в широкую улыбку. Этот командир говорил на его родном языке, знал те же рассказы и прибаутки, какие он сам знал.
– Пяцорские мы! – дружелюбно и просто произнес скобарь.
Товарищ Журавлев насторожился.
– Печорский? Из Эстонии? О! А какой деревни? Печорские! Да это же наши соседи.
– Дяревни Мядведово! С самой Ильинщины нашей…
Но он не договорил. Партизан совсем заволновался.
– Позволь, позволь, друг хороший! Из какого ты Медведова, из Сивецкого или из Мешковского? Из Сивецкого? Погоди! Иван Егорович, говоришь? Брат ты мой! Да ты уж случайно не Верхнего ли Егора сын? Не Егора ли Федорыча? Такой рыжеватый. Чуток косолап. Так, миленький, да ведь мы ж тогда с тобой братья двоюродные. Ведь я-то Славковичской волости, деревня Заборье… Осипа сын! Он же тебе дядька родной!.. Капитан-лейтенант, смотрите-ка, двоюродные братья встретились!
Встреча действительно была совсем необычной.
Вот они сидят рядом, эти двоюродные братья, эти Журавлевы, родившиеся на древней русской земле в одном и том же году. У них одинаковые ясные голубые глаза; если смотреть в профиль, они даже походят один на другого. Но все остальное в них так различно!..
Один из них – человек смелый, решительный, умный и сметливый, знал следы зверей в лесу, знал, как кричит зяблик, знал, как надо определять время посева ячменя. Однако ему и в голову не приходило, скажем, что урожай на его ниве зависит от давления воздуха над Гренландией.
Он закончил приходскую школу, два года был лесорубом. Потом стал лесником. В сороковом году получил землю и считал уже самые затаенные, самые смелые надежды свои осуществленными. Он полагал, что теперь уже без всяких препятствий и его сыны – «пять сынов, один другого цище» – смогут спокойно жить.
А теперь он сидел на стуле, опустив между колен могучие руки, и с недоумением смотрел на другого скобаря, на второго Журавлева, на дяди Осипа сына. Что стало с ним за эти двадцать лет!
Гришка! Он, разговаривая, вспоминая детство, не сидел на стуле, а все время ходил из угла в угол по комнате, слегка прихрамывая, размахивая руками. Это удивляло Ивана Журавлева едва ли не больше, чем непонятные слова в разговоре с капитан-лейтенантом. Когда же в минуту молчания командир партизанского отряда вдруг сел у стоявшего возле стенки рояля, машинально открыл крышку и, думая о чем-то своем, пробежался по клавиатуре, Иван Журавлев совсем смутился.
Да, он был определенно не простой скобарь. В то же время это был именно его брат, пусть двоюродный. Он мог говорить «как вси». Он помнил, что Медведово – Ильинщина, Сивцево – Фроловщина. Более того, он был командиром партизанского отряда, – значит, где-то там, в гдовских лесах, он дрался за ту же «зямлю», за которую «по колено в кровь» становился Иван. И тем не менее… «Ай, братки, вот диво! – оторопело думал Журавлев, неотрывно глядя на брата. – И как это так?»
Григорий Осипович Журавлев, молодой еще человек, но уже доктор математики, известный астроном, тоже внимательно, со странным чувством приглядывался к своему неожиданно обретенному брату. Никогда до сих пор перед ним не возникало с такой наглядностью великое различие между тем, что есть и что могло быть с ним, если бы осенью 1917 года над его родным Заборьем не поднялся красный флаг.
– И какая сила, подумай, Ваня, сделала из меня настоящего ученого, настоящего человека? Ну-ка, скажи? – спрашивал он своего двоюродного брата.
– Ай, брат Григорий Осипов, да цаво ж тут говорить будешь?! Уж тут и слепой увидит. Явный факт. Вот именно, дорогой ты мой!
Недели две спустя после этой встречи, после отъезда товарища Ж., лейтенант Трощинский доложил капитан-лейтенанту Савичу о ходатайстве, возбужденном по команде старшим краснофлотцем Журавлевым. Иван Егорович просил отпустить его в глубокий тыл противника, в отряд товарища Ж.