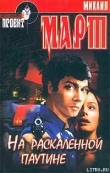Текст книги "Скобарь"
Автор книги: Лев Успенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
СКОБАРЬ Повесть
ПОЯВЛЕНИЕ СКОБАРЯ
Он пришел в отряд во всем своем. На голове картуз. Под кургузым пиджачком – голубая русская рубашка. Высоченные сапоги-осташи поражали чудовищной толщиной подметок.
Лицо у него было свежее, розовое, благодушное, хотя он и носил густую окладистую светло-рыжую бороду. На вид ему было лет сорок пять. Тридцатидвухлетний старшина Габов рядом с ним казался совсем юнцом.
За плечами у него висел туго набитый вещевой мешок из необыкновенной пестрой холстины; укороченный, кавалерийского образца карабин он ни на минуту не выпускал из рук. Вечером в бане весь отряд обступил его с возгласами крайнего изумления: на широченной рыжеволосой груди его болтался на тонком плетеном шнурочке маленький серебряный крест.
– Ну чего, чего! – сердито унимал старшина голых намыленных ребят. – Чего не видали? Ну – крест. Подумаешь, делов палата… В старину такой крест люди вместо паспорта при себе носили… Сами видите: человек не у нас вырос, в Эстонии. Человек полевой, лесной… В партизанах к тому же побыл. Дайте ему хоть грязь с себя смыть, тогда и агитируйте.
Однако крест оказался только началом. Дальше пошло и пошло.
Краснофлотцы удивлялись многому. И как человек этот «цокал» и «пел», и как никогда не отвечал на вопросы прямо. Это выводило их из себя, и первые дни они все приставали к нему.
Стоило новичку появиться среди краснофлотцев, как тут же кто-нибудь – Черемис, Широких или Шагунов – подкатывался к нему с вопросом о чем-нибудь таком, чего он как местный житель не мог не знать. Например: куда течет эта речка? Или: из чего же, в конце концов, сшит его необыкновенный сине-красный мешок?
Тотчас же лицо этого человека принимало выражение необыкновенного лукавства и одновременно неописуемой простоты. Глаза его сощуривались, а то и вовсе закрывались. Плечи сводились в полном недоумении.
– А сказать табе по цистому сердцу, целовек ты мой ждобный, – певуче заводил он, – так и церт яну, тую ряцонку, знае, куды она тяцэ. Тяцэ и тяцэ, и все тут…
Или же опасливо, с каким-то бессмысленным непонятным испугом загоняя мешок под койку, он пытался уклониться от дальнейшего разговора:
– У-ту! Это-то? Да это же торбоцка моя! Кровинушка ты моя жаланная! А ницем она, братки, не цудная… Пошита как полагается… С крюцкастой с восьми кепенной портошницы.
Краснофлотцы в ответ, давясь от смеха, кричали:
– Да врет он все, Шагунов, не верь ты ему! И слов таких не бывает, какие он выкаблучивает!
Тут глаза новичка начинали бегать, картуз нахлобучивался козырьком чуть ли не до самой бороды, а на губах у него возникала подозрительная улыбка:
– Ну, врать! Ясце цаво! Пусцай тая змяя врет… А я, братки, парень верный… Прямой, што дуга.
Подобные «уверения» окончательно сбивали всех с толку.
На третий день по прибытии бородача в части случилось неожиданное.
Утром из сеяного соснячка, к юго-востоку от базы отряда, выскочили четверо велосипедистов-немцев. Они обстреляли штаб отряда из автоматов и так же быстро, как появились, кинулись через плотину обратно в лес. Тут-то новенький и проявил себя. Никто не ожидал, что в тот самый момент, когда велосипедисты мчались через плотину обратно, бородач окажется у моста в зарослях лопуха и крапивы. Стоя во весь рост, он с изумительной быстротой четырьмя точными выстрелами сшиб с седел всех четверых.
Один упал в воду, двое ударились с ходу о кирпичную стену мельнички, четвертый, старый кулак с давно не бритыми щеками, свалился за мост в густой тростник. Его не сразу нашли там, но, когда нашли, убедились, что он, как и остальные трое, был словно проштампован машиной: у каждого ровно на линии от левого глаза до левого уха темнело входное отверстие пули. Этот случай сразу высоко поднял бородача в глазах краснофлотцев. В отряде капитан-лейтенанта Савича такое мастерство ценили. Здесь даже кок без труда убивал ворону влёт метров на сто пятьдесят – двести…
К ночи, в связи с утренним налетом, старшина по-новому разместил личный состав отряда. Новенький должен был спать вместе с другими в бане, стоявшей в саду.
– В байне? – оторопело переспросил он, как только услышал об этом. – Это я-то? Ни в жисть!
– Вот тебе раз! – изумился старшина Габов. – Что же так?
– Ишь ты какой! – поднял на него бороду странный человек. – Горазд, брат, мягкий в байне спать! Там нина!..
– Какая еще Нина? Откуда она взялась?
– Не какая, а вот такой! – убежденно и сердито ответил бородач. – Да цаво ты, не знаешь, што ли? – И двумя указательными пальцами он показал у себя надо лбом, какие рога бывают у черта.
На следующий день утром Габов ни свет ни заря явился к капитан-лейтенанту и просил его, не откладывая, поговорить с этим чудаком.
– Он мне, товарищ начальник, весь народ с толку собьет… Темный человек, царского времени. Ну, хоть ты лопни, ничего не понимает. Наши бойцы про таких только в книгах читали. Либо надо его сразу к твердому делу определить, либо… сдать его в музей, что ли? Пусть там на него полюбуются.
Савич согласился поговорить с новичком, но, перед тем как вызвать его, достал из полевой сумки записку капитана Афиногенова и внимательно снова прочел ее.
«Леша! – торопливо, не дописывая слов, писал ему Афиногенов. – Направляю к тебе замечат. субъекта, Журавлева И. Е., лесника, партизана. Будешь благодарен. Прими во вним.: печорец, жил и рос в Эстонии, говорит по-эстонски и чуть-чуть по-фински. Его чудачества раскусишь быстро, а тогда это золото. Должен кончать. Начинается обстрел, бьет шестеркой. Привет. До свид. в Берлине.
Иван».
Савич знал, что значит «печорец». Печорцы – поместному скобари – русские жители Печорской волости. Двадцать два года назад по мирному договору они попали за эстонскую границу.
«Показательный скобарь», – подумал Савич и распорядился вызвать Журавлева к себе.
Бородатый дядя вошел в комнату осторожно, бочком, бережно неся в руках свой маленький карабин. Савич с первого же взгляда отметил: винтовка была у скобаря в идеальном порядке. Никакого военного приветствия вошедший не отдал, снял картуз и почтительно остановился у порога. Краснофлотец Разговоров, обогнув его, вытянулся с преувеличенной тщательностью.
– По вашему приказанию, товарищ начальник, – отчеканил он, – доброволец Журавлев доставлен в ваше распоряжение! Разрешите быть свободным, товарищ капитан-лейтенант?
– Идите! – кивнул головой Савич. – Да пускай никто не входит сюда до… до девяти ноль-ноль… Ну, товарищ Журавлев, здравствуй! Проходи, друг мой, садись…
Рыжебородый, на редкость плечистый человек немного потоптался на месте.
– Здравствуй и ты, не знаю, как тебя звать, – осторожно ответил он. – Ницаво, мы постоим!
– Да иди, иди садись…
Капитан-лейтенант заметил, как Журавлев, быстро обежав комнату зорким взглядом, остановился на двух немецких автоматах и одном ППД, висевших на стенке.
– Что смотришь? Хороши штучки? – спросил Савич.
– Ай, брат, добры! – тоненько сказал Журавлев, с деликатностью присаживаясь на уголок стула и ставя карабин между колен. – Уже што добры, то добры! Ну што я тебе скажу, целовек хороший? Бери ты их уси, пойдем с тобою в лес. А я свою возьму мяшалоцку… Тогда поглядим…
– Ишь ты, – усмехнулся Савич, – не храбрись! Впрочем, я видел: бьешь ты молодцом. Так что же, отец? Время у нас горячее. Поговорим, что ли?
– А цаво же? – неторопливо и без малейшего смущения ответил рыжебородый, не спеша доставая из кармана кисет и трубку. – Я табя не боюсь. Говори, коли есть что говорить-то.
«Понимаю, понимаю, – подумал Савич. – Так вот чем он их из себя выводил! Действительно, у нас такого не встретишь».
– Да, – начал капитан-лейтенант. – Поговорить о чем – найдется. Как же, скажи на милость, звать тебя?
Журавлев быстро, почти неуловимо взглянул капитан-лейтенанту в глаза и тотчас отвел взгляд в сторону.
– Ай, браток! Да меня хоть горшком назови, только в пецку не пихай! – неопределенно ответил он тоном человека, решившего непременно соврать и выгадывающего время, чтобы соврать поудачнее. – Жоровом меня звать! Звать мене Жоров, Иван Ягоров! Птицка такая е, не горазд красива, долгоносенька. Видывал? В болотах живе, лягух йист… Ну и я так! А коль тебе фамилия моя не залюбится, – вдруг понизил он голос, таинственно пригибаясь к Савичу, – так и не надо! Ну ее! Мы другую найдем, добру, божественну каку-нибудь…
– Нет, отчего же? – проговорил не без недоумения Савич. – Фамилия прекрасная, отец. А лет тебе сколько?
Но тут Иван Егоров Журавлев вдруг насторожился. Трудно сказать, что померещилось ему в этом вопросе, но только он сразу же прикрыл глаза.
– Ай, браток ты мой! – запел он так же уклончиво. – Вот уж как тебе это дело пояснить, и не знаю. Это дело, прямо табе скажу, темное! Матка, бывало, свое, поп – свое… Ну, в метрике писан: двадцать семый пошел; надо быть, метрикам вера! Надо быть, так и е!
– Двадцать седьмой? – изумился лейтенант. – Тебе? Да быть этого не может! – Этот широкобородый цокающий дед, которого он только что дважды назвал отцом, был годом моложе его, Савича? Что же это такое?
Глядя на него, Журавлев немного оторопел: уж не дал ли он какого-нибудь маху? И видимо, счел за благо сразу же поглупеть, стать вовсе блаженненьким: он сгорбился, заморгал.
– Да ведь… сваток ты мой жаланненький! Годки-то мои не сцитаны! У бога и пять годов за один день! А табе сколько же их надо? Поменьше аль побольше?
– Да мне не все ли равно! Не в годах дело, в бороде твоей! Борода меня с толку сбила: никогда бы не подумал, что ты с пятнадцатого года. А я – четырнадцатого! Сбрил бы ты ее к лешему, что стариком ходишь?
Он сказал это и запнулся. В голубых глазах скобаря промелькнула чуть заметная искорка.
«Учел, хитрец! – спохватился Савич. – Эх, зря я брякнул про свои года!»
А Иван Егорович уже не без удовлетворения погладил свою бороду.
– Цаво же борода? – спокойно сказал он. – Борода – стяпенство! Без бороды и нацальство не залюбе. А то хоть давай так: я свою сбрею, а ты сабе отрасти!
После довольно долгого разговора Савич убедился, что скобарь был действительно любопытный человек. Дореволюционной закалки мужик, битый, мятый, варенный в семи водах, с тысячами заблуждений и суеверий, с кашей в голове «насчет политики», но зато с одним внутренним, глубоким и непреодолимым знанием: барина, помещика, барона, немца надо бить. Не часто у нас встретишь двадцатишестилетнего снайпера, который сам платил недоимки в волость, с которого урядники сбивали картуз, который по часам мялся на ногах в барской прихожей.
Этот человек вел свое летосчисление «до зямли» и «посля зямли», а «зямлю» ему дала Советская власть в 1940 году. «И за тую зямлю, – просто, без всякой рисовки сказал он, – за каждую нивку я, браток ты мой жаланный, против гадов по колено в ихнюю кровь встану!»
Савич быстро поглядел в глаза партизану и подумал: «Афиногенов действительно прав, упускать такого нельзя».
– Хорошо, товарищ Журавлев, – сказал он ему наконец, – не возражаю. Захотел к нам – примем. Дело найдется. Но тут есть одно: уговор дороже денег, как говорят. Сам видишь, у нас не партизанский отряд, у нас воинская часть. Да еще какая! Балтийские моряки. Значит, для нас порядок, дисциплина прежде всего. Командирское слово тут закон. Скажу, допустим, сбрить бороду – завтра чтобы ее не было. Пошлю на верную смерть, – а всяко, брат Журавлев, бывает, – без слова идти. Приказано нам сидеть – сиди как примороженный. Это тебе понятно?
Он остановился; в том, как вдруг зашевелились золотисто-рыжие брови скобаря, как задвигалась его борода, почудилось не совсем ладное.
Иван Егорович некоторое время сидел молча, осторожно, задумчиво сгибая и разгибая пальцами машинально взятый им со стола здоровенный четырехдюймовый гвоздь.
Рот его под пышными усами был по-детски приоткрыт. Голубые, тоже совсем ребяческие глаза смотрели сквозь Савича куда-то вдаль. Потом взгляд рыжебородого не спеша остановился на собеседнике.
– Нд-а-а-а, – совсем нараспев произнес он, – это-то я все понимаю. Цаво тут не понять? А вот… што я табе, друг любезный, спрошу. У табе жёнка-то е?
– Жена? – вопросом на вопрос ответил Савич. – Есть у меня жена.
– Нд-а-а-а! И ребята небось е?
– Нет, детей у меня, брат, пока еще нет.
– Нд-а-а-а! – снова протянул бородач, сладко закрывая глаза. – А у меня, брат, пять сынов е… пять мальцев. Один одного цище!..
Он остановился, подумал.
– Так ты мне, видать, командиром и будешь?
– Точно, – ответил Савич, ломая голову над вопросом, как ему не отпугнуть чудака.
– Табя я и слухать должон? Скажешь: ложись, Журавлев, в яму – лягу? Скажешь: живи – живу?
– Да, на то похоже, товарищ Журавлев.
Тогда глаза Ивана Журавлева совсем плотно зажмурились. Благодушное, но непоколебимое упрямство выразилось на его розовом волосатом лице; даже борода как-то выдвинулась под углом вперед, твердо и упрямо.
– Ну, брат, не! – решительно сказал он.
– Что «не»? – спросил Савич.
– А вот то – не! Не выйде этого!
Такой оборот разговора Савичем предусмотрен не был. В то же время, чем дальше он беседовал с этим удивительным бородачом, тем сильнее он, капитан-лейтенант Савич, чувствовал, что выпускать Журавлева из своих рук жаль. Нет, нет! Савич понял, что эти странности не были ни кривлянием, ни глупостью, а характером человека, человека другого склада и словно другой эпохи.
Пока длился разговор Савича с Журавлевым, политрук Вальде дважды заглянул к командиру. Краснофлотец Разговоров тоже прошел взад-вперед и наконец поставил на стол сразу и жирный суп с фасолью и второе. А беседа еще только подходила к концу.
Кто знает? То ли слова капитан-лейтенанта убедили бородача, то ли его заставила призадуматься одна совсем особенная винтовочка, так, между делом показанная ему, – словом, так или иначе, он задумался. Савич, внимательно следя за Журавлевым, начал считать себя уж близким к победе. Однако после размышления бородач хлопнул себя ладонью по колену:
– Ну, брат командир, што мне табе сказать? Вот табе мое опоследнее слово: хошь так, хошь не. Давай, брат, мы с тобой сборемся! Побори меня – слуга твой буду до века. Ну ж, коли я табе поборю – квит, прощай, милый… Только ты тогда Жорова и видел.
Лейтенант Савич не сразу понял своего собеседника, а когда понял – оторопел.
– То есть как это так «сборемся»? – спросил капитан-лейтенант в полном недоумении. – Да ты, друг мой, что?
– А все так же! – спокойно ответил Журавлев. – На охапоцки. Не по-цыгански, не! Жорова табе не побороть! На, видал?
И, показав Савичу все тот же толстенный тесовый гвоздь, он неторопливо пальцами одной руки сложил его надвое.
Обстановка, как говорят, создалась сложная. Она была детально изучена и обсуждена Савичем и Вальде ночью, через тонкую тесовую переборку. В конце концов комиссар, полный, немолодой уже латыш, даже прихромал на раненой ноге в закуток капитан-лейтенанта и осторожно сел на его койку. Он посмеивался: как-то, мол, каплейт выкрутится; но затем переменил тон.
– Да, Саша, Саша! – бормотал он, прикуривая крученку от крученки. – Конечно, такие случаи строевым уставом армии не предусмотрены. А хорош мужик; «сбороться» – говоришь? На охапочки? Дубóк! По-латышски: озолс!
Савич лежал, хмуро глядя то в потолок, то на огонь комиссаровой папиросы.
– А что сделаешь, Ян? Не хотелось бы упускать его… Для нас такой скобарь – находка.
– Ни-кто не са-гла-сит-ся! – помахал пальцем старший политрук. – Но… Ты послушай, что я скажу. Конечно… сбороться у личного состава на глазах… Нельзя, нет! Большой безобразие! Ну… а если… если немножко подпольным образом делать?
Савич даже сел на койке.
– Ты – что? Думаешь – можно? А ты его видел? Вон он: трехдюймовый гвоздь пальцами – пополам… Вдруг он меня… Недопустимо!
– Никто не са-гла-сит-ся! – повторил латыш. – И тем не менее! Он – хороший медведь есть; по-нашему – лацис! Куда тебе: ты есть жидковат, худосочний такой… Но он ведь, он сила неорганизованная? Он – на охапочки, а ты – джиу-джитсу; ты – французская борьба, другие хитроумные штучки. А? Что скажешь?
– Попробовать разве?
– Как тебе говорить? Такой большой нарушение устава был бы огромный безобразие… Но подумаем так: Журавлев – краснофлотец? Еще нет! В ряды флота мобилизован? Еще нет… Форму получал? Опять еще нет… Так разве не имеет права молодой, веселый командир немного бороться с какой-нибудь вольный товарищ? Так – шито-крито, не для публики! Давай завтра утречком ты, он, я… Отойдем тихо-смирно куда-нибудь в сторонку, так сказать, за кулисы, и… Смелый богом владеет, по русской пословице…
Так и было постановлено.
На рассвете седьмого числа кандидат в разведчики флота Журавлев Иван был срочно вызван к капитан-лейтенанту. Затем командир и комиссар ушли в сад мызы на пруд; должно быть, искупаться, Журавлев с винтовкой сопровождал их: фронт, безоружным от дома – ни на шаг!
Было теплое утро, на траве лежала роса, от яблонь пахло крепко и пьяновато – белым наливом. Кок Мелентьев, резавший лук на садовой скамье, посмотрел им вслед.
– Гляди, чудо-то наше командиры куда-то повели… Не в пруду ли утопить хотят, дал бы бог… Смотри, борода каким павлином вышагивает: что твой индюк! – сказал он дежурному по камбузу Паше Шевелеву.
Полчаса спустя все трое вернулись. Только теперь Иван Егоров Журавлев шел отнюдь не по-павлиньему. Наоборот, он плелся нога за ногу, отстав на десяток шагов от весело обсуждавших что-то капитан-лейтенанта и комиссара. Крайнее недоумение, можно сказать, полная растерянность была написана на его рыжебородом лице; он покачивал головой, разводил руками, время от времени останавливался и снова и снова крепко потирал рукой затылок и шею, точно испытывая их на прочность.
Когда они поравнялись со скамейкой, Савич поманил пальцем кока.
– Мелентьев, – сказал он, – найдите Широких или Габова. Скажите: я приказал остричь краснофлотца Журавлева, обрить, обмундировать и вообще привести в воинский вид… И – доложить мне. Исполняйте приказание!
Они вошли в дом, а Журавлев сел на скамыо под усыпанной плодами яблоней и снова молча пощупал шею.
– Скажи на милость, – в полном недоумении тонким голоском жалостно пробормотал он, уставясь в какую-то одну точку перед собою, – Микола милосливый! Ведь поборола Жорова няцистая сила, што ты будешь делать? Тольки взялись – как он ляпне!.. Судрыг, и – ляжу! Ай, вот змяя дужая, ай!.. Ну каво ж тяперь? Огребай тяперь, кашевар, Жоровову бороду, режь яну долой самосильно… Все ровно теперь я целовек ня свой – казенный!
ЖУРАВЛЕВ-АЗРАИЛ[1]1
Азраил – ангел смерти у магометан. (прим. автора.)
[Закрыть]
Капитан-лейтенант Савич ведет официальный журнал боевых действий части. Но, помимо того, есть у Савича еще и свой альбом для личных записей. Переплет из добротной темно-коричневой шагрени с маленьким замочком и ключиком к нему. На титульном листе приклеена фотокарточка какой-то барышни в белых кудряшках. Из подписи под снимком видно, что альбом этот в 1940 году принадлежал некой Эрике Тооц. На первых страницах альбома красуются безупречные розаны: они окаймляют гирляндами четверостишия эстонских стихов. По другим страницам там и сям кувыркаются розовые амурчики – мальчишки с крыльями мотыльков – и через символические подковки счастья скачут упитанные свинушки.
А на полях альбома идут пометки и цифры совсем другого порядка:
«Патрон, винт. 7381; патр. ТТ – 200 пачек».
«Вайда – 2-х, один офицер. Топорок – 3-х, плюс один ранен».
В другом месте изображена схема какой-то высотки с трехорудийной батареей, лукаво скрытой за извилистой рекой. Схема набросана кое-как, по-видимому обгоревшим концом спички.
Савичевские записи небрежны, неразборчивы, порою совсем непонятны. Но если бы кто-нибудь доставил этот альбом в немецкий штаб, немцы не обратили бы никакого внимания на изящные рисунки, а к неряшливой капитанской мазне проявили бы живейший интерес.
Таков альбом капитан-лейтенанта Савича. В общежитии его так и называют: «Эрика Тооц». Когда надо вспомнить что-либо важное из прошлого отряда, сотрудники капитана говорят ему: «Товарищ командир, это же у вас в „Эрике Тооц“ записано!»
Из «Эрики Тооц» я и узнал одну удивительную историю о делах Ивана Журавлева, печорца, разведчика.
В августе 1941 года отряду Савича было поручено почетное и нелегкое задание: надо было выделить восемь или десять парашютистов из состава бойцов для переброски в глубокий тыл противника. С самого начала было ясно: многие из них не вернутся.
В альбоме Савича это событие отмечено коротко: «Прыгуны. Склока в отряде».
«Склока» действительно была. Как только прибыл приказ, среди бойцов начались «интриги и происки». Люди, до сих пор жившие душа в душу, несмотря на чрезвычайное разнообразие возрастов, душевных складов и мирных профессий, люди эти чуть не переругались друг с другом. Каждый стремился «опорочить» другого, доказать, что не тот, а именно он подходит для переброски во вражеский тыл.
Вайда, комсомолец-осоавиахимовец, шипел на Шагунова: «Он парашюта и близко не видел!» Перетерский как бы невзначай напомнил политруку, что у Короткова дома большая семья, а что он, Павел Перетерский, напротив того, един, как перст, холост и независим; кого же послать, как не его?
Командир и политрук пресекли все эти «подвохи» и «подкопы». Когда после длительных обсуждений список командируемых наконец утвердили, к капитан-лейтенанту явился Журавлев. Теперь он уже ничем не походил на того лешака-печорца, каким он недавно явился в отряд. На его широчайших плечах аккуратно лежал форменный балтийский воротник. Золотые буквы на бескозырке сияли. Клеш на брюках был сантиметров в тридцать пять, никак не меньше установленного. Щеки его были гладко выбриты; казалось, ему даже меньше лет, чем на самом деле.
– Ну что вам, Журавлев? – спросил капитан-лейтенант.
Глядя куда-то в угол потолка, Журавлев сначала завел окольный разговор о стрельбе, о том, что у вчерашней винтовки надо подпилить «на ноготь» мушку, еще о чем-то… И только когда Савич повторил свой вопрос, скобарь низко нагнулся к нему.
– Товарищ нацальник, – убедительно и таинственно зашептал он, – а цем же я-то хуже других? Што ж, они святые, што ли? Велите, товарищ командир, и мне с зонтиком прыгать, а то мне горазд обидно!
Капитан-лейтенант отказал наотрез: список заполнен – это раз, а во-вторых, для выполнения задания намечены прежде всего люди, уже прыгавшие с парашютом.
– Ну пойми ты сам, Журавлев! – убеждал его Савич. – Ведь ты же не летчик, не парашютист, ведь ты же никогда в жизни с самолета не прыгал!
Скобарь кивал на все головой.
– Ндда-а… Какой я летцик! – покорно говорил он. – Это великое дело – по небу лятать. Где нам! Верно, не прыгал, николи не прыгал! Ну, прыгну, товарищ нацальник! Прыгну! Куда прыгать-то? Не вверх же – вниз, на тую же зямлю! Вот, ей-бо, прыгну!
Наконец Савич согласился включить Журавлева во вторую очередь, в резерв, на тот случай, если кто-либо выбудет из списка. Впрочем, капитан был уверен, что этого никогда не случится. Но дело обернулось иначе.
Разговор происходил в пятницу, а во вторник на следующей неделе Савич и Вальде проводили Журавлева с укромного озерного аэродрома в дальний полет.
Было раннее свежее утро. Пахло водой и лесом. На востоке тяжело гремело: били форты крепости.
Первым в кабину сел Джемс Гаррисон, американец, давно живший в СССР. Он сел прямо и строго окликнул:
– Алло! Джонни, ну!
Иван Журавлев поцеловался с Савичем, с политруком и непринужденно стал одной ногой на крыло «эмбеэр»[2]2
«Эмбеэр» (МБР) – морской бомбардировщик-разведчик. (прим. автора.)
[Закрыть], точно это был не самолет, а самая простая псковская «бяда», телега.
– Ай, братки! – вдруг дружелюбно подмигнул он провожавшим. – Цаво я вам скажу? Не голосите вы тут по мне до времени. Я што тэй колобок: от бабки ушел, от дедки ушел, а от этой цухны… и делов нет – уйду! Ну, цаво там? Трогай с богом!..
Вся эта сцена занесена на страницы альбома «Эрика Тооц» в виде одной пометки:
«7/VIII. 07. 04 м. Отлет. Колобок и Джемс».
А в октябрьских записях можно было прочесть следующее:
«Ура! Азраил вернулся! Давно не испытывал подобной радости! Удивительная история».
– Это было в октябре, – рассказал мне Савич. – Ночью, в густом тумане, когда на заливе уже шуршала первая шуга и плыли первые хрупкие льдинки, к берегу осторожно подошел тузик – крошечная лодочка голубого цвета. К недоумению и тревоге ближнего патруля, из тузика выбрались два человека. Один был в женской юбке и белом платке на голове, на другом трещала туго напяленная кожанка, лопнувшая по шву на спине. За плечом висел финский автомат, на поясе болтался нож. Ноги у него были босы. Из-под расстегнутого кожаного пальто виднелась грязная и рваная тельняшка.
Джемс Гаррисон и Иван Журавлев вернулись. Между отлетом и возвращением лежали два месяца.
Капитан-лейтенант Савич не без волнения продолжал рассказ о десантниках:
– Понимаете? Если бы об этих людях можно было уже сейчас хоть десятую часть написать… Эх, какие люди!.. Спрóсите, следили ли за ними? Следили, насколько могли. Вести приходили. Клочками, отовсюду. То наши же летчики, летавшие на разведку вражеского глубокого тыла, стали выражать претензии: мол, летать нельзя – все в дыму, каждая станция в огне, каждый склад пылает, любой цейхгауз – костер. Это они все орудовали. Потом в финской газете «Ууси Суоми» появилось несколько статей на тему: «Советские парашютисты не так уж страшны, как у нас думают». Но, видно, тот, кто писал статейку, заперся предварительно на все замки, прислушивался к каждому стуку, к каждому собачьему бреху. Навели мои ребята там паники!
Затем и в Анкаре, в турецкой газете «Улус», что ли, напечатали корреспонденцию из Стокгольма. «Красный парашютист, – говорилось там, – нисходит с неба, как ангел Азраил, и несет врагу страх и отчаяние».
Поймите же, как мы ждали всех этих азраилов, как горько переживали случайные известия из стана врага о том, что там где-то после отчаянного сопротивления убиты два большевистских парашютиста, что в другом месте красный десантник, взорвавший крупную электростанцию и преследуемый по пятам шюцкоровцами, взорвал их и себя ручной гранатой. Эх, да что вам сказать! Очень дороги они нам, эти герои. Зато вообразите себе, что было, когда вдруг два месяца спустя первым явился наш Журавлев и американца с собой привел.
Вернулись они оба очень довольные друг другом. Когда капитан-лейтенант спросил у американца, как вел себя его напарник, немногословный американец даже встал.
– Кэптейн, я много блуждал по миру, видел людей, – сказал он коротко и торжественно, – но такого, как этот Джон, я вижу впервые. Это стопроцентный воин. Если бы не он, я бы сто раз погиб. Я могу рассказывать про него целые сутки, но все же не исчерпаю всего. Вот вам первое…
И он рассказал о том, как они приземлялись.
Когда самолет, отвозивший двух смельчаков в тыл противника, дошел до назначенного места, оба они выпрыгнули почти одновременно. Иван Журавлев никогда не прыгал с парашютом, но тем не менее он сделал все, что нужно для прыжка. Несколько секунд спустя оба десантника уже висели на некотором расстоянии друг от друга в воздухе и медленно сквозь вечернюю мглу шли на посадку.
Десантники огляделись. Их несло на перешеек между двумя озерами. Перешеек был закрыт сосновым лесом. Ближе лежала открытая поляна. По ее краю, по самой опушке леса тянулась аккуратная полоска железной дороги. Рельсы бросали широкие тени от закатного солнца. Вдали Гаррисон и Журавлев разглядели полустанок и у моста аккуратную, словно игрушечную, водокачку. Совсем под ногами на сизо-зеленом поле стоял какой-то хуторок с черепичной крышей. Поля были похожи на шахматные квадратики, на них виднелись снопы ржи, составленные в бабки. Белая лошадь, точно маленькая букашка, вытоптала правильный кружок вокруг кола, к которому она была привязана.
Иван Журавлев сидел на парашютных лямках, точно это была его привычная домашняя табуретка, и, как ястреб, вглядывался в местность.
– Слышь, друг! – закричал он еще на высоте метров в пятьсот. – Хутор видишь? Овраг сразу за им видишь? Вон он к лесу протягивается. Видишь три древа коло леса на лугу? Ну вот… Как от зонтика освободишься, дуй, брат, к ноци к тем деревьям. Я там ждать буду. Лунем крицать буду, как лунь, вот так… – И он на всякий случай закричал совой. – Мы с тобой хуторишко этот тово… А когда они огонецек увидят да оттуда побегут, мы к той водокацке да к мостику… А?
Опускались они на землю, когда уже наступали сумерки, но было еще довольно светло, и парашютистов могли заметить. Их и на самом деле заметили. С высоты метров в триста американец увидел, как из дома на хуторе (он был неподалеку от станции) выскочил какой-то старый человек с ружьем. Человек этот пронзительно засвистел – с воздуха парашютисты отчетливо слышали каждый звук внизу, – и двое других мужчин, работавших поодаль в поле, бегом кинулись к хутору. Один из них на бегу заряжал винтовку.
– Я уже подумал, – сказал американец, – что наша песенка спета, ибо пока мы, покачиваясь, пролетали над небольшой березовой рощей, враги смогли бы соединиться на лужайке за рощей и открыть стрельбу. Кроме того, прежде чем вступить в бой, мы должны были как-то разделаться с парашютами, оправиться, занять поудобнее позицию. А у них все было готово. Но тут я увидел нечто совершенно неожиданное, такое, чему я не поверил бы, если бы сам не оказался свидетелем…
На высоте метров в двести Иван Журавлев одной рукой отстегнул лямки парашюта, другой рукой достал из-за плеча свой карабин – и раздался выстрел. Старик как раз добежал до дороги возле маленького колодца. Он только взмахнул руками и упал в канаву. Журавлев стрелял почти отвесно: пуля пробила старика с головы до подошвы.
Двое молодцов бежали с правой стороны. Свесившись на лямках, скобарь выстрелил вторично. Передний – он был в черной шляпе, точно пастор, – сел на траву, уронил свою винтовку, хотел было встать, но сразу обессилел и свалился на бок. Остался третий. Этот в ужасе остановился, схватился за голову и быстро побежал назад; у него не было огнестрельного оружия, он размахивал только ножом. Но Журавлев пронесся как раз над ним совсем низко и с воздуха метнул в него гранатой.
– И вот мы приземлились благополучно, – закончил свой рассказ американец. – Если кэптейн мне не верит, – добавил он, – то после войны я готов отвезти его в это место. Я покажу там все, как было. Я не обижаюсь, если вы мне не верите, кэптейн! Ведь мы о таких вещах читаем только в приключенческих романах и знаем, что это выдумки писателей. Но ведь я видел все это своими глазами. Еще раз говорю вам: такого человека я вижу впервые.
Таким образом, напарник одобрил скобаря. Но и скобарь не охаял боевой повадки своего напарника.
– А, братки! – рассказывал он на камбузе, с удовольствием поедая миску за миской гречневую кашу с конопляным маслом. – Ну цаво я табе про него скажу? Целовек ён добрый, смялой целовек, дужой… С таким хоть к леву в клетку иди, не сробеешь… Сам видишь: в каких клящах были, а выдрались. Знаце, парень добрый.