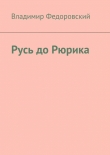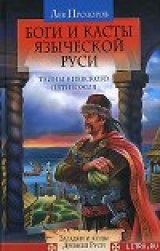
Текст книги "Боги и касты языческой Руси"
Автор книги: Лев Прозоров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Учитывая к тому же, что в былинах крест заменяет древний оберег, а в храмах, которые уже зовут «церквями», молятся «Богам нашим могуциим».
Да и сам Алёша поступает с Тугарином, как полабские славяне с пленными, которых приносили в жертву Богам, а из его головы на полном серьёзе предлагает князю Владимиру Красну Солнышку изготовить сосуд для питья – поступая явно не по-христиански.
Как видите, читатель, Алёшка-Лешко («Лешко» по-польски – хитрец, обманщик, лгун, в говорах русского Севера «алёха» – плут, «алёшки подпускать» – хитрить, обманывать) был не большим Поповичем, чем Илья – крестьянским сыном. Былинная богатырская дружина изначально представала кастово монолитной.
Были и другие проявления кастовой воинской этики, отличавшие благородного воина от простолюдина-ополченца (на Руси, как, впрочем, и в Индии, наряду с «кшатриями» существовало и «войско земли» – ополчение).
«Законы Ману» запрещали воинам– кшатриям «поражать врагов вероломным оружием – ни зубчатым, ни отравленным, ни раскалённым на огне…убивать ни оказавшегося на земле (когда сам воин находится на колеснице. – Л.П.), ни стоящего со сложенными руками (с просьбой о помиловании. – Л.П.), ни имеющего распущенные волосы (? – Л.П.), ни говорящего «я твой», ни спящего, ни ненадевшего доспехи, ни нагого, ни безоружного, ни (уже) сошедшегося (в схватке) с другим, ни не сражающегося (а только) смотрящего, ни оказавшегося в затруднительном положении, ни поражённого, ни устрашённого, ни отступающего».
В былинах есть выражение «не честь-хвала молодецкая».
«Не честь-хвала молодецкая» убить спящего («Добрыня и Дунай»), нагого («Добрыня и Змей»), безоружного.
Не бьют подневольных: Хотен Блудович отпускает живыми мужиков – должников враждебного семейства, натравленных на него (трудно понять, что тут является причиной – жалость или брезгливое нежелание «марать руки»).
Щадят врага царской крови – «а и вас-то, царей, не бьют, не казнят» – но это несколько другое, скорее благоговение перед «священным царём», чем жалость.
У Саксона Грамматика находим эпизод, когда Яромир, правитель Рюгенских русов, во время войны с другим славянским племенем атакует двух неприятельских воинов. Убивает одного, но копьё застревает в теле.
Второй замахивается, но, увидев, что поднял руку на князя, отбрасывает оружие и падает ниц. «Столь велико почтение среди этого народа к людям, облечённым высоким саном», заключает хронист.
Любопытно, что из всех черт священного правителя эта одна оставила какие-то следы в летописи: «Князь Мстислав Юрьевич проеха трижды сквозь полки Юрьевы и Ярославли…И прииде на него Александр Попович, и, имея меч наг, хотя разсещи его.
Он же возопил, глаголя, яко аз есмь князь Мстислав. И рече ему Александр Попович: «Княже, ты не дерзай, но стой и смотри. Егда убо ты убиен будеши, и что суть иные, и камо ся им дети?».
Обращает на себя внимание появление в цитируемом отрывке Александра (Алёши?) Поповича (та самая Никоновская летопись, прославленная заимствованиями из былин). Не оказала ли влияния на летописный текст былинная идеология? О том, что богатыри никогда не атакуют вместе одиночного противника, даже если тот очень силён, мы с вами, читатель, уже говорили.
Богатырские схватки, описанные в былинах, – это целый ритуал, начинающийся с обмена тяжеловесными «любезностями» вполне в духе героев поэм Гомера или «Старшей Эдды», бранящимися перед боем, и идущий всегда на равном оружии – палица на палицу, меч («сабелка булатная») на меч, копьё против копья.
Несколько странно, что схватка на копьях в былинах, как правило, завершает ряд из трёх сшибок – казалось бы, должно было быть наоборот. Завершается поединок, что называется, «в партере» – рукопашной схваткой и борьбой.
Побеждённого убивают, причём достаточно жестоко – впрочем, как я уже говорил, это отголосок воинских жертвоприношений Богам войны.
Однако у побеждённого есть возможность сдаться, «сохранив лицо» – предложить победителю побратимство, естественно, с собой в качестве «меньшего» брата. Похвальба над трупом побеждённого противника решительно осуждается в былине «Камское побоище».
Представление о благородном и неблагородном поведении в бою повлияло даже на отношение к тому или иному виду вооружения.
В «опалу» угодил топор – былины вообще не упоминают его в качестве оружия, в летописях знатные воины-русы не используют до XIII века топор против равного противника – исключительно против зверя или взбунтовавшегося смерда. В былинах в схожей ситуации – против явно неблагородного противника – знатные воины, Чурило, Вольга, Микула, используют неясные «шалыги подорожные».
Любопытно, как прокомментируют это сторонники «народного» (крестьянского) происхождения эпоса и его героев? Столь же отрицательно относится этика былинных богатырей к метательному оружию.
Любопытно, что первым это подметил ещё в XVIII веке Василий Алексеевич Левшин в своих «Русских сказках»: «Русские богатыри считали за стыд сражаться чем– либо, кроме ручного оружия, ибо убивать пращом или стрелою не вменяли в приличное человеку храброму».
В былинах эта неприязнь распространена, кажется, на все виды метательного оружия, на само метание.
Только враг-инородец вроде Идолища или негодяй вроде Тугарина способен метнуть нож в противника – причём богатырь, перехватив или отбив брошенный в него клинок, никогда не бросает его обратно в хозяина, но вызывает напавшего на поединок или расправляется с ним ударом. Русские богатыри бьют даже там, где, казалось бы, естественней метнуть.
Хотен Блудович ударом, а не броском копья расшибает конёк крыши дома враждебных ему Чусовых. Стоящую на воротах дочь Соловья-разбойника, пытавшуюся убить Илью приворотным брусом или по-иному, богатырь убивает не броском, а ударом копья.
Любопытно, что и летопись хранит представление дружинно-княжеской среды о сугубой подлости, неблагородстве броска: когда на Любечском съезде обсуждают подлость князя Давыда, заманившего в ловушку и ослепившего князя Василька Теребовльского, ему говорят: «Кинул ты нож в нас!» Как и в былинах, брошенный нож здесь – знак вероломства и подлости.
Лук богатырь применяет разве что на охоте да на состязаниях (о которых мы говорили, рассказывая о священном браке правителя с девой-Властью Апраксеей).
Илья до вступления в дружину (и едва ли не под влиянием версии о его неблагородном, «карачаровском» происхождении) использует лук против нечеловеческого противника, оборотня Соловья (странно, что самые ранние изображения Соловья-Разбойника – изразец и лубок XVII века – изображают его конным воином с копьём, а не сидящим на дубу «чудом»; не решусь утверждать, что и поединок воинов– всадников превратился в выстрел по оборотню под влиянием крестьянской «карачаровской» версии).
Став дружинником, Илья вспоминает о луке дважды, но один раз просто не пускает его в ход, ограничившись заговариванием стрелы («Илья Муромец на Соколе-корабле»), а другой – стреляет в дуб, распугивая разбойников («Три поездочки Ильи Муромца»).
Впрямую против человеческого (хоть и не совсем – «татары»– степняки, как мы помним, в понятиях былин – не люди) противника стрелы во всём былинном эпосе использует один Васька-Пьяница – человек явно не дружинного круга. Эти наблюдения я советую взять на заметку не только сторонникам «крестьянского» происхождения былинных богатырей, но и тем, кому не лень воскрешать построения Стасова и Потанина о каком-то не то ордынском, не то половецком происхождении наших былин.
Хорош был бы половец или ордынец, не признающий метательного оружия, особенно – лука. Впрочем, столь же уместно смотрелись бы в тюркском «Диком поле» могучие дубы, стены белокаменные, терема златоверхие и ограды высокие русских былин, а в юртах кочевников – окошечки косящаты, печи, «палатный брус», сидя на котором Алёша Попович поддразнивает Тугарина Змеевича, лавки и столы, мёд– пиво вместо кумыса в чарах.
Да, наконец, само вот это: «Ой же вы, татаровья поганые Кто умеет говорить языком русским, человеческим?» – это тоже татарское?!
Иное дело – меч, копьё, палица – оружие, достойное богатыря. К ним отношение у русских воинов было совсем иное. Особенно, конечно, к мечу.
Мечом русы-язычники клялись при договорах с Византией в 907 и 944 годах. Особенно трогательно, что это приводят («типично норманнская клятва на оружии») в доказательство их скандинавского происхождения.
Тогда пришлось бы занести в норманны и ведических ариев с их клятвой на мече – варуной, и японских самураев, и испанских идальго, и арабов, и много кого другого.
Павлов-Сильванский в статье о символизме русского права, не касаясь вовсе вопроса о происхождении варяжской руси, отметил только, что в договорах меч «покладаху» перед кумирами Перуна и Волоса, а норманны и гордившиеся своими готскими корнями знатные люди Западной Европы, присягая на мече, всегда втыкали его в землю.
Так что правда остаётся за С.А. Гедеоновым, вот уж больше века назад сказавшим, что договоры эти «не являют никаких признаков норманнского права, религии, обычаев». Различие глубоко не случайно – легендарный меч в рыцарских преданиях Западной Европы и сагах – Северной всегда воткнут – Грам в древо Вольсунгов, Экскалибур – в наковальню, меч Галахада – в плывущую (типичный кельтский сюжет) скалу.
В русском же фольклоре меч всегда кладенец. Он лежит под каким-нибудь спудом, будь то камень Алатырь ряда заговоров, былин и сказок, голова богатыря Росланея[36]36
36 Разумеется, именно этот мотив использовал А.С.Пушкин в «Руслане и Людмиле». Возможно, что история с хранящей клад «головой» – отзвук жутковатого обычая создавать для клада охранного духа-«кладовика». А лучшим способом создать духа всегда было жертвоприношение, в том числе – человеческое.
[Закрыть] в повести о богатыре Еруслане Залазаровиче, в церкви (как в заговорах и «Повести о Петре и Февронии») или «тереме» на острове Буяне.
В двух последних вариантах можно увидеть воспоминание о тех мечах, что хранились в капищах на балтийской прародине варягов-руси.
В капищах Арконы и Кореницы на Рюгене, Радигощи на континенте мечи висят на стене или поясе кумира, или лежат, или находятся, наконец, в руке кумира – но никогда не воткнуты.
О значении, которое придавали славяне головам жертв, я уже писал. На этом, кстати, различия с ролью меча в ритуалах и жизни воинской касты на Западе и на Руси отнюдь не заканчиваются – так, мечи славянских преданий не имеют имён. Исключением является разве что Щербец польских королей-Пястов, иззубренный о киевские Золотые ворота, да одинокий Аспид из явно переводного «Сказания о Вавилонском царстве».
При всём моём уважении к Марии Семёновой, сцены, где славянские воины говорят со своими мечами или упоминают их имена, целиком остаются на её совести.
В стране, где было бы столь же трепетное, почти интимное отношение к оружию, которым пронизан рыцарский эпос Европы, невозможно было мимоходом бросить: «Когда же мечи свои притуплялись, хватали мечи татарские и бились снова» (рассказ о последней битве дружины Евпатия Коловрата из «Сказания о разорении рязанской земли Батыем») или «сабельки вострыя приломалися; вынимали они палицы булатные».
Так же невозможно, как в русских былинах, с их вещими конями, сивками-бурками, невозможно было бы уронить мимоходом: «И лошади под ними погибли. Тогда сэры рыцари взяли новых коней и поскакали друг на дру а…»
Перечисленные различия, однако же, ничуть не значат, что меч не играл роли в жизни война-руса. Совсем наоборот, – играл, и огромную! Арабские авторы говорят, что русы не расстаются с мечом, мечом разрешают судебные споры и благословляют новорождённых сыновей.
Меч передавался по наследству, а в приднепровском Перещепинском кладе меч лежит среди прочих сокровищ – вот уж воистину кладенец!
Даже после крещения меч клали в могилы князьям и воинам. Даже лежащие в Георгиевском соборе Юрьевского монастыря близ Новгорода посадники начала XIII века, Дмитр Мирошкинич и Борис Семенович, не стали исключением – вопреки христианскому обычаю в их гробницы положили мечи.
Причины такого почтения благородных русских витязей к мечу понятны – меч был самым специализированным, самым «благородным» оружием – палица и копьё имели двойников в оружии ополченцев– простолюдинов – дубину и рогатину, топор же вообще был братом– близнецом рабочей секиры,[37]37
37 В наше время часто говорят о «боевых секирах» и плотницких топора Строго говоря, это ошибка – именно рабочий инструмент назывался в древней Руси секирой, а боевое оружие – топором.
[Закрыть] за что, по-видимому, и попал в «опалу».
На копьё и палицу, кстати, в былинах иногда читают заговоры – подбрасывают в воздух и ловят, приговаривая: «Как владею я копьём бурзамецким (или – «палицей буевою». – Л.П.), так владеть мне богатырём имярек».
Правда, делает это обычно отрицательный герой и терпит в финале сокрушительное поражение.
Ко всякого рода ворожбе воинское сословие относилось хмуровато ещё до возникновения христианства. Излишне говорить, что смелость и проистекающие из неё гордость и независимость – первые из основных нравственных качеств богатыря, прославляемых былинным эпосом. Даже сила без храбрости – ничто.
Алёша Попович, который «не силой силён, а напуском смел», входит в «первую тройку» любимых героев эпоса, а калика Иванище из былины про Илью Муромца и Идолище поганое, который, по собственному признанию главного богатыря русских былин, вдвое сильней его, но не смел – презрительно обозван «дураком».
Если богатырь чего-то и боится – так это показать малейший признак трусости. Советы и запреты в былинах, похоже, существуют именно затем, чтобы богатырь не слушал первых и нарушал вторые.
Богатырь всегда ищет опасности, схватки, для него вызов – появление незнакомого богатыря или след богатырского коня, других поводов для схватки уже не нужно. Тем паче – угроза, пусть даже не прямо в его адрес.
Так, Добрыня, проезжая по «полю чистому» и обнаружив незнакомый шатёр с угрожающей надписью о неизбежной смерти того, кто посмеет войти в шатёр и прикоснуться к запасам его владельца, незамедлительно в этот шатёр входит, устраивает там страшнейший разгром, частью съедает, а частью разбрасывает по полю съестной припас, и частью разливает, а частью (надо полагать, большей) выпивает хмельной мёд, после чего и засыпает посреди наведенного им погрома богатырским сном.
Является хозяин шатра, Дунай, в ярости будит Добрыню («а спящего бить, что мёртвого – не честь-хвала молодецкая!») и, дав тому время вооружиться и сесть на коня, честно старается привести свою угрозу в исполнение.
Доведению схватки до смерти одного из противников мешает лишь появление главы богатырской дружины, Ильи Муромца, разнимающего богатырей и мирящего их. К этому описанию нравов воинской касты надо только прибавить, что Добрыня, как мы помним, отличался от иных богатырей «вежеством рожоным и учёным», вследствие чего ему поручали щекотливые дипломатические задания, а устойчивый эпитет Дуная в былинах – Тихий.
Мда, читатель…можете представить, каковы бывали невежливые и буйные богатыри – вежливого и тихого вы уже видели.
Илья в былинах о «татарском» нашествии один защищает Киев и Русь, рядом нет никого, кто упрекнул бы его в трусости, однако на предупреждение своего вещего коня о трёх вырытых врагами ловушках-«подкопах» богатырь отвечает ударом плети и бранью и продолжает атаковать вражьи полчища. В результате попадает в плен, где чуть не гибнет.
Юный богатырь Михайлушка Данилович (Игнатьевич) ещё более упрям – он, в аналогичных обстоятельствах, едет прямо в «силу-матицу», то есть на подкопы. Тот же Илья у знаменитого камня на распутье без колебаний выбирает дорогу, на которой «убиту быть» – хотя рядом снова нет никого, кто бы мог стать свидетелем его «трусости».
И несть числа таким примерам. Богатырь постоянен – он держит данное слово и не меняет принятых решений, даже если они гибельны для него. Богатырская храбрость неразрывно связана с богатырской гордостью.
Пусть в основе сюжета о «бунте» Ильи против Владимира лежало обрядовое действо, но для былинного героя естественно и характерно именно такое поведение – богатырь, оскорблённый неподобающим местом на пиру или обращением, недостойным подарком, устраивает на княжьем пиру громкую ссору, выливающуюся в настоящий бунт.
Очень показательна сцена уговоров ушедших из Киева богатырей Ильёй «постоять за веру, за отечество».
Илья не мотивирует своей просьбы, вернее сказать, не унижается до мотивации, ибо её не допускает гордость, да просьба побратима и не требует мотивов. Мотивации требует отказ (её мы, читатель, уже рассматривали, эту мотивацию – «ничего нам нет от князя Владимира!»).
После этого просьба и отказ в буквально тех же выражениях повторяются дважды. Гордость на гордость – никто не хочет унизить себя дополнительными объяснениями, уговорами.
Илья, казалось бы, должен переступить через гордость ради «общего дела», однако он этого не делает (и правильно поступает – в рамках богатырской системы ценностей, выписанной в былинах, такая «потеря лица» отнюдь не помогла бы ему, напротив – лишила бы всякого авторитета).
Не переступают через свою гордость и остальные богатыри. Ситуация находит разрешение, как мы видели, в другой важной для нравов воинской касты черте – солидарности.
Возникает, откровенно говоря, подозрение – уж не нарочно ли попался в плен Илья, чтобы спровоцировать наконец богатырскую дружину на действия, хотя бы из кастовой солидарности?
К деньгам и любым не имеющим боевого – прямого, как оружие, или вспомогательного, как сбруя богатырского коня, – значения материальным ценностям богатырь относится презрительно. И если обзаводится таковыми – получив дар от князя, найдя клад или добыв в бою – старается раздать их или устроить на них пир.
Разумеется, очень важна для богатыря слава. Славно пировать, охотиться, славнее же всего – воевать. Тихая, мирная жизнь, вдали от пиров и битв – для богатыря бесславье.
Алёша и Еким, увидев камень на развилке, обозначающий три пути – два в мирные города, славные тихим, сытным житьём, обильной и вкусной едой, крепкими медами и податливыми девицами, и в Киев, к неизбежной воинской службе, не сомневаются в выборе, иначе «пройдет про нас славушка недобрая».
О простонародье говорить долго не приходится.
К счастью, никто пока не додумался до отрицания существования на Руси землепашцев, ремесленников и торговцев. Добавим только, что ценности и правила поведения мирного общинника – будь то земледелец, ремесленник или торговец – прямо противоположны таковым воинской касты.
Былина и не думает осуждать Садко, отчаянно старающегося избежать смерти в море, на которое обрекают его «жребии». Для богатыря подобные недостойные увёртки были бы полнейшим бесславьем – но Садко-то всего-навсего купец.
В русских летописях дважды описана готовность жителей осаждённых печенегами Киева и Белгорода распахнуть ворота перед кочевниками, предпочтя плен голодной смерти – в то время как их современники-воины, оказавшись перед выбором – смерть или плен, кидались на собственные клинки, если не было иной возможности избежать позора плена (об этом повествуют византиец Лев Диакон и араб ибн Мискавейх).
А долго ли бы продержался в крестьянской общине парень, то и дело лезущий в драку и демонстративно пренебрегающий советами? Уважением бы, во всяком случае, не пользовался.
То есть нравы были принципиально разными – а ведь нравы-то, как мы знаем из того же фольклора, представлялись чем-то врождённым. Если вдуматься – даже христианство, впервые поставившее во главу угла не род, не дружину, не корпорацию, не касту, а личность с её «свободным выбором», спасением или гибелью – даже оно, однако, зиждется на представлении о родовой и наследственной ответственности потомков Адама за грех когда-то преступившего запрет божества первопредка.
Даже коммунизм, исходящий из отчуждённой особи «хомо экономикус» XIX–XX веков, при воплощении в жизнь оказался перед необходимостью считаться с понятием «классового происхождения» (с точки зрения ортодоксального марксизма – полнейшая чушь, ибо классовая принадлежность определяется только долей и характером участия в производстве материальных ценностей, но никак не наследственностью).
Кстати, как ни удивительно, современная наука подтверждает подобные взгляды.
Не так давно, в конце XX века, учёными– зоопсихологами был поставлен любопытный опыт – предприняли попытку вывести добрых чёрно-бурых лис. Вообще это весьма агрессивные зверьки с «зубастым» характером. В течение десяти лет исследователи скрещивали между собой самых общительных, миролюбивых лис.
Недавно был получен итог – ласковые, ручные существа, которых поднимают на руки и ласкают пятилетние девочки – а потомки свирепых хищниц-кусак блаженно щурятся в телекамеру.
Поведение, получается, наследуется, характер детей можно задавать, скрещивая сходных характером предков. Кастовое общество осуществляло как раз подобную селекцию, свирепо отбраковывая «неправильных» человеческих особей и воспроизводя, усиливая от поколения к поколению, черты кастовой этики и морали.
Всё более властные правители, всё более отважные, свирепще и сильные воины, всё более хозяйственные и трудолюбивые общинники, всё более послушные рабы.
Немного поговорим об этих самых рабах. Представление о рабах и рабстве у нас сильно испорчено школьными впечатлениями об античном, так называемом классическом, рабстве.
А также и о рабстве негров в Соединённых Штатах, поданном сквозь романтично-слезливую призму «Хижины дяди Тома» и множества «политкорректных» литературных и кинематографичеких клонов этой книжонки (в качестве противоядия всячески рекомендую «Унесённые ветром» М. Митчелл – естественно, книгу, а не фильм).
Однако же рабство у славян и их соседей, народов Северной Европы – германцев, скандинавов, тех же кельтов – имело совсем другой характер.
И не стоит судить о нём по, скажем, роману Валентина Иванова «Повести древних лет» – этому роману прекрасного автора очень повредило то, что Иванов стремился в нём противопоставить в славянофильском духе «плохую, расистскую» Европу, воплощённую в викингах, добрым славянам, и, кроме того, очень малый уровень тогдашних наших знаний об Языческой Европе и Руси.
Так, Новгород не только процветает в романе в IX веке, но и имеет все пять районов-концов – а это число концов появилось в Господине Великом Новгороде лишь к закату его могущества, в XIV–XV веках, в IX же столетии Новгород ещё представлял собою три деревеньки и крепость на островке, образованном Волховом, Малым Волховцем и Жилотугом.
Что до ошибки писателя, расположившего легендарную страну Биармию норманнских саг на беломорском побережье, то её и посейчас разделяют многие учёные, хотя скандинавы добрались до Белого моря не раньше, чем Новгород обзавёлся пятью концами – в XIV веке, а русы вышли на его берега самое раннее за четыре века до того.
Биармия же, вероятнее всего, располагалась на берегах не Северной, а Западной Двины – не зря названия Ливония и Биармия не встречаются в одной и той же саге. Столь же неверно, намеренно мрачно показывает писатель положение у «жестоких» скандинавов рабов-трелей, которых он называет траллсами.
Как шудры в индийской мифологии приходились всё же потомками великому мудрецу и святому, так и у норманнов первый Трель, эпоним-прародитель сословия, был сыном Бога Рига-Хеймдаля.
В Киевской Руси, что характерно, все случаи свирепых и безжалостных расправ с рабами, жестокого с ними обращения «отчего-то» связаны с духовными лицами.
Вряд ли летописцы– монахи оговаривали своих братьев во Христе и духовных отцов, так что это обстоятельство стоит взять на заметку любителям порассуждать про то, что христианская церковь-де старалась смягчить участь рабов. Ни про какого боярина или князя не сказано, как про архиепископа Новгородского, Луку Жидяту, что он отрезал язык и отрубил руки своему холопу Дудике.
Стефан, которого удавили (не иначе, за доброту и ласку) собственные холопы, был отнюдь не мирянином, а преемником Жидяты, епископом новгородским (и опять-таки, ни про какого мирянина в те времена подобного не сообщают).
Епископ Ростовский Феодор «прославился» бесчеловечным отношением к рабам, далеко затмевавшим жестокие развлечения надменной польской шляхты или нашей Дарьи Салтыковой, Салтычихи (и опять-таки, не имевшим ничего похожего среди нецерковных современников).
А преподобный Варлаам Хутынский в одной из записей отчисляет монастырю столько-то голов челяди, да столько– то голов скота – такого упоминания на одном дыхании рабов и скотины вы, читатель, у его светских современников не встретите.
Христианская церковь несла из Византии, Восточной Римской империи не «смягчение жестокого обращения с рабами», а старое римское отношение к «двуногому скоту», «разговаривающим орудиям труда», живой вещи в ошейнике и на цепи.
Слова «раб», «холоп», «челядин», «чадь», «отрок», обозначавшие в древней Руси рабов и не слишком отличавшихся от них зависимых людей, странным (для современного человека) образом близки, а то и вообще совпадают с названиями детей и подростков. Раб – робя, ребя, ребёнок.
Холоп, в западнославянских языках «хлоп» – хлопец, подросток. Челядь – рабы, но во многих говорах и диалектах Руси сохранилось и более древнее значение этого слова – «дети», английское «чилд» – родственное ему.
Оттуда, из окраинных русских говоров, кстати, это слово шагнуло и в некоторые другие языки. Например, в коми-пермяцкий. Когда мне доводилось раскрывать детский журнал «Силькан» («Колокольчик») из Перми, на языке коми, меня немало позабавило обращение в начале журнала: «Челядь!» А значило-то оно всего-навсего «дети, ребята».
«Чадь» – это слуги, но «чадо» – ребёнок. «Отрок» – это не только подросток, в древнерусском это и слуга (в «Повести временных лет» упомянуты отроки воеводы Свенельда, княгини Ольги и других знатных людей), а в болгарском так и попросту раб. Наконец, в былинах упоминаются паробки богатырей.
В современном украинском языке это слово обозначает подростка, а в былинах – это слуги, ухаживающие за конём и оружием героя (как Тороп у Ильи Муромца, пока богатырь сидит у Владимира «во погребах во глубокиих»), выполняющие его приказы.
Показательный пример – когда Алёша Попович видит надпись на придорожном камне, он не сам соскакивает с седла, а сгоняет с коня паробка Екима – «ты, Еким, грамоте поученый человек».
И не в том дело, что сам Алёша неграмотен – письмо какого-нибудь «собаки-царя неверного» в Киеве зачитывает князю Владимиру именно он, да и на богатырской заставе ему часто отводят роль писаря – а в том, что не дело воину выполнять какое-то невоенное дело, когда рядом есть слуга-паробок, способный его выполнить, – в данном случае прочесть надпись на камне.
Богатырь своего паробка даже женить может – не особенно спрашивая его согласия, естественно – как грозится сделать богатырь Хотен Блудович в одноименной былине.[38]38
38 Забавная мелочь – когда В.Я. Пропп ищет в былинах отражения «классовой борьбы», он сосредотачивается на былинах про Хотена и про «бунт» Ильи Муромца против князя Владимира. Однако именно в этих сюжетах богатыри, в которых Пропп хочет видеть представителей «трудового народа», выведены как хозяева паробков, по сути – рабовладельцы.
[Закрыть]
Да, отчасти такое употребление этих слов – это и свидетельство о суровой непререкаемости родительской власти над ребёнком в Древней Руси.
Суровая матушка Феодосия, не вытерпев выкрутасов сынка, заковала будущего святого в цепи и засадила в поруб. Да даже продать ребёнка мать, скажем, имела полное право (как в былине «Иван Гостиный сын»). Да и жизнь дитяти находилась в полной власти родителя – Илья Муромец расправился со своим сыном (за дело, конечно, но сейчас не это важно) и остался меж тем любимым богатырём певцов и сказителей.
Про дела сердечные и говорить не приходится – летописи полным полны сообщений вроде «Олег привёл из Плескова жену Игорю», «Мстислав женил сына своего, Володимира, на княжне Ростиславне» и так далее, и тому подобное.
Это князья – а что уж говорить о пареньке из простонародья.
Да вот – в русской деревне до XX века сохранялся такой обычай, как «снохачество». И состоял он в том, что отец имел все права на жену сына – взрослого сына! Не то чтобы подобное поведение приветствовалось – но и не осуждалось. А вот сына, вздумай тот проявлять недовольство, люди, мягко говоря, не поняли бы.
Но это – лишь одна сторона монеты.
Другая же заключалась в том, что к рабам относились на Руси как к не повзрослевшим детям. Хозяин имел над ними те же права, что отец над сыном – но не более. И имел в их отношении те же обязанности.
Что до суровой власти отцов – нелишним нам будет помнить, что воины Олега и Святослава, Донского и Ермака, Суворова и Ермолова выросли под такой вот суровой отеческой властью – неужели они были меньшими мужчинами, чем нынешние поколения, сызмальства напичканные представлениями о своих правах – и обязанностях родителей?
И если да – почему перед ними трепетали предки тех, что сейчас хозяевами гуляют по улицам наших городов? Кстати, эти чужаки, чувствующие себя хозяевами в повернувшейся на «правах» России, как раз столь же безропотно признают над собою власть своих седобородых отцов, как и наши недавние предки.
Но мы отвлеклись, читатель.
Вернёмся к тому, почему в древней Руси рабов сближали с детьми. Араб ибн Русте пишет: «К рабам они (русы. – Л.П.) относятся хорошо и заботятся об них». Кстати, опять-таки сходство с кастовым обществом в Индии – шудра по правам был приравнен к ребёнку.
Грань между взрослым и ребёнком – а также между свободным и рабом – в традиционном обществе определялась не количеством прожитых лет. Как раз рабы и были людьми, дожившими подчас до седых волос, но так и не признанными общиной взрослыми.
Ребёнка превращал во взрослого суровый обряд вхождения в род, посвящения. Его можно сравнить со вторым рождением – в Индии полноправных членов общины, не шудр, так и называли «дваждырождённые».
А можно – со смертью ребенка. Потому что, для того, чтоб родился взрослый сородич, ребёнок должен был умереть. И обряд этот был когда-то страшным, как смерть, и мучительным, как роды.
Стать объектом этого обряда было почти так же страшно, как стать объектом человеческого жертвоприношения – и ведь это «почти» существует только для нас, ведь те, кто ему подвергался, верили, что умирают всерьёз, что грозные Божества пожирают ребёнка в хижине в виде зверя-покровителя рода, обнесённой частоколом с черепами врагов – чтоб породить взрослого сородича!
Память об этих ритуалах, как установил В.Я. Пропп в своём труде «Исторические корни волшебной сказки», отразилась в русских сказках – это оттуда все эти разрубленные на кусочки и оживлённые живой и мёртвой водою царевичи и витязи. Это оттуда зловещая избушка на куриных ногах в лесной чаще, огороженная забором, увенчанным черепами, и страшная старуха, сажающая в печь на лопате маленьких детей.
Далеко не каждый мог этот обряд вынести – но в далёкие охотничьи времена, когда он появился, слабые дети до него попросту не доживали – делали своё дело холод, голод, болезни, хищные звери.
Когда же появилось земледелие – времена стали мягче, больше детей доживали до ритуала, то больше становилось таких, что с криком «Мама!!!» бросались прочь, назад из страшных лесных хижин, от черепов на частоколе, от жрецов и жриц в масках чудовищ, от ужаса и боли.