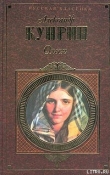Текст книги "Хаджи-Мурат. Избранное"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Глава IV
– Эхма! Трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! – повторил Веленчук.
– А ты бы сихарки курил, милый человек! – заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. – Я так все сихарки дома курю, она слаще!
Разумеется, все покатились со смеху.
– То-то, трубку забыл, – перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. – Ты где там пропадал? А, Веленчук?
Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.
– Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.
– Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, – отвечал Веленчук. – С какой радости напился! – проворчал он.
– То-то! а из-за вашего брата ответствуешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете – вовсе безобразно, – заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.
– Ведь вот чудо-то, братцы мои, – продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности. – Право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует – ничего не было, да вдруг у парке как она схватит меня… схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все… И как заснул, сам не слыхал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, – заключил он.
– Ведь и то насилу я тебя разбудил, – сказал Антонов, натягивая сапог: – уж я тебя толкал, толкал… ровно чурбан какой!
– Вишь ты, – заметил Веленчук, – добро уж пьяный бы был…
– Так-то у нас дома баба была, – начал Чикин, – так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, – так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!
– А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, – сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»
– Какой тон, Федор Максимыч! – сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд. – Известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.
– Ну да, как же, как же! Ты не модничай… расскажи, как ты им предводительствовал?
– Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, – начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое. – Я говорю, живем хорошо, милый человек; провиянт сполна получаем, утро и вечер по чашке щиколата идет на солдата, а в обед идет господский суп из перловых круп, а замест водки модера полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!
– Важная модера! – громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. – Вот так модера!
– Ну, а про эзиятов как рассказывал? – продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.
Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал.
– Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одном глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! – прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом.
Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»
– А то еще, говорю, мумры есть, – продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку. – Те другие, двойнешки маленькие, вот такие. Все по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли?» – воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. «Да, говорю, милый человек, он такой от природии. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она, кровь, пойдет». – «А кажи, малый, как они бьют-то?» – говорит. «Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон…»
– Ну что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? – сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.
– И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу верют! А стал им про гору Казбек сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лощине снег лежит. – Поди ты! – заключил Чикин, подмигивая.
Глава V
Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко: серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.
Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.
«Это еще было не дело, а одна потеха-с», – как говорил добрый капитан Хлопов.
Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.
– Видите, – говорил он, с доброй и убедительной улыбкой протягивая руку из-за моего плеча, – где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста…
– А вон еще трое едут, по-под лесом, – прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время, – еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!
– Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, – сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.
– Должно, в нашу цепь, прохвост! – заметил другой.
– Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят – орудию поставить хотят, – добавил третий. – Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали… – А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? – спросил Чикин.
– Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, – как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить, – коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.
– Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, – продолжал упрашивать меня ротный командир.
– Прикажете навести орудие? – отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.
Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.
Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.
– Чуть-чуть влево… самую малость вправо… еще, еще трошки… так, ладно, – сказал он, с гордым видом отходя от орудия.
Пехотный офицер, я, Максимов один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.
– Ей-богу, перенесет, – заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел через плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. – Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дерево попанет, братцы мои!
– Второе! – скомандовал я.
Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделялся металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.
Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.
«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» – послышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.
– Коли бы трошки нижe пуcтить, в самую его бы попало, – заметил Веленчук. – Говорил, в дереву попанет: оно и есть – взяло вправо.
Глава VI
Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку бонжурами. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? И на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.
– Когда этот отряд кончится? – сказал он лениво. – Скучно!
– Мне не скучно, – сказал я, – ведь в штабе еще скучнее.
– О, в штабе в десять тысяч раз хуже, – сказал он со злостью. – Нет! когда все это совсем кончится?
– Что же вы хотите, чтоб кончились? – спросил я.
– Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? – спросил он.
– Для чего же вы пошли служить на Кавказ, – сказал я, – коли Кавказ вам так не нравится?
– Знаете, для чего, – отвечал он с решительной откровенностью, – по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.
– Да, это почти правда, – сказал я. – Большая часть из нас…
– Но что лучше всего, – перебил он меня, – что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками – все это страшное что-то, а в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т. д.
– Да, – сказал я, смеясь, – мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь, воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..
– Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, – перебил он меня.
– Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе…
– Может быть, и хорош, – продолжал он с какою-то раздражительностью, – знаю только то, что я не хорош на Кавказе.
– Отчего же так? – сказал я, чтоб сказать что-нибудь.
– Оттого, что, во-первых, он обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное – то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности… Просто я не храбр… Он остановился и посмотрел на меня. Без шуток.
Хотя это непрошеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.
– Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, – продолжал он, – и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, – прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. – И что смешно, – продолжал он, – что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело… Вино есть, Николаев? – прибавил он, зевая.
– Это он, братцы мои! – послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма.
Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, – все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.
– Вы где брали вино? – лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один – Господи, приими дух мой с миром, другой – надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, – и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.
– Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, – сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, – я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.
– Да вы и теперь сказали, – отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью.
– Да что ж, что сказал: никто не запишет.
– А я запишу.
– Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков, – прибавил он улыбаясь.
– Тьфу ты, проклятый! – сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону. – Трошки по ногам не задела.
Все мое старанье казаться хладнокровными и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.
Глава VII
Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.
Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидаясь своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.
Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.
Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья… Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.
По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра – пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.
Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» – говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направленью, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж он нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».
Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.
– Картечь! – крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.
В это время недалеко сзади себя я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», – подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» – раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» – проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.
Все это я разобрал гораздо после; в первую минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.
Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то вроде: «Вишь ты как, в кровь», – и Антонов, нахмурившись, крякнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.
Глава VIII
Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали? берись!» – крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.
– Что кричишь, как заяц! – сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу. – А не то бросим.
И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! О-ох, братцы мои!»
Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами – должно быть, прощался – тихим, но внятным голосом.
В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.
На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.
Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок[31]31
Черес – кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом (прим. Л.Н. Толстого).
[Закрыть] с деньгами.
Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.
– Тут три монеты и полтинник, – сказал он мне в то время, как я брал в руки черес, – уж вы их сберегёте.
Повозка было тронулась; но он остановил ее.
– Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.
– Хорошо, хорошо, – сказал я, – выздоравливай, братец!
Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.



![Книга Штабс-капитан Круглов. Книга вторая [СИ] автора Глеб Исаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-shtabs-kapitan-kruglov.-kniga-vtoraya-si-369261.jpg)