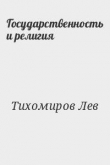Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 39. Статьи 1893-1898 гг."
Автор книги: Лев Толстой
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Во второй из данных биографических заметок Толстой остановился на обрисовке жизни и деятельности маркиза Луки де Клапье Вовенарга – французского моралиста и литератора ХѴIІІ столетия. Он интересовался им давно, еще в 70-х годах. Толстой восторгался «ясным и сильным сочинением» его о «свободе человека». Отдельные мысли Вовенарга и особенно полюбившееся Толстому его изречение – «Великие мысли исходят из сердца» – встречаются и во всех «календарных» компиляциях Толстого, и в его Дневниках, и в переписке. А. основное его сочинение – «Парадоксы вперемежку с размышлениями и правилами» – и послужило одним из четырех источников упомянутого сборника «Избранных мыслей».
Литературные работы Вовенарга Толстой ценил прежде всего за их «парадоксальность», резко расходившуюся с общепринятыми понятиями и суждениями. Но он всячески подчеркивал «опрощенческие» устремления у этого мыслителя. Сообщая, что жизнь Вовенарга (ввиду служебных неудач и тяжелых болезней, в результате которых он должен был уехать в свое деревенское поместье) «по внешним условиям была самою несчастною», Толстой утверждает, что это, наоборот, способствовало лишь развитию в нем «высоких умственных и нравственных качеств». И точно так же, указывая, что и Вовенарг «был очень мало образован», Толстой приходит к выводу, что ни это, ни «деревенское уединение» его «не только не помешали его умственной деятельности, но, напротив, много содействовали ее самобытности».
Третий биографический очерк посвящен французскому социологу XVIII века – барону и графу Шарлю Луи Монтескье. С главным произведением его «Дух законов» Толстой внимательно ознакомился еще на студенческой скамье. Но этому и другим знаменитым произведениям Монтескье он предпочел теперь «мало замеченное и почти неизвестное» собрание его мыслей – именно за «особенный... характер спокойствия и основательности».
В теснейшей связи с только что рассмотренными заметками находится еще один мемуарно-биографический очерк – «Первое знакомство с Эрнестом Кросби». Кросби являлся американским единомышленником Толстого, и поэтому характеристика его облика дана здесь с особой силой. Толстой яркими штрихами запечатлел внешний вид и социальное положение этого «образованного, красивого, богатого, пользовавшегося хорошим общественным положением» филантропа, пожертвовавшего через Толстого «довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая» русских крестьян в 90-х годах минувшего столетия. С трогательным волнением Толстой описывает близкий и понятный ему душевный «переворот», который пережил Кросби, став человеком «цельного христианского мировоззрения», никогда потом уже не сходя с этой позиции.
Особый цикл работ, печатающихся в настоящих томах, составляют вступительные и заключительные статьи Толстого к работам других авторов. Это – «Предисловие к книге «Жизнь и изречения Кришны», «Послесловие к статье П. И. Бирюкова «Гонение на христиан в России в 1895 г.», «Послесловие к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина» и др.
Они по содержанию напоминают собою те же публицистические работы Толстого, затрагивающие острые вопросы современности и трактующие их в том же морально-религиозном направлении, но только в более сжатой форме.
Характерным образцом работ подобного рода является, например, «Послесловие к воззванию «Помогите!», где Толстой бесстрашно выступает, несмотря на царившую тогда политическую обстановку и свирепый цензурный гнет, против жестоких преследований секты духоборов со стороны русского самодержавия.
Толстой уподобляет эти жестокие притеснения неслыханным зверствам первобытной эпохи: он изобличает «ожесточение и слепоту русского правительства», направляющего против беззащитных сектантов «гонения, подобные временам язычников». Но, с другой стороны, Толстой отнюдь не выдвигает сколько-нибудь действенных мер против этих зверств, а ограничивается лишь апологией непротивления независимых, религиозно настроенных духоборов. Он прямо именует их «новыми христианскими мучениками», современными «учениками Христа», в смиренном поведении которых якобы происходит «произрастание того семени, которое посеяно Христом 1800 лет тому назад». Он умиляется этой «антигосударственной сектой», которая путем внутреннего сопротивления «отрицала обязанность подчинения властям», «удивительной кротостью и спокойствием, с которыми переносили эти гонения» духоборы.
Но Толстой не только выступает против бесчеловечных притеснителей духоборов, но также требует к ним чувства «христианской» любви в такой же мере, как и к самим притесняемым. Своей поддержкой этого воззвания он был, как и его составители, «руководим одним религиозным чувством желания служить... богу и ближним, – как гонимым, так и гонителям».
IV
Наконец, в настоящий том вошли и художественные произведения.
Они, как сказано, не имели здесь самодовлеющего значения, потому что тоже были органически связаны с работами компилятивного жанра.
Поэтому по своему содержанию они носили назидательный характер, а в жанровом отношении одни из них примыкали к фольклорному творчеству, другие – к нравственно-поучительному роду.
К первому роду относится «Календарь с пословицами на 1887 год». Это уже не просто компиляция условно-календарного типа, а календарь в собственном смысле слова – на реальные дни и месяцы определенного года. Он был издан, правда, в форме книжки, но по своему содержанию распадался на два раздела, соответствовавшие лицевой и оборотной сторонам отрывного календаря. В первом разделе приведены были наименования месяцев и дней недели, числа, именные «святцы», перечень праздников, обозначения «восхода» и «захода» солнца. Во втором же разделе были сосредоточены именно литературные материалы – подлинные народные пословицы «на каждый день» и описания крестьянских «работ» на каждый месяц, представлявшие собою неподражаемый образец «народной» стилизации.
Особенно пословицы эти – как в отношении подбора, так и по своей тематике – носили печать все того же «определенного миросозерцания». Толстой вводит сюда пословицы и поговорки, вскрывающие социальное противоречие между богатством и бедностью. Но он здесь не только не стремится подбором других пословиц указать на иные стороны народного мировоззрения, но наоборот, утверждает преимущество бедности перед богатством. «Богатый в неволе у прихотей своих» (10 III), «Богатому не спится, он вора боится» (29 I); в противоположность же этому – «Богачи едят калачи, да не спят ни днем, ни в ночи, а бедный чего ни хлебнет, да заснет» (1 VIII), «Бедному горе, а богатому вдвое» (8 I), «Богатство гинет, а нищета живет» (29 V), «Богатство с золотом, а бедность с весельем» (19 III) и т. д.
Столь же противоречивы здесь и сочетания пословиц, в которых отражены сетования народных масс против социального тунеядства, эксплуатации труда, барского землевладения и т. п. Так, с одной стороны, эти общественные несправедливости осуждаются в таких пословицах, как: «Белые ручки чужие труды любят» (7 XII), «Богач деньги бы ел, кабы его убогий не кормил» (20 VII), «Не тот хозяин земле, кто по ней бродит, а тот, кто по ней с сохой ходит» (6 XII) и пр. С другой стороны, Толстой приводит многочисленные пословицы, проповедующие непротивление злу насилием и отчасти дословно знакомые по употреблению их в толстовской публицистике: «Сила не в силе, а в правде» (25 X, ср. также в статье «Христианство и патриотизм»), «Добро помни, а зло забывай» (14 VIII) и т. д.
В «Календаре» встречается немало пословиц, направленных против современного правосудия: «Хоть бы все законы пропали, да люди правдой бы жили» (18 IX), милитаризма: «Ни моря без воды, ни войны без крови» (16 IX), клерикалов: «Колокольный звон не молитва» (20 XII) и т. п. Однако рядом же с ними имеется ряд пословиц морально-религиозного характера, – о приоритете якобы «духа» над «плотью», например: «Душа тела дороже», «Что телу любо, то душе грубо», «Телу простор, душе теснота» (17 IX, 22 XI) и т. п.
Художественные рассказы, сказки, легенды, введенные Толстым в его сборники, носят также нравственно-поучительный характер. Они предназначались для «Детского круга чтения», издание которого не состоялось, где должны были служить иллюстрацией к философским «изречениям» за неделю. Вследствие этого и все такие произведения, отличаясь друг от друга и по теме и по форме, представляли собой художественное воплощение той или иной из основных идей Толстого и отмечены, стало быть, теми же противоречиями, что и остальные материалы настоящих томов.
Правда, большинство из этих недельных чтений не оригинально, а заимствовано Толстым из литературного наследия других писателей. Так, «Бедные люди» явились прозаическим, его переводом одного из стихотворных произведений В. Гюго; «Царское новое платье» – переработкой сказки Андерсена; «Шут Палечек» – переделкой рассказа словенского писателя. А. Шкарвана. Но они не просто, разумеется, переведены были Толстым, а настолько им переработаны, что в еще большей степени, нежели самые «изречения», носили черты его гения.
Подводя итог всему сказанному, можно прийти к следующему выводу.
Толстой под влиянием революционных событий в России, с неустрашимым мужеством восставал против жестокостей самодержавия и продажности бюрократии, разоблачал несправедливость состояния землевладения в России и хищническую сущность капиталистической эксплуатации, клеймил пустоту светской среды и лицемерие либералов, вскрывал тупость военщины и. ханжество официальной церкви.
Но все более и более углубляя свое критическое отношение к оценке «сущего», Толстой продолжал оставаться беспомощным утопистом в оценке «должного». Вскрыв сущность зла он не указал, однако, подлинных путей для его преодоления. Толстой отстранился от активной политической борьбы, отрешился от участия в строительстве новой жизни, противопоставив этому проповедь «неучастия в зле», теорию «неделения», как путь к осуществлению своего патриархально-утопического идеала.
И Ленин не только вскрыл эти «сильные» и «слабые» стороны в творчестве Толстого, но и дал им также точную политическую оценку. Он отмечал, что «своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода».3737
В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.
[Закрыть] Но вместе с тем предупреждал: «всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред».3838
Там же, т. 17, стр. 33.
[Закрыть]
Подлинное значение публицистических работ Толстого, как и всех произведений, включенных в настоящие тома, состоит не в тех ошибочных патриархально-утопических идеалах, которыми пронизана каждая из них, а в огромной силе их сокрушительной критики буржуазного общества, в том, что эта критика безусловно сохранила непреходящий характер и по сию пору.
Проф. С. М Брейтбург
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.
Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.
Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.
В местоимении «что» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью.
Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.
Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.
После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.
На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.
Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.
Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.
Авторские скобки обозначены круглыми скобками.
Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.
Абзацы редактора делаются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.
Обозначение * при названиях произведений означает, что печатается впервые.
СТАТЬИ
1893—1898
РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ
Вы спрашивали меня: 1) что я понимаю под словом «религия» и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее?
Постараюсь по мере своих сил наилучшим образом ответить на эти в высшей степени важные и прекрасно поставленные вопросы.
Слову «религия» приписываются обыкновенно три различных значения.
Первое то, что религия есть известное, данное богом людям истинное откровение и вытекающее из этого откровения богопочитание. Такое значение приписывают религии люди, верующие в какую-нибудь одну из существующих религий и считающие поэтому эту одну религию истинною.
Второе значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод известных суеверных положений и вытекающее из этих положений суеверное богопочитание. Такое значение приписывается религии людьми неверующими вообще или не верующими в ту религию, которую они определяют.
Третье значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод придуманных умными людьми положений и законов, необходимых грубым народным массам как для их утешения, так и для сдерживания их страстей и для управления ими. Такое значение приписывают религии люди равнодушные к религии, как религии, но считающие ее полезным орудием государственности.
Религия по первому определению есть несомненная, непререкаемая истина, которую желательно и даже обязательно для блага людей распространять между ними всеми возможными средствами.
По второму определению религия есть собрание суеверий, от которых желательно и даже обязательно для блага человечества всеми возможными средствами избавлять людей.
По третьему определению религия есть известное полезное для людей приспособление, хотя и не нужное для людей высшего развития, необходимое, однако, для утешения грубого народа и для управления им, и которое поэтому необходимо поддерживать.
Первое определение подобно тому, которое сделал бы человек музыке, сказав, что музыка есть та самая известная ему любимая им песня, которой желательно научить как можно больше народа.
Второе – подобно тому, которое сделал бы музыке человек, не понимающий и потому не любящий ее, сказав, что музыка есть произведение звуков гортанью и ртом или руками над известными инструментами и что надо отучить людей, как можно скорее, от этого ненужного или даже вредного занятия.
Третье – подобно тому, которое бы сделал человек музыке, сказав, что это есть дело полезное для обучения танцам или для марширования, и которое для этих целей надо поддерживать.
Различие и неполнота этих определений происходит от того, что все они не захватывают сущности музыки, а определяют только признаки ее, смотря по точке зрения определяющего. Точно то же и с тремя данными определениями религии.
По первому определению религия есть то, во что, по его убеждению, справедливо верит тот человек, который определяет ее.
По второму определению она есть то, во что, по наблюдениям определяющего, несправедливо верят другие люди.
По третьему определению она есть то, во что полезно заставлять верить людей.
Во всех трех определениях определяется не то, что составляет сущность религии, а вера людей в то, что они считают религией. При первом определении под понятие религии подставляется вера того, кто определяет религию; при втором определении – вера других люден в то, что эти другие люди считают религией; при третьем определении вера людей в то, что им выдают за религию.
Но что же такое вера? И почему люди верят в то, во что верят? Что такое вера и откуда она возникла?
Среди большинства людей современной культурной толпы считается вопросом решенным то, что сущность всякой религии состоит в происшедшем от суеверного страха перед непонятными явлениями природы олицетворении, обоготворении этих сил природы и поклонении им.
Мнение это принимается без критики, на веру культурною толпой нашего времени и не только не встречает возражения в людях науки, но большею частью среди них-то и находит самые определенные подтверждения. Если и раздаются изредка голоса людей, как Макса Мюллера и других, приписывающих религии другое происхождение и смысл, то голоса эти не слышны и не заметны среди всеобщего единодушного признания религии вообще проявлением суеверия и невежества. Еще недавно, в начале настоящего столетия, самые передовые люди если и отвергали католичество, протестантство и православие, как это делали энциклопедисты конца прошлого столетия, то никто из них не отвергал того, что религия вообще была и есть необходимое условие жизни каждого человека. Не говоря о деистах, как Бернарден-де-Сен-Пьер, Дидро и Руссо, Вольтер ставил памятник богу, Робеспьер устанавливал празднество высшего существа. Но в наше время, благодаря легкомысленному и поверхностному учению Огюста Конта, искренно верившего, как и большинство французов, что христианство есть не что иное, как католичество, и потому в католичестве видевшего полное осуществление христианства, решено и признано культурною толпою, как всегда охотно и быстро принимающей самые низменные представления, – решено и признано, что религия есть только известная, давно уже пережитая фаза развития человечества, мешающая его прогрессу. Признается, что человечество пережило уже два периода: религиозный и метафизический, и теперь вступило в третий, высший – научный, и что все явления религиозные среди людей суть только переживания когда-то нужного духовного органа человечества, уже давно потерявшего свои смысл и значение, в роде ногтя пятого пальца лошади. Признается, что сущность религии состоит в вызванном страхом перед непонятными силами природы признании воображаемых существ и поклонении им, как это еще в древности думал Демокрит и как это утверждают новейшие философы и историки религий.
Но, не говоря уже о том, что признание невидимых сверхъестественных существ или существа происходило и происходит не всегда от страха перед неведомыми силами природы, как свидетельствуют о том сотни самых передовых и высокообразованных людей прошедшего времени, Сократы, Декарты, Ньютоны, и таких же людей нашего времени, никак уже не из страха перед неведомыми силами природы признававших высшие сверхъестественные существа или существо, – утверждение о том, что религия произошла от суеверного страха людей перед непонятными силами природы, в действительности ничего не отвечает на главный вопрос: откуда взялось в людях представление о невидимых сверхъестественных существах?
Если люди боялись грома и молнии, то они и боялись бы грома и молнии, но для чего же они придумали какое-то невидимое сверхъестественное существо, Юпитера, которое где-то находится и кидает иногда в людей стрелами?
Если люди были поражены видом смерти, то они и боялись бы смерти, а для чего же они «придумали» души умерших, с которыми стали входить в воображаемое сношение? От грома люди могли прятаться, от ужаса перед смертью могли бежать от нее, но придумали они вечное и могущественное существо, от которого они считают себя в зависимости, и живые души умерших не от страха только, а по каким-то другим причинам. И в этих-то причинах, очевидно, и заключается сущность того, что называется религией. Кроме того, всякий человек, когда-либо, хотя бы в детстве, испытавший религиозное чувство, по своему личному опыту знает, что чувство это всегда вызываемо было в нем не внешними страшными вещественными явлениями, а внутренним, не имеющим ничего общего с страхом перед непонятными силами природы сознанием своего ничтожества, одиночества и своей греховности. И потому человек и по внешнему наблюдению и по личному опыту может узнать, что религия не есть поклонение божествам, вызванное суеверным страхом перед неведомыми силами природы, которое свойственно людям только в известный период их развития, а нечто совершенно независимое от страха и от степени образования человека и не могущее уничтожиться никаким развитием просвещения, так как сознание человеком своей конечности среди бесконечного мира и своей греховности, т. е. неисполнения всего того, что он мог бы и должен был сделать, но не сделал, всегда было и всегда будет до тех пор, пока человек останется человеком.
В самом деле, всякий человек, как только он выходит из животного состояния ребячества и первого детства, во время которого он живет, руководясь только теми требованиями, которые предъявляются ему его животной природой, – всякий человек, проснувшись к разумному сознанию, не может не заметить того, что всё вокруг него живет, возобновляясь, не уничтожаясь и неуклонно подчиняясь одному определенному, вечному закону, а что он только один, сознавая себя отдельным от всего мира существом, приговорен к смерти, к исчезновению в беспредельном пространстве и бесконечном времени и к мучительному сознанию ответственности в своих поступках, т. е. сознанию того, что, поступив нехорошо, он мог бы поступить лучше. И, поняв это, всякий разумный человек не может не задуматься и не спросить себя: для чего это его мгновенное, неопределенное и колеблющееся существование среди этого вечного, твердо определенного и бесконечного мира? Вступая в истинную человеческую жизнь, человек не может обойти этого вопроса.
Вопрос этот стоит всегда перед каждым человеком, и всякий человек всегда так или иначе отвечает на него. Ответ же на этот вопрос и есть то, что составляет сущность всякой религии. Сущность всякой религии состоит только в ответе на вопрос: зачем я живу и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру?
Вся же метафизика религии, все учения о божествах, о происхождении мира, всё внешнее богопочитание, которые обыкновенно принимаются за религию, суть только различные по географическим, этнографическим и историческим условиям сопутствующие религии признаки. Нет ни одной религии, от самой возвышенной и до самой грубой, которая не имела бы в основе своей этого установления отношения человека к окружающему его миру или первопричине его. Нет ни одного самого грубого религиозного обряда, так же как и самого утонченного культа, которые не имели бы в своей основе того же самого.
Всякое религиозное учение есть выражение основателем религии того отношения, в котором он признает себя, как человека, а вследствие того и всех других людей, к миру или началу и первопричине его.
Выражения этих отношений очень многообразны, соответственно этнографическим и историческим условиям, в которых находятся основатель религии и народ, усвоивающий ее; кроме того, выражения эти всегда различно перетолковываются и уродуются последователями учителя, обыкновенно на сотни, иногда на тысячи лет предваряющего понимания масс; и потому этих отношений человека к миру, т. е. религий, кажется очень много, но в сущности основных отношений человека к миру или началу его есть только три: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное, или семейно-государственное и 3) христианское, или божеское.
Строго говоря, основных отношений человека к миру только два: личное, состоящее в признании смысла жизни в благе личности, приобретаемом отдельно или в соединении с другими личностями, и христианское, признающее смысл жизни в служении пославшему человека в мир. Второе же отношение человека к миру – общественное – в сущности есть только расширение первого.
Первое из этих отношений, самое древнее – то, которое теперь встречается между людьми, стоящими на самой низшей степени развития, – состоит в том, что человек признает себя самодовлеющим существом, живущим в мире для приобретения в нем наибольшего возможного личного блага, независимо от того, насколько страдает от этого благо других существ.
Из этого самого первого отношения к миру, в котором находится всякий ребенок, вступая в жизнь, и в котором жило человечество на первой, языческой, ступени своего развития и живут еще и теперь многие, отдельные, самые нравственногрубые люди и дикие народы, вытекают все языческие древние религии, так же как и низшие формы позднейших религий в их извращенном виде: буддизм3939
Буддизм, хотя и требующий от своих последователей отречения от благ мира и от самой жизни, основывается на том же отношении самодовлеющей и предназначенной к благу личности к окружающему ее миру, только с тою разницей, что прямое язычество признает право человека на наслаждения, буддизм же – на отсутствие страданий. Язычество считает, что мир должен служить благу личности. Буддизм считает, что мир должен исчезнуть, так как он производит страдания личности. Буддизм есть только отрицательное язычество.
[Закрыть]таосизм, магометанство и другие.
Из этого же отношения к миру вытекает и новейший спиритизм, имеющий в основе своей сохранение личности и блага ее. Все языческие культы – гадания, обоготворения таких же, как и человек, наслаждающихся существ, или святых, молящихся за него, все жертвоприношения и молитвы о даровании благ земных и избавления от бедствий – вытекают из этого отношения к жизни.
Второе, языческое отношение человека к миру, общественное – то, которое устанавливается им на следующей ступени развития, отношение, свойственное преимущественно возмужалым людям, – состоит в том, что значение жизни признается не в благе одной отдельной личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, государства, и даже человечества (попытка религии позитивистов).
Смысл жизни при этом отношении человека к миру переносится из личности в семью, род, народ, государство, в известную совокупность личностей, благо которой и считается при этом целью существования. Из этого отношения вытекают все одного характера религии патриархальные и общественные: китайская и японская религия, религия избранного народа – еврейская, государственная религия римлян, наша церковно-государственная, низведенная на эту степень Августином, хотя она и называется не свойственным ей именем – христианской, и предполагаемая религия человечества – позитивистов. Все обряды поклонения предкам в Китае и Японии, поклонения императорам в Риме, вся многосложная еврейская обрядность, имеющая целью соблюсти договор избранного народа с богом, все семейные, общественные церковно-христианские молебствия за благоденствие государства и за военные успехи зиждутся на этом отношении человека к миру.
Третье отношение человека к миру, христианское – то, в котором невольно чувствует себя всякий старый человек и в которое вступает теперь, по моему мнению, человечество, – состоит в том, что значение жизни признается человеком уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той воле, которая произвела его и весь мир для. достижения не своих целей, а целей этой воли.
Из этого отношения к миру вытекает высшее известное нам религиозное учение, зачатки которого были уже у пифагорийцев, терапевтов, ессеев, у египтян и у персов, у браминов, буддистов и таосистов в их высших представителях, но которое получило свое полное и последнее выражение только в христианстве – в его истинном, неизвращенном значении.
Все обряды древних религии, вытекавших из этого понимания жизни, и все в наше время внешние формы общения унитарианцев, универсалистов, квакеров, сербских назаренов, русских духоборов и всех так называемых рационалистических сект, все проповеди, песнопения, беседы, книги их суть религиозные проявления этого отношения человека к миру.
Все возможные религии, какие бы они ни были, неизбежно распределяются между этими тремя отношениями людей к миру.
Всякий человек, вышедший из животного состояния, неизбежно признает то, или другое, или третье из этих отношений, и в этом признании и состоит истинная религия каждого человека, несмотря на то, к какому исповеданию он номинально признает себя принадлежащим.
Каждый человек непременно как-нибудь представляет себе свое отношение к миру, потому что разумное существо не может жить в мире, окружающем его, не имея какого-либо отношения к нему. А так как отношений к этому миру человечеством до сих пор выработано и нам известно только три, то всякий человек неизбежно держится одного из трех существующих отношений и – хочет или не хочет того – принадлежит к одной из трех основных религий, между которыми распределяется весь род человеческий.
И потому весьма распространенное утверждение людей культурной толпы христианского мира о том, что они поднялись на такую высоту развития, что уже не нуждаются ни в какой религии и не имеют ее, в сущности означает только то, что люди эти, не признавая религии христианской, той единственной религии, которая свойственна нашему времени, держатся низшей – или общественно-семейно-государственной или первобытной языческой религии, сами не сознавая этого. Человек без религии, т. е. без какого-либо отношения к миру, так же невозможен, как человек без сердца. Он может не знать, что у него есть религия, как может человек не знать того, что у него есть сердце; но как без религии, так и без сердца человек не может существовать.
Религия есть то отношение, в котором признает себя человек к окружающему его бесконечному миру, или началу и первопричине его, и разумный человек не может не находиться в каком-нибудь отношении к нему.
Но вы скажете, может быть, что установление отношения человека к миру есть дело не религии, но философии или вообще науки, если рассматривать философию, как часть ее. Я не думаю этого. Я думаю, напротив, что предположение о том, что наука вообще, включая в нее и философию, может установить отношение человека к миру, совершенно ошибочно и служит главною причиной той путаницы понятий о религии, науке и нравственности, которые существуют в культурных слоях нашего общества.
Наука, включая в нее философию, не может установить отношения человека к бесконечному миру или началу его уже по одному тому, что прежде, чем могла возникнуть какая-нибудь философия или какая-нибудь наука, должно было уже существовать то, без чего невозможна никакая деятельность мысли и какое-либо, то или другое, отношение человека к миру.