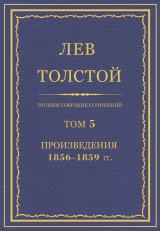
Текст книги "Произведения, 1856—1859"
Автор книги: Лев Толстой
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Я до этой минуты всё не верил, что это может быть, – тихо ответил он на мой взгляд.
– Да, но мне страшно почему-то, – сказала я.
– Меня страшно, мой друг? – сказал он, взяв мою руку и опуская к ней голову.
Моя рука безжизненно лежала в его руке, и в сердце становилось больно от холода.
– Да, – прошептала я.
Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку, мне стало жарко, глаза в полутьме искали его взгляда, и я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот – любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что я вся его, и что я счастлива его властью надо мною.
–
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда; а между тем на целую жизнь достало бы чувств, волнений и счастия этих двух месяцев. Мои и его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования и жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой; было, напротив, одно себялюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда по делам ездил в город и ходил по хозяйству; но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как всё на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и мамашей, и школой; но всё это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрение; но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня, и мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее себялюбивое чувство; но чувство это давало мне счастие и высоко поднимало меня над всем миром. Только он один существовал для меня на свете, а его я считала самым прекрасным, непогрешимым человеком в мире; поэтому я и не могла жить ни для чего другого, как для него, как для того, чтобы быть в его глазах тем, чем он считал меня. А он считал меня первою и прекраснейшею женщиной в мире, одаренною всеми возможными добродетелями; и я старалась быть этою женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире.
Один раз он вошел ко мне в комнату в то время, как я молилась Богу. Я оглянулась на него и продолжала молиться. Он сел у стола, чтобы не мешать мне, и раскрыл книгу. Но мне показалось, что он смотрит на меня, и я оглянулась. Он улыбнулся, я рассмеялась и не могла молиться.
– А ты молился уже? – спросила я.
– Да. Да ты продолжай, я уйду.
– Да ты молишься, надеюсь?
Он, не отвечая, хотел уйти, но я остановила его.
– Душа моя, пожалуйста, для меня, прочти со мною молитвы.
Он стал рядом со мною и, неловко опустив руки, с серьезным лицом, запинаясь, стал читать. Изредка он оборачивался ко мне, искал одобрения и помощи на моем лице.
Когда он кончил, я засмеялась и обняла его.
– Всё ты, всё ты! Точно мне опять десять лет становится, – сказал он, краснея и целуя мои руки.
Наш дом был один из старых деревенских домов, в которых, уважая и любя одно другое, прожило несколько родственных поколений. Ото всего пахло хорошими честными семейными воспоминаниями, которые вдруг, как только я вошла в этот дом, сделались как будто и моими воспоминаниями. Убранство и порядок дома велись Татьяною Семеновной по-старинному. Нельзя сказать, чтобы всё было изящно и красиво; но от прислуги до мебели и кушаньев всего было много, всё было опрятно, прочно, акуратно и внушало уважение. В гостиной симметрично стояла мебель, висели портреты, и на полу расстилались домашние ковры и полосушки. В диванной находились старый рояль, шифоньерки двух различных фасонов, диваны и столики с латунью и инкрустациями. В моем кабинете, убранном старанием Татьяны Семеновны, стояла самая лучшая мебель различных веков и фасонов и между прочим старое трюмо, на которое я сначала никак не могла смотреть без застенчивости, но которое впоследствии, как старый друг, сделалось мне дорого. Татьяны Семеновны не слышно было, но всё в доме шло как заведенные часы, хотя людей было много лишних. Но все эти люди, носившие мягкие без каблуков сапоги (Татьяна Семеновна считала скрип подошв и топот каблуков самою неприятною вещью на свете), все эти люди казались горды своим званием, трепетали перед старою барыней, на нас с мужем смотрели с покровительственною лаской и, казалось, с особенным удовольствием делали свое дело. Каждую субботу регулярно в доме мылись полы и выбивались ковры, каждое первое число служились молебны с водосвятием, каждое тезоименитство Татьяны Семеновны, ее сына (и мое – в первый раз в эту осень) задавались пиры на весь околоток. И всё это неизменно делалось еще с тех пор, как помнила себя Татьяна Семеновна. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами, и занимался много. Он вставал даже и зимою очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. Он возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни, и почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли диким восторгом. Часто я требовала, чтоб он рассказал мне, что делал утром, и он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху; иногда я требовала серьезного рассказа, и он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала, только радовалась, что вижу его и слышу его голос.
«Ну что же я сказал? повтори», спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мнерассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не всё равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Татьяна Семеновна не выходила до обеда, пила чай одна и только через послов здоровалась с нами. В нашем особом, сумасбродно счастливом мирке так странно звучал голос из ее другого, степенного, порядочного уголка, что часто я не выдерживала и только хохотала в ответ горничной, которая, сложив руку на руку, мерно докладывала, что Татьяна Семеновна приказали узнать, как почивали после вчерашнего гулянья, а про себя приказали доложить, что у них всю ночь бочок болел, и глупая собака на деревне лаяла, мешала почивать. «А еще приказали спросить, как понравилось нынешнее печенье, и просили заметить, что нe Тарас нынче пек, а для пробы, в первый раз, Николаша, и очень дескать недурно, крендельки особенно, а сухари пережарил». До обеда мы были мало вместе. Я играла, читала одна, ом писал, уходил еще; но к обеду, в четыре часа, мы сходились в гостиной, мамаша выплывала из своей комнаты, и являлись бедные дворянки, странницы, которых всегда человека два-три жило в доме. Регулярно каждый день муж по старой привычке подавал к обеду руку матери; но она требовала, чтоб он подавал мне другую, и регулярно каждый день мы теснились и путались в дверях. За обедом председательствовала матушка же, и разговор велся прилично-рассудительный и несколько торжественный. Наши простые слова с мужем приятно разрушали торжественность этих обеденных заседаний. Между сыном и матерью иногда завязывались споры и насмешки друг над другом; я особенно любила эти споры и насмешки, потому что в них-то сильнее всего выражалась нежная и твердая любовь, которая связывала их. После обеда maman садилась в гостиную на большое кресло и растирала табак или разрезывала листы новополученных книг, а мы читали вслух или уходили в диванную к клавикордам. Мы много вместе читали это время, но музыка была нашим любимейшим и лучшим наслаждением, всякий раз вызывая новые струны в наших сердцах и как будто снова открывая нам друг друга. Когда я играла его любимые вещи, он садился на дальний диван, где мне почти не видно было его, и из стыдливости чувства старался скрывать впечатление, которое производила на него музыка; но часто, когда он не ожидал этого, я вставала от фортепиян, подходила к нему и старалась застать на его лице следы волнения, неестественный блеск и влажность в глазах, которые он напрасно старался скрыть от меня. Мамаше часто хотелось посмотреть на нас в диванной, но, верно, она боялась стеснить нас, и иногда, будто не глядя на нас, она проходила через диванную с мнимо-серьезным и равнодушным лицом; но я знала, что ей не зачем было ходить к себе и так скоро возвращаться. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заседание при зерцале самовара и раздача стаканов и чашек долгое время смущали меня. Мне всё казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленна, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать: «Петру Ивановичу, Марье Миничне», спрашивать: «сладко ли?» и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. «Славно, славно, – часто приговаривал муж, – точно большая», и это еще больше смущало меня.
После чая maman раскладывала пасьянс или слушала гаданье Марьи Миничны; потом целовала и крестила нас обоих, и мы уходили к себе. Большею частию, однако, мы просиживали вдвоем за полночь, и это было самое лучшее и приятное время. Он рассказывал мне про свое прошедшее, мы делали планы, философствовали иногда и старались говорить всё потихоньку, чтобы нас не услыхали наверху и не донесли бы Татьяне Семеновне, которая требовала, чтобы мы ложились рано. Иногда мы, проголодавшись, потихоньку шли в буфет, доставали холодный ужин через протекцию Никиты и съедали его при одной свече в моем кабинете. Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте, и что нам надо жить здесь очень осторожно и внимательно. Как я вспоминаю теперь, то вижу, что многое – и этот связывающий неизменный порядок, и эта бездна праздных и любопытных людей в нашем доме – было неудобно и тяжело; но тогда самая эта стесненность еще более оживляла нашу любовь. Не только я, но и он не показывал вида, что ему что-нибудь не нравится. Напротив, он даже как будто прятался сам от того, что было дурно. Маменькин лакей Дмитрий Сидоров, большой охотник до трубки, регулярно каждый день после обеда, когда мы бывали в диванной, ходил в мужнин кабинет брать его табак из ящика; и надо было видеть, с каким веселым страхом Сергей Михайлыч на цыпочках подходил ко мне и, грозя пальцем и подмигивая, показывал на Дмитрия Сидоровича, который никак не предполагал, что его видят. И когда Дмитрий Сидоров уходил, не заметив нас, от радости, что всё кончилось благополучно, как и при всяком другом случае, муж говорил, что я прелесть, и целовал меня. Иногда это спокойствие, всепрощение и как будто равнодушие ко всему не нравилось мне, я не замечала того, что во мне было то же самое, и считала это слабостью. «Точно ребенок, который не смеет показать свою волю!» думала я.
– Ах, мой друг, – отвечал он мне, когда я раз сказала ему, что меня удивляет его слабость, – разве можно быть чем-нибудь недовольну, когда так счастлив, как я? Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом я давно убедился; и нет того положения, в котором бы нельзя было быть счастливым. А нам так хорошо! Я не могу сердиться; для меня теперь нет дурного, есть только жалкое и забавное. А главное – le mieux est l’ennemi du bien. 22 22
[лучшее – враг хорошего.]
[Закрыть]Поверишь ли, когда я слышу колокольчик, письмо получаю, просто когда проснусь, мне страшно становится. Страшно, что жить надо, что изменится что-нибудь; а лучше теперешнего быть не может.
Я верила, но не понимала его. Мне было хорошо, но казалось, что всё это так, а не иначе должно быть и всегда со всеми бывает, а что есть там, где-то, еще другое, хотя не большее, но другое счастие.
Так прошло два месяца, пришла зима с своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что он был со мной, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, а нет ни во мне, ни в нем ничего нового, а что, напротив, мы как будто возвращаемся к старому. Он начал заниматься делами без меня больше, чем прежде, и опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, чем прежде, и не меньше, чем прежде, была счастлива его любовью; но любовь моя остановилась и не росла больше, а кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне мало было любить после того, как я испытала счастье полюбить его. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски, которую я, как что-то дурное, старалась скрывать от него, и порывы неистовой нежности и веселости, пугавшие его. Он еще прежде меня заметил мое состояние и предложил ехать в город; но я просила его не ездить и не изменять нашего образа жизни, не нарушать нашего счастия. И точно, я была счастлива; но меня мучило то, что счастие это не стоило мне никакого труда, никакой жертвы, когда силы труда и жертвы томили меня. Я любила его и видела, что я всё дли него; но мне хотелось, чтобы видели все нашу любовь, чтобы мешали мне любить, и я всё-таки любила бы его. Мой ум и даже чувство были заняты, но было другое чувство молодости, потребности движения, не находившее удовлетворения в нашей тихой жизни. Зачем он мне сказал, что мы можем ехать в город, когда только я захочу этого? Не скажи он мне этого, может быть, я поняла бы, что томившее меня чувство есть вредный вздор, вина моя, что та жертва, которую я искала, была тут передо мной, в подавлении этого чувства. Мысль, что я могу спастись от тоски, только переехав в город, невольно приходила мне в голову; и вместе с тем оторвать его от всего, что он любил, для себя мне было совестно и жалко. А время уходило, снег заносил больше и больше стены дома, и мы всё были одни и одни, и всё те же были мы друг перед другом; а там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и о нашем уходившем существовании. Хуже всего для меня было то, что я чувствовала, как с каждым днем привычки жизни заковывали нашу жизнь в одну определенную форму, как чувство наше становилось несвободно, а подчинялось ровному, бесстрастному течению времени. Утром мы бывали веселы; в обед почтительны, вечером нежны. «Добро!.. – говорила я себе, – это хорошо делать добро и жить честно, как он говорит; но это мы успеем еще, а есть что-то, на что у меня только теперь есть силы». Мне не того нужно было, мне нужна была борьба; мне нужно было, чтобы чувство руководило нами в жизни, а не жизнь руководила чувством. Мне хотелось подойдти с ним вместе к пропасти и сказать: вот шаг, я брошусь туда, вот движение, и я погибла, – и чтоб он, бледнея на краю пропасти, взял меня в свои сильные руки, подержал бы над ней, так что у меня бы в сердце захолонуло, и унес бы куда хочет.
Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного; он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним? но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и, по нерасположению к мужу, требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы всё было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мною. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мною оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала и велела попросить к чаю Марью Миничну, которая гостила у нас. После чаю, который я кончила особенно скоро, я увела Марью Миничну в диванную и стала громко говорить с нею о каком-то вздоре, который для меня был вовсе незанимателен. Он ходил по комнате, изредка взглядывая на нас. Эти взгляды почему-то теперь так действовали на меня, что мне всё больше и больше хотелось говорить и даже смеяться; мне казалось смешно всё, что я сама говорила, и всё, что говорила Марья Минична. Ничего не сказав мне, он ушел совсем в свой кабинет и затворил за собою дверь. Как только его не слышно стало, вся моя веселость вдруг исчезла, так что Марья Минична удивилась и стала спрашивать, что со мною. Я, не отвечая ей, села на диван, и мне захотелось плакать. «И что он это передумывает? – думала я. – Какой-нибудь вздор, который ему кажется важен, а попробуй сказать мне, я покажу ему, что всё пустяки. Нет, ему нужно думать, что я не пойму, нужно унижать меня своим величавым спокойствием и всегда быть правым со мною. Зато и я права, когда мне скучно, пусто, когда я хочу жить, двигаться, – думала я, – а не стоять на одном месте и чувствовать, как время идет через меня. Я хочу идти вперед и с каждым днем, с каждым часом хочу нового, а он хочет остановиться и меня остановить с собой. А как бы ему легко было! Для этого не нужно ему везти меня в город, для этого нужно только быть таким, как я, не ломать себя, не удерживаться, а жить просто. Это самое он советует мне, а сам он не прост. Вот что!»
Я чувствовала, что слезы подступают мне к сердцу, и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему. Он сидел в кабинете и писал. Услышав мои шаги, он оглянулся на мгновение равнодушно, спокойно и продолжал писать. Этот взгляд мне не понравился; вместо того, чтобы подойдти к нему, я стала к столу, у которого он писал, и, раскрыв книгу, стала смотреть в нее. Он еще раз оторвался и поглядел на меня.
– Маша! ты не в духе? – сказал он.
Я ответила холодным взглядом, который говорил: «нечего спрашивать! что за любезности?» Он покачал головой и робко, нежно улыбнулся, но в первый раз еще моя улыбка не ответила на его улыбку.
– Что у тебя было нынче? – спросила я: – отчего ты не сказал мне?
– Пустяки! маленькая неприятность, – отвечал он. – Однако теперь я могу рассказать тебе. Два мужика отправились в город...
Но я не дала ему досказать.
– Отчего ты не рассказал мне тогда еще, когда зa чаем я спрашивала?
– Я бы тебе сказал глупость, я был сердит тогда.
– Тогда-то мне и нужно было.
– Зачем?
– Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?
– Как думаю? – сказал он, бросая перо. – Я думаю, что без тебя я жить не могу. Во всем, во всем не только ты мне помогаешь, но ты всё делаешь. Вот хватилась! – засмеялся он. – Тобой я живу только. Мне кажется всё хорошо только оттого, что ты тут, что тебя надо...
– Да, это я знаю, я милый ребенок, которого надо успокоивать, – сказала я таким тоном, что он удивленно, как будто в первый раз что увидел, посмотрел на меня. – Я не хочу спокойствия, довольно его в тебе, очень довольно, – прибавила я.
– Ну, вот видишь ли, в чем дело, – начал он торопливо, перебивая меня, видимо боясь дать мне всё выговорить: – как бы ты рассудила его?
– Теперь не хочу, – отвечала я. Хотя мне и хотелось слушать его, но мне так приятно было разрушить его спокойствие. – Я не хочу играть в жизнь, я хочу жить, – сказала я, – так же, как и ты.
На лице его, на котором всё так быстро и живо отражалось, выразилась боль и усиленное внимание.
– Я хочу жить с тобой ровно, с тобой...
Но я не могла договорить: такая грусть, глубокая грусть выразилась на его лице. Он помолчал немного.
– Да чем же неровно ты живешь со мной? – сказал он: – тем, что я, а не ты, вожусь с исправником и пьяными мужиками...
– Да не в одном этом, – сказала я.
– Ради Бога пойми меня, мой друг, – продолжал он, – я знаю, что от тревог нам бывает всегда больно, я жил и узнал это. Я тебя люблю и следовательно не могу не желать избавить тебя от тревог. В этом моя жизнь, в любви к тебе: стало быть, и мне не мешай жить.
– Ты всегда прав! – сказала я, не глядя на него.
Мне было досадно, что опять у него в душе всё ясно и покойно, когда во мне была досада и чувство, похожее на раскаяние.
– Маша! Что с тобой? – сказал он. – Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом: что у тебя против меня? Не вдруг говори, подумай и скажи мне всё, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты, верно, права, но дай мне понять, в чем я виноват.
Но как я могла сказать ему мою душу? То, что он так сразу понял меня, что опять я была ребенок перед ним, что ничего я не могла сделать, чего бы он не понимал и не предвидел, еще больше взволновало меня.
– Ничего я не имею против тебя, – сказала я. – Просто мне скучно и хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав!
Я сказала это и взглянула на него. Я достигла своей цели, спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице.
– Маша, – заговорил он тихим, взволнованным голосом. – Это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?
Но я перебила его.
– Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав, – сказала я холодно, как будто не я, а какой-то злой дух говорил во мне.
– Если бы ты знала, чтò ты делаешь! – сказал он дрожащим голосом.
Я заплакала, и мне стало легче. Он сидел подле меня и молчал. Мне было и жалко его, и совестно за себя, и досадно за то, что я сделала. Я не глядела на него. Мне казалось, что он должен или строго, или недоумевающе смотреть на меня в эту минуту. Я оглянулась: кроткий, нежный взгляд, как бы просящий прощения, был устремлен на меня. Я взяла его за руку и сказала:
– Прости меня! Я сама не знаю, чтò я говорила.
– Да; но я знаю, чтò ты говорила, и ты правду говорила.
– Что? – спросила я.
– Что нам надо в Петербург ехать, – сказал он. – Нам тут теперь делать нечего.
– Как хочешь, – сказала я.
Он обнял меня и поцеловал.
– Ты прости меня, – сказал он. – Я виноват перед тобою.
В этот вечер я долго играла ему, а он ходил по комнате и шептал что-то. Он имел привычку шептать, и я часто спрашивала у него, что он шепчет, и он всегда, подумав, отвечал мне именно то, что он шептал: большею частию стихи и иногда ужасный вздор, но такой вздор, по которому я знала настроение его души.
– Что ты нынче шепчешь? – спросила я.
Он остановился, подумал и, улыбнувшись, отвечал два стиха Лермонтова:
.....А он безумный просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
«Нет, он больше, чем человек; он всё знает! – подумала я: – как не любить его!»
Я встала, взяла его за руку и вместе с ним начала ходить, стараясь попадать ногу в ногу.
– Да? – спросил он улыбаясь, глядя на меня.
– Да, – сказала я шопотом; и какое-то веселое расположение духа охватило нас обоих, глаза наши смеялись, и мы шаги делали всё больше и больше, и всё больше и больше становились на цыпочки. И тем же шагом, к великому негодованию Григория и удивлению мамаши, которая раскладывала пасьянс в гостиной, отправились через все комнаты в столовую, а там остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.
Через две недели, перед праздником, мы были в Петербурге.








