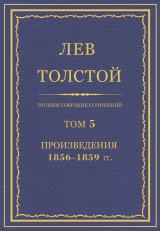
Текст книги "Произведения, 1856—1859"
Автор книги: Лев Толстой
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Наша поездка в Петербург, неделя в Москве, его, мои родные, устройство на новой квартире, дорога, новые города, лица, – всё это прошло как сон. Всё это было так разнообразно, ново, весело, всё это так тепло и ярко освещено было его присутствием, его любовью, что тихое деревенское житье показалось мне чем-то давнишним и ничтожным. К великому удивлению моему, вместо светской гордости и холодности, которую я ожидала найдти в людях, все встречали меня так неподдельно-ласково и радостно (не только родные, но и незнакомые), что, казалось, они все только обо мне и думали, только меня ожидали, чтоб им самим было хорошо. Тоже неожиданно для меня и в кругу светском и казавшемся мне самым лучшим; у мужа открылось много знакомых, о которых он никогда не говорил мне; и часто мне странно и неприятно было слышать от него строгие суждения о некоторых из этих людей, казавшихся мне такими добрыми. Я не могла понять, зачем он так сухо обращался с ними и старался избегать многих знакомств, казавшихся мне лестными. Мне казалось, чем больше знаешь добрых людей, тем лучше, а все были добрые.
– Вот видишь ли, как мы устроимся, – говорил он перед отъездом из деревни: – мы здесь маленькие Крезы, а там мы будем очень небогаты, а потому нам надо жить в городе только до Святой и не ездить в свет, иначе запутаемся; да и для тебя я не хотел бы....
– Зачем свет? – отвечала я: – только посмотрим театры, родных, послушаем оперу и хорошую музыку и еще раньше Святой вернемся в деревню.
Но как только мы приехали в Петербург, планы эти были забыты. Я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире, так много радостей охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. «То было всё так, шутки; еще не начиналось; а вот она настоящая жизнь! Да еще что будет?» думала я. Беспокойство и начало тоски, тревожившие меня в деревне, вдруг, как волшебством, совершенно исчезли. Любовь к мужу сделалась спокойнее, и мне здесь никогда не приходила мысль о том, не меньше ли он любит меня? Да я и не могла сомневаться в его любви, всякая моя мысль была тотчас понята, чувство разделено, желание исполнено им. Спокойствие его исчезло здесь или не раздражало меня более. Притом я чувствовала, что он, кроме своей прежней любви ко мне, здесь еще и любуется мной. Часто после визита, нового знакомства или вечера у нас, где я, внутренно дрожа от страха ошибиться, исполняла должность хозяйки дома, он говаривал: «Ай да девочка! славно! не робей. Право, хорошо!» И я бывала очень рада. Скоро после нашего приезда он писал письмо к матери, и когда позвал меня приписать от себя, то не хотел дать прочесть, что написано было, вследствие чего я, разумеется, потребовала и прочла. «Вы не узнаете Маши, – писал он, – и я сам не узнаю ее. Откуда берется эта милая, грациозная самоуверенность, афабельность, даже светский ум и любезность. И всё это просто, мило, добродушно. Все от нее в восторге, да я и сам не налюбуюсь на нее, и ежели бы можно было, полюбил бы еще больше».
«А! так вот я какая!» подумала я. И так мне весело и хорошо стало, показалось даже, что я еще больше люблю его. Moй успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке, тут тетушка без ума от меня, тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге, та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самою изысканноюженщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Д., немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову. Когда в первый раз кузина пригласила меня ехать на бал и просила об этом мужа, он обратился ко мне и, чуть заметно, хитро улыбаясь, спросил: хочу ли я ехать? Я кивнула головою в знак согласия и почувствовала, что покраснела.
– Точно преступница признается, чего ей хочется, – сказал он, добродушно смеясь.
– Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет, да и ты не любишь, – отвечала я, улыбаясь и умоляющим взглядом глядя на него.
– Ежели очень хочется, то поедем, – сказал он.
– Право, лучше не надо.
– Хочется? очень? – снова спросил он.
Я не отвечала.
– Свет еще небольшое горе, – продолжал он, – а светские неосуществленные желания – это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать, и поедем, – решительно заключил он.
– Правду тебе сказать, – сказала я, – мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала.
Мы поехали, и удовольствие, испытанное много, превзошло все мои ожидания. На бале еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого всё движется, что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Все, начиная от парикмахера и горничной и до танцоров и стариков, проходивших через залу, казалось, говорили мне или давали чувствовать, что они любят меня. Общее суждение, составившееся обо мне на этом бале и переданное мне кузиной, состояло в том, что я совсем непохожа на других женщин, что во мне есть что-то особенное, деревенское, простое и прелестное. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на два, на три бала, «и с тем, чтобы хорошенько насытиться ими», прибавила я, покривив душою.
Муж охотно согласился и первое время ездил со мною с видимым удовольствием, радуясь моим успехам и, казалось, совершенно забыв или отрекшись от того, что говорил прежде.
Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того; ежели я и замечала иногда его внимательно-серьезный взгляд, вопросительно устремленный на меня, я не понимала его значения. Я так была отуманена этою, внезапно возбужденною, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствий и новизны, которым я дышала здесь в первый раз, так вдруг исчезло здесь его, подавлявшее меня, моральное влияние, так приятно мне было в этом мире не только сравняться с ним, но стать выше его, и за то любить его еще больше и самостоятельнее, чем прежде, что я не могла понять, чтò неприятного он мог видеть для меня в светской жизни. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня, а он, как будто совестясь признаваться перед толпою в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. «Постой! – часто думала я, отыскивая глазами в конце залы его незамеченную, иногда скучающую фигуру, – постой! – думала я, – приедем домой, и ты поймешь и увидишь, для кого я старалась быть хороша и блестяща, и чтò я люблю из всего того, что окружает меня нынешний вечер». Мне самой искренно казалось, что успехи мои радовали меня только для него, только для того, чтобы быть в состоянии жертвовать ему ими. Одно, чем могла быть вредна для меня светская жизнь, думала я, была возможность увлечения одним из людей, встречаемых мною в свете, и ревность моего мужа; но он так верил в меня, казался так спокоен и равнодушен, и все эти молодые люди казались мне так ничтожны в сравнении с ним, что и единственная, по моим понятиям, опасность света не казалась страшна мне. Но, несмотря на то, внимание многих людей в свете доставляло мне удовольствие, льстило самолюбию, заставляло думать, что есть некоторая заслуга в моей любви к мужу, и делало мое обращение с ним самоувереннее и как будто небрежнее.
– А я видела, как ты что-то очень оживленно разговаривал с H. H., – однажды возвращаясь с бала, сказала я, грозя ему пальцем и называя одну из известных дам Петербурга, с которою он действительно говорил в этот вечер. Я сказала это, чтобы расшевелить его; он был особенно молчалив и скучен.
– Ах, зачем так говорить? И говоришь ты, Маша! – пропустил он сквозь зубы и морщась как будто от физической боли. – Как это нейдет тебе и мне! Оставь это другим; эти ложные отношения могут испортить наши настоящие, а я еще надеюсь, что настоящие вернутся.
Мне стало стыдно, и я замолчала.
– Вернутся, Маша? Как тебе кажется? – спросил он.
– Они никогда не портились и не испортятся, – сказала я, и тогда мне точно так казалось.
– Дай-то Бог, – проговорил он, – а то пора бы нам в деревню.
Но это только один раз сказал он мне, остальное же время мне казалось, что ему было так же хорошо, как и мне, а мне было так радостно и весело. Если же ему и скучно иногда, – утешала я себя, – то и я поскучала для него в деревне; если же и изменились несколько наши отношения, то всё это снова вернется, как только мы летом останемся одни с Татьяной Семеновной в нашем Никольском доме.
Так незаметно для меня прошла зима, и мы, против наших планов, даже Святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, всё было уложено, и муж, делавший уже покупки подарков, вещей, цветов для деревенской жизни, был в особенно нежном и веселом расположении духа, кузина неожиданно приехала к нам и стала просить остаться до субботы, с тем чтоб ехать на раут к графине Р. Она говорила, что графиня Р. очень звала меня, что бывший тогда в Петербурге принц М. еще с прошлого бала желал познакомиться со мной, только для этого и ехал на раут и говорил, что я самая хорошенькая женщина в России. Весь город должен был быть там, и, одним словом, ни на что бы не было похоже, ежели я бы не поехала.
Муж был на другом конце гостиной, разговаривая с кем-то.
– Так что ж, едете, Мари? – сказала кузина.
– Мы послезавтра хотели ехать в деревню, – нерешительно отвечала я, взглянув на мужа. Глаза наши встретились, он торопливо отвернулся.
– Я уговорю его остаться, – сказала кузина, – и мы едем в субботу кружить головы. Да?
– Это бы расстроило наши планы, а мы уложились, – отвечала я, начиная сдаваться.
– Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу, – с другого конца комнаты сказал муж раздраженно-сдержанным тоном, которого я еще не слыхала от него.
– Ах! он ревнует, вот в первый раз вижу, – засмеялась кузина. – Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас я уговариваю ее. Как графиня Р. просила ее приехать!
– Это от нее зависит, – холодно проговорил муж и вышел.
Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно; это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу. Он задумчиво ходил взад и вперед и не видал и не слыхал, как я на цыпочках вошла в комнату.
«Ему уж представляется милый Никольский дом, – думала я, глядя на него, – и утренний кофе в светлой гостиной, и его поля, мужики, и вечера в диванной, и ночные таинственные ужины. – Нет! – решила я сама с собой, – все балы на свете и лесть всех принцев на свете отдам я за его радостное смущение, за его тихую ласку». Я хотела сказать ему, что не поеду на раут и не хочу, когда он вдруг оглянулся и, увидав меня, нахмурился и изменил кротко-задумчивое выражение своего лица. Опять проницательность, мудрость и покровительственное спокойствие выразились в его взгляде. Он не хотел, чтоб я видела его простым человеком; ему нужно было полубогом на пьедестале всегда стоять передо мной.
– Что ты, мой друг? – спросил он, небрежно и спокойно оборачиваясь ко мне.
Я не отвечала. Мне было досадно, что он прячется от меня, не хочет оставаться тем, каким я любила его.
– Ты хочешь ехать в субботу на раут? – спросил он.
– Хотела, – отвечала я, – но тебе это не нравится. Да и всё уложено, – прибавила я.
Никогда он так холодно не смотрел на меня, никогда так холодно не говорил со мной.
– Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, – проговорил он, – поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.
Как и всегда, когда он бывал взволнован, он неровно стал ходить по комнате и не глядел на меня.
– Я решительно тебя не понимаю, – сказала я, стоя на месте и глазами следя за ним, – ты говоришь, что ты всегда так спокоен (он никогда не говорил этого). Отчего ты так странно говоришь со мной? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием, а ты как-то иронически, как ты никогда не говорил со мной, требуешь, чтоб я ехала.
– Ну что ж! Ты жертвуешь(он особенно ударил на это слово), и я жертвую, чего же лучше. Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастия?
В первый раз еще я слышала от него такие ожесточенно-насмешливые слова. И насмешка его не пристыдила, а оскорбила меня, и ожесточение не испугало меня, а сообщилось мне. Он ли, всегда боявшийся фразы в наших отношениях, всегда искренний и простой, говорил это? И за что? За то, что точно я хотела пожертвовать ему удовольствием, в котором не могла видеть ничего дурного, и за то, что за минуту перед этим я так понимала и любила его. Роли наши переменились, он – избегал прямых и простых слов, а я искала их.
– Ты очень переменился, – сказала я, вздохнув. – Чем я провинилась перед тобой? Не раут, а что-то другое старое есть у тебя на сердце против меня. Зачем неискренность? Не сам ли ты так боялся ее прежде. Говори прямо, чтò ты имеешь против меня? – «Что-то он скажет», думала я, с самодовольством вспоминая, что нечем ему было упрекнуть меня за всю эту зиму.
Я вышла на середину комнаты, так что он должен был близко пройти мимо меня, и смотрела на него. «Он подойдет, обнимет меня, и всё будет кончено», пришло мне в голову, и даже жалко стало, что не придется доказать ему, как он неправ. Но он остановился на конце комнаты и поглядел на меня.
– Ты всё не понимаешь? – сказал он.
– Нет.
– Ну так я скажу тебе. Мне мерзко, в первый раз мерзко, то, что я чувствую и что не могу не чувствовать. – Он остановился, видимо испугавшись грубого звука своего голоса.
– Да что ж? – со слезами негодования в глазах спросила я.
– Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькою, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, чтò должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства; напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь, то есть «показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвуюим».
Чем дальше он говорил, тем больше разгорался от звуков собственного голоса, и голос этот звучал ядовито, жестко и грубо. Я никогда не видала и не ожидала видеть его таким; кровь прилила мне к сердцу, я боялась, но вместе с тем чувство незаслуженного стыда и оскорбленного самолюбия волновало меня, и мне хотелось отомстить ему.
– Я давно ожидала этого, – сказала я, – говори, говори.
– Не знаю, чего ты ожидала, – продолжал он, – я мог ожидать всего худшего, видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши глупого общества; и дождался... Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда; больно за себя, когда твой друг своими грязными руками залез мне в сердце и стал говорить о ревности, моей ревности, к кому же? к человеку, которого ни я, ни ты не знаем. А ты, как нарочно, хочешь не понимать меня и хочешь жертвовать мне, чем же?.. Стыдно за тебя, за твое унижение стыдно!.. Жертва! – повторил он.
«А! так вот она власть мужа, – подумала я. – Оскорблять и унижать женщину, которая ни в чем не виновата. Вот в чем права мужа, но я не подчинюсь им».
– Нет, я ничем не жертвую тебе, – проговорила я, чувствуя, как неестественно расширяются мои ноздри, и кровь оставляет лицо. – Я поеду в субботу на раут, и непременно поеду.
– И дай Бог тебе много удовольствия, только между нами всё кончено! – прокричал он в порыве уже несдержанного бешенства. – Но больше уже ты не будешь мучить меня. Я был дурак, что... – снова начал он, но губы у него затряслись, и он с видимым усилием удержался, чтобы не договорить того, что начал.
Я боялась и ненавидела его в эту минуту. Я хотела сказать ему многое и отомстить за все оскорбления; но ежели бы я открыла рот, я бы заплакала и уронила бы себя перед ним. Я молча вышла из комнаты. Но только что я перестала слышать его шаги, как вдруг ужаснулась перед тем, что мы сделали. Мне стало страшно, что точно навеки разорвется эта связь, составлявшая всё мое счастие, и я хотела вернуться. «Но достаточно ли он успокоился, чтобы понять меня, когда я молча протяну ему руку и посмотрю на него? – подумала я. – Поймет ли он мое великодушие? Что ежели он назовет притворством мое горе? Или с сознанием правоты и с гордым спокойствием примет мое раскаяние и простит меня? И за что, за что он, которого я так любила, так жестоко оскорбил меня?..»
Я пошла не к нему, а в свою комнату, где долго сидела одна и плакала, с ужасом вспоминая каждое слово бывшего между нами разговора, заменяя эти слова другими, прибавляя другие, добрые слова и снова с ужасом и чувством оскорбления вспоминая то, что было. Когда я вечером вышла к чаю и при С., который был у нас, встретилась с мужем, я почувствовала, что с нынешнего дня целая бездна открылась между нами. С. спросил меня, когда мы едем? Я не успела ответить.
– Во вторник, – отвечал муж: – мы еще едем на раут к графине Р. Ведь ты едешь? – обратился он ко мне.
Я испугалась звука этого простого голоса и робко оглянулась на мужа. Глаза его смотрели прямо на меня, взгляд их был зол и насмешлив, голос был ровен и холоден.
– Да, – отвечала я.
Вечером, когда мы остались одни, он подошел ко мне и протянул руку.
– Забудь, пожалуйста, что я наговорил тебе, – сказал он.
Я взяла его руку, дрожащая улыбка была у меня на лице, и слезы готовы были потечь из глаз, но он отнял руку и, как будто боясь чувствительной сцены, сел на кресло довольно далеко от меня. «Неужели он всё считает себя правым?» подумала я, и готовое объяснение и просьба не ехать на раут остановились на языке.
– Надо написать матушке, что мы отложили отъезд, – сказал он, – а то она будет беспокоиться.
– А когда ты думаешь ехать? – спросила я.
– Во вторник, после раута, – отвечал он.
– Надеюсь, что это не для меня, – сказала я, глядя ему в глаза, но глаза только смотрели, а ничего не говорили мне, как будто чем-то заволочены они были от меня. Лицо его вдруг мне показалось старо и неприятно.
Мы поехали на раут, и между нами, казалось, установились опять хорошие дружелюбные отношения; но отношения эти были совсем другие, чем прежде.
На рауте я сидела между дамами, когда принц подошел ко мне, так что я должна была встать, чтобы говорить с ним. Вставая, я невольно отыскала глазами мужа и видела, что он с другого конца залы смотрел на меня и отвернулся. Мне вдруг так стало стыдно и больно, что я болезненно смутилась и покраснела лицом и шеей под взглядом принца. Но я должна была стоять и слушать, что он говорил мне, сверху оглядывая меня. Разговор наш был не долог, ему негде было сесть подле меня, и он, верно, почувствовал, что мне очень неловко с ним. Разговор был о прошлом бале, о том, где я живу лето, и т. д. Отходя от меня, он изъявил желание познакомиться с моим мужем, и я видела, как они сошлись и говорили на другом конце залы. Принц, верно, что-нибудь сказал обо мне, потому что в середине разговора он, улыбаясь, оглянулся в нашу сторону.
Муж вдруг вспыхнул, низко поклонился и первый отошел от принца. Я тоже покраснела, мне стыдно стало за то понятие, которое должен был получить принц обо мне и особенно о муже. Мне показалось, что все заметили мою неловкую застенчивость в то время, как я говорила с принцем, заметили его странный поступок; Бог знает, как они могли объяснить это; уж и не знают ли они нашего разговора с мужем? Кузина довезла меня домой, и дорогой мы разговорились с ней о муже. Я не утерпела и рассказала ей всё, что было между нами по случаю этого несчастного раута. Она успокоивала меня, говоря, что это ничего незначащая, очень обыкновенная размолвка, которая не оставит никаких следов; объяснила мне с своей точки зрения характер мужа, нашла, что он очень несообщителен и горд стал; я согласилась с ней, и мне показалось, что и спокойнее и лучше сама теперь стала понимать его.
Но потом, когда мы остались вдвоем с мужем, этот суд о нем, как преступление, лежал у меня на совести, и я почувствовала, что еще больше сделалась пропасть, теперь отделявшая нас друг от друга.
С этого дня совершенно изменилась наша жизнь и наши отношения. Нам уже не так хорошо было наедине, как прежде. Были вопросы, которые мы обходили, и при третьем лице нам легче говорилось, чем с глазу на глаз. Как только речь заходила о жизни в деревне или о бале, у нас как будто мальчики бегали в глазах, и неловко было смотреть друг на друга. Как будто мы оба чувствовали, в каком месте была пропасть, отделявшая нас, и боялись подходить к ней. Я была убеждена, что он горд и вспыльчив, и надо быть осторожнее, чтобы не задевать его слабости. Он был уверен, что я не могу жить без света, что деревня не по мне, и что надо покоряться этому несчастному вкусу. И мы оба избегали прямых разговоров об этих предметах, и оба ложно судили друг друга. Мы уже давно перестали быть друг для друга совершеннейшими людьми в мире, а делали сравнения с другими и втайне судили один другого. Я сделалась нездорова перед отъездом, и вместо деревни мы переехали на дачу, откуда муж один поехал к матери. Когда он уезжал, я уже достаточно оправилась, чтоб ехать с ним, но он уговаривал меня остаться, как будто боясь зa мое здоровье. Я чувствовала, что он боялся не за мое здоровье, a за то, что нам нехорошо будет в деревне; я не очень настаивала и осталась. Без него мне было пусто, одиноко, но когда он приехал, я увидала, что и он уже не прибавлял к моей жизни того, что прибавлял прежде. Прежние наши отношения, когда, бывало, всякая непереданная ему мысль, впечатление, как преступление, тяготили меня, когда всякий его поступок, слово казались мне образцом совершенства, когда нам от радости смеяться чему-то хотелось, глядя друг на друга, эти отношения так незаметно перешли в другие, что мы и не хватились, как их не стало. У каждого из нас явились свои отдельные интересы, заботы, которые мы уже не пытались сделать общими. Нас даже перестало смущать то, что у каждого есть свой отдельный, чуждый для другого мир. Мы привыкли к этой мысли, и через год мальчики даже перестали бегать в глазах, когда мы смотрели друг на друга. Исчезли совершенно его припадки веселия со мной, ребячество, исчезло его всепрощение и равнодушие ко всему, прежде возмущавшие меня, не стало больше этого глубокого взгляда, который прежде смущал и радовал меня, не стало молитв, восторгов вместе, мы даже не часто виделись, он был постоянно в разъездах и не боялся, не жалел оставлять меня одну; я была постоянно в свете, где мне не нужно было его.
Сцен и размолвок больше не бывало между нами, я старалась угодить ему, он исполнял все мои желания, и мы будто любили друг друга.
Когда мы оставались одни, что случалось редко, я не испытывала с ним ни радости, ни волнения, ни замешательства, как будто я сама с собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это был муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, – муж мой, которого я знала, как самое себя. Я была уверена, что знала всё, чтò он сделает, чтò скажет, как посмотрит; и ежели он делал или смотрел не так, как я ожидала, то мне уже казалось, что это он ошибся. Я ничего не ждала от него. Одним словом, это был мой муж и больше ничего. Мне казалось, что это так и должно быть, что не бывает других и между нами даже не было никогда других отношений. Когда он уезжал, особенно первое время, мне становилось одиноко, страшно, я без него чувствовала сильнее значение для меня его опоры; когда он приезжал, я бросалась ему на шею от радости, хотя через два часа совершенно забывала эту радость, и нечего мне было говорить с ним. Только в минуты тихой, умеренной нежности, которые бывали между нами, мне казалось, что что-то не то, что что-то больно мне в сердце, и в его глазах, мне казалось, я читала то же. Мне чувствовалась эта граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить. Иногда мне это грустно было, но некогда было задумываться над чем бы то ни было, и я старалась забыть эту грусть неясно чувствуемой перемены в развлечениях, которые постоянно готовы были мне. Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбию, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе всё то место, которое было готово для чувства. Я никогда уже не оставалась одна сама с собой и боялась вдумываться в свое положение. Всё время мое от позднего утра и до поздней ночи было занято и принадлежало не мне, даже ежели бы я не выезжала. Мне это было уже не весело и не скучно, а казалось, что так, а не иначе всегда должно было быть.
Так прошло три года, во время которых отношения наши оставались те же, как будто остановились, застыли и не могли сделаться ни хуже, ни лучше. В эти три года в нашей семейной жизни случились два важные события, но оба не изменили моей жизни. Это были рождение моего первого ребенка и смерть Татьяны Семеновны. Первое время материнское чувство с такою силой охватило меня и такой неожиданный восторг произвело во мне, что я думала, новая жизнь начнется для меня; но через два месяца, когда я снова стала выезжать, чувство это, уменьшаясь и уменьшаясь, перешло в привычку и холодное исполнение долга. Муж, напротив, со времени рождения нашего первого сына, стал прежним, кротким, спокойным домоседом и прежнюю свою нежность и веселье перенес на ребенка. Часто, когда я в бальном платье входила в детскую, чтобы на ночь перекрестить ребенка, и заставала мужа в детской, я замечала как бы укоризненный и строго внимательный взгляд его, устремленный на меня, и мне становилось совестно. Я вдруг ужасалась своего равнодушия к ребенку и спрашивала себя: «Неужели я хуже других женщин? Но что ж делать? – думала я, – я люблю сына, но не могу же сидеть с ним целые дни, мне скучно; а притворяться я ни за что не стану». Смерть его матери была для него большим горем; ему тяжело было, как он говорил, после нее жить в Никольском, а хотя мне и жалко было ее, и я сочувствовала горю мужа, мне было теперь приятнее и спокойнее в деревне. Все эти три года мы провели большею частью в городе, в деревню я ездила только раз на два месяца, и на третий год мы поехали за границу.
Мы проживали лето на водах.
Мне было тогда двадцать один год, состояние наше, я думала, было в цветущем положении, от семейной жизни я не требовала ничего сверх того, что она мне давала; все, кого я знала, мне казалось, любили меня; здоровье мое было хорошо, туалеты мои были лучшие на водах, я знала, что я была хороша, погода была прекрасна, какая-то атмосфера красоты и изящества окружала меня, и мне было очень весело. Я не так была весела, как бывала в Никольском, когда я чувствовала, что я счастлива сама в себе, что я счастлива потому, что заслужила это счастье, что счастье мое велико, но должно быть еще больше, что всё хочется еще и еще счастья. Тогда было другое; но и в это лето мне было хорошо. Мне ничего не хотелось, я ничего не надеялась, ничего не боялась, и жизнь моя, казалось мне, была полна, и на совести, казалось, было покойно. Из числа всей молодежи этого сезона не было ни одного человека, которого бы я чем-нибудь отличала от других или даже от старого князя К., нашего посланника, который ухаживал за мной. Один был молодой, другой старый, один белокурый Англичанин, другой Француз с бородкой, все они мне были равны, но все они были мне необходимы. Это были всё одинаково безразличные лица, составлявшие радостную атмосферу жизни, окружавшую меня. Один только из них, итальянский маркиз Д., больше других обратил мое внимание своею смелостью в выражении восхищения передо мною. Он не пропускал никакого случая быть со мною, танцовать, ездить верхом, быть в казино и т. д., и говорить мне, что я хороша. Несколько раз я из окон видела его около нашего дома, и часто неприятный пристальный взгляд его блестящих глаз заставлял меня краснеть и оглядываться. Он был молод, хорош собой, элегантен и, главное, улыбкой и выражением лба похож на моего мужа, хотя и гораздо лучше его. Он поражал меня этим сходством, хотя в общем, в губах, во взгляде, в длинном подбородке, вместо прелести выражения доброты и идеального спокойствия моего мужа, у него было что-то грубое, животное. Я полагала тогда, что он страстно любит меня, и с гордым соболезнованием иногда думала о нем. Я иногда хотела успокоить его, перевести его в тон полудружеской тихой доверенности, но он резко отклонял от себя эти попытки и продолжал неприятно смущать меня своею невыражавшеюся, но всякую минуту готовою выразиться страстью. Хотя и не признаваясь себе, я боялась этого человека и против воли часто думала о нем. Муж мой был знаком с ним и еще больше, чем с другими нашими знакомыми, для которых он был только муж своей жены, держал себя холодно и высокомерно. К концу сезона я заболела и две недели не выходила из дома. Когда я в первый раз после болезни вышла вечером на музыку, я узнала, что без меня приехала давно ожидаемая и известная своею красотой леди С. Около меня составился круг, меня встретили радостно, но еще лучше круг составлен был около приезжей львицы. Все вокруг меня говорили только про нее и ее красоту. Мне показали ее, и действительно, она была прелестна, но меня неприятно поразило самодовольство ее лица, и я сказала это. Мне этот день показалось скучно всё, что прежде было так весело. На другой день леди С. устроила поездку в замок, от которой я отказалась. Почти никто не остался со мной, и всё окончательно переменилось в моих глазах. Всё и все мне показались глупы и скучны, мне хотелось плакать, скорей кончить курс и ехать назад в Россию. В душе у меня было какое-то нехорошее чувство, но я еще себе не признавалась в нем. Я сказалась слабою и перестала показываться в большом обществе, только утром выходила изредка одна пить воды или с Л. М., русскою знакомой, ездила в окрестности. Мужа не было в это время; он поехал на несколько дней в Гейдельберг, ожидая конца моего курса, чтоб ехать в Россию, и изредка приезжал ко мне.
Однажды леди С. увлекла всё общество на охоту, а мы с Л. М. после обеда поехали в замок. Покуда мы шагом въезжали в коляске по извилистому шоссе между вековыми каштанами, сквозь которые дальше и дальше открывались эти хорошенькие элегантные баденские окрестности, освещенные заходящими лучами солнца, мы разговорились серьезно, как мы не говорили никогда. Л. М., которую уже я давно знала, в первый раз представилась мне теперь хорошею, умною женщиною, с которою можно говорить всё и с которою приятно быть другом. Мы говорили про семью, детей, про пустоту здешней жизни, нам захотелось в Россию, в деревню, и как-то грустно и хорошо стало. Под влиянием этого же серьезного чувства мы вошли в замок. В стенах было тенисто, свежо, вверху по развалинам играло солнце, слышны были чьи-то шаги и голоса. Из двери, как в раме, виднелась эта прелестная, но холодная для нас, Русских, баденская картина. Мы сели отдохнуть и молча смотрели на заходящее солнце. Голоса послышались явственнее, и мне показалось, что назвали мою фамилию. Я стала прислушиваться и невольно расслышала каждое слово. Голоса были знакомые; это был маркиз Д. и Француз, его приятель, которого я тоже знала. Они говорили про меня и про леди С. Француз сравнивал меня и ее и разбирал красоту той и другой. Он не говорил ничего оскорбительного, но у меня кровь прилила к сердцу, когда я расслышала его слова. Он подробно объяснял, чтò было хорошего во мне и чтò хорошего в леди С. У меня уж был ребенок, а леди С. было девятнадцать лет, у меня коса была лучше, но зато у леди стан был грациознее, леди большая дама, тогда как «ваша, сказал он, так себе, одна из этих маленьких русских княгинь, которые так часто начинают появляться здесь». Он заключил тем, что я прекрасно делаю, не пытаясь бороться с леди С., и что я окончательно похоронена в Бадене.








