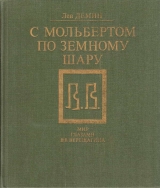
Текст книги "С мольбертом по земному шару"
Автор книги: Лев Демин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Начав с красочного эмоционального описания праздника, Верещагин далее объяснял его сущность. Каждый год в продолжение девяти первых дней месяца мохаррем шииты-азербайджанцы (по тогдашней традиции их называли кавказскими татарами) справляют такие празднества в память страданий и мученической смерти имамов, почитаемых приверженцами шиитского направления ислама. Эти дни – дни скорби и траура. С рассвета до сумерек набожные люди постятся, не могут ни бриться, ни курить, ни мыться в бане, ни пускаться в путешествия. В мечетях читаются проповеди.
Верещагин был свидетелем разыгравшихся театрализованных представлений, мистерий или драм, содержанием которых служили те же страдания имамов. Публика остро переживала происходящее на сцене, многие даже рыдали и плакали, как дети.

Религиозная процессия на празднике Мохаррем в Шуше. 1865 г. Рисунок
В последний день празднования, когда страсти были накалены до предела, начиналось шествие особых приверженцев культа – самоистязателей, как бы принимавших на себя муки самого почитаемого имама – Гусейна. Эти праздничные обряды, которые увидел Верещагин, отнюдь не были чисто местными, характерными только для Восточного Закавказья. Их можно наблюдать у шиитов Ирана и других стран мусульманского мира. Дальше мы читаем выразительное описание зрелища: «Протяжные крики „Гусейн! Гусейн!“ дали знать о приближении процессии, которая вскоре и показалась. Впереди тихо двигаются режущиеся: несколько сот человек идут в две шеренги, держась левою рукой один за другого; в правой у каждого по шашке, обращенной острием к лицу. Кожа на головах фанатиков иссечена этими шашками; кровь льется из ран буквально ручьями, так что лиц не видно под темно-красной корой запекшейся на солнце крови; только белки глаз да ряды белых зубов выделяются на этих сплошных кровяных пятнах. Нельзя без боли смотреть на режущихся таким образом малолетних, идущих в общей шеренге в голове шествия. У каждого обвязана кругом шеи белая накрахмаленная простыня; накрахмалена она для того, чтобы не пропускала кровь на платье, а крови на простынях довольно: лучше сказать, они залиты ею сверху донизу.
В середине между рядами режущихся идут главные герои дня, ищущие чести уподобиться своими страданиями самому Гусейну, – полунагие фанатики, израненные воткнутыми в тело разными острыми предметами…»
Какое впечатляющее описание религиозного обряда! Оно позволяет зрительно представить зловещую картину массового самоистязания.
Верещагин подметил, что некоторые ловкие хитрецы и лицемеры только разыгрывают роль самоистязателей и подвешивают острые предметы так ловко и безболезненно, что они только кажутся входящими в тело. А искренне верующие, следовавшие обычаю, доводили себя до такого состояния, что падали без чувств, если их родственники не успевали вывести из рядов. Исступленная религиозность, сохранявшая здесь жестокие средневековые формы, вызвала осуждение художника.
Несколько позже Верещагин побывал в деревне Славянка, где познакомился с бытом русских переселенцев-духоборов, приверженцев одной из сект, людей веселых и приветливых. В двадцатые годы они были переселены из центральных губерний России в Таврию, а оттуда в Закавказье. В первое время они бедствовали на новом месте. Обстраиваться было трудно, так как леса вблизи не было, а подвозить древесину по горным тропам затруднительно. Но кое-как обстроились, обжились.
Эти сведения о закавказских духоборах мы узнаем из второго очерка Верещагина. Художник присутствовал на богослужении сектантов, весьма несложном.
«В воскресенье провели меня в избу, назначенную для собраний, – пишет он. – Очень чистая обыкновенная крестьянская горница, просторная, но низкая, с большой русской печью и увешанная красивыми полотенцами, битком набита народом. Мужчины – с одной стороны, жинки – с другой; постарше летами сидят на лавках, остальные стоят. Начинают поочередно читать молитвы; если кто ошибется, его тотчас же поправляют:
– Не так ты говоришь!
– Как не так, как же еще?..»
Верещагин подметил, что религиозные представления духоборов очень неопределенны, расплывчаты. Никаких писаний они не имели и не признавали. Молитвы знали (особенно мужчины) неуверенно, не вникали в их смысл.

Духоборы на молитве. 1865 г. Рисунок
Верещагин со слов старых и молодых записал псалмы, распеваемые духоборами. Когда же художник просил растолковать смысл исполнявшихся песнопений, ему обычно давали неопределенный ответ: «Кто ж его знает» – или весьма невежественно и запутанно объясняли.
Не имея и не признавая ни книг, ни писаний, жители Славянки и сами не знали грамоты, и детей своих не учили, так как считали ее излишней для крестьянина.
Художник оставил описание духоборских жилищ: «Дома у духоборцев совершенно такие же, что и во всей южной России: снаружи резьба, полотенца, коньки со всадниками, петушки и т. п. украшения. Внутри дома чрезвычайно опрятно, стены чисто выбелены и иногда позавешаны чем бог послал: полотенцами, узорными бумажками, лубочными картинками и др. в этом роде».
В деревне Верещагин заметил много пчелиных ульев. Окружавшие Славянку поля были засеяны рожью, пшеницей, гречихой, коноплей, льном, картофелем.
Невдалеке от Славянки находилось молоканское селение Новосаратовка, где Верещагин также побывал и познакомился с бытом и обычаями молокан – приверженцев другой религиозной секты. Как пишет художник в своем третьем кавказском очерке, молокан в Закавказье много. Живут они зажиточно, но не так согласно, как духоборы. Из-за взаимных раздоров целые партии молокан отделяются под предводительством своего наставника и начинают собираться в новом доме. Так секта дробится на разные общества и толки. Эти несогласия Верещагин объяснял личными домогательствами наставников и руководителей.
Художник побывал на молениях молокан. Пресвитер, толстый пожилой мужчина с обрюзгшей физиономией, сидел на почетном месте. Рядом с пресвитером – его помощники, верхушка сектантской общины. На скамьях, вокруг стола рассаживался народ попочтеннее, за ним – молодые парни, а женщины – позади. Женщину молокане считали чином пониже, чем мужчину. Пресвитер читал что-либо из Священного писания, давая свои, иногда нелепые и путаные толкования. После чтения начинались молитвенные песнопения.

Молоканка в красном сарафане. 1865 г.

Молодой молоканин. 1865 г.

Старик молоканин. 1865 г.
Обряды молоканского вероучения, как отмечал Верещагин, были очень просты. Они сами крестили детей, совершали свадебные венчания и отпевания. Многие из молокан промышляли торговлей, извозом.
Примечательно, что в нравственном отношении Верещагин поставил молокан ниже духоборов. У молокан, например, был запрет на табак и вино, но втихомолку они и попивали, и покуривали, даже сами выращивали махорку, так что в их запретах была изрядная доля лицемерия, неискренности. У духоборов же не было формальных запрещений, поэтому они потребляли табак и вино в открытую. Осудив лицемерие молокан, художник отдал предпочтение духоборам, людям более прямодушным и искренним. Духоборы оказались и менее подозрительными, чем молокане, у которых появление Верещагина вызвало разноречивые толки: «Уж нет ли здесь тайных розысков, чтобы переселить нас всех на Амур?»
В кавказских очерках Верещагина отражены далеко не все его впечатления. Он побывал в Тифлисе, Нахичевани, Эривани, во многих других городах и селениях Грузии, Армении, Азербайджана. Посещал богатые дома местных именитых людей и видел убогие жилища бедняков, бродил по шумным восточным базарам и горным тропинкам. Впечатления от второй поездки на Кавказ воплотились в большую серию рисунков и этюдов, в том числе портретов представителей различных народов, населяющих край, а также жанровых сцен, городских и сельских пейзажей. Все они могли бы послужить подробным рассказом в иллюстрациях об этнографии Закавказья. Верещагинские работы этого времени отличаются более высоким уровнем мастерства, нежели выполненные в первую кавказскую поездку 1863 года. Это относится и к технике исполнения, композиционному решению, тщательности рисунка и психологической углубленности образов.
В качестве удачного примера портретных работ этого периода можно назвать портрет молоканского пресвитера Петра Алексеева. Очевидно, набросок к нему был сделан во время посещения Новосаратовки. Портрет передает образ властного служителя культа, человека неглупого и лукавого, умеющего держать в узде свою паству. Проницательные глаза смотрят из-под насупленных бровей настороженно, недобро.

Молоканский пресвитер (П. А. Семенов). 1865 г. Рисунок
Посетив на непродолжительное время Петербург, Верещагин возвращается в Париж, где остается до летних каникул 1866 года. Жером и Вида, ознакомившись с его последней кавказской серией рисунков, отметили их мастерство и посоветовали художнику перейти от карандаша к краскам. Вновь упорная работа, работа с полной отдачей, споры с Жеромом…
В Париже Верещагин создал на основе предварительных этюдов два значительных рисунка: «Молокане на молитве» и «Религиозная процессия мусульман в Шуше». Наиболее интересна и значительна вторая работа со сложной, многоликой композицией. Она воспроизводит колорит восточного города на фоне сурового горного пейзажа и толпу мусульман-шиитов в характерных одеяниях. На переднем плане шеренга самоистязателей в белых одеждах. Содержание рисунка перекликается с верещагинским очерком «Религиозное празднество мусульман-шиитов» и как бы служит непосредственной иллюстрацией к нему.
Летние каникулы Василий Васильевич решил провести у родителей под Череповцом. Верещагины к тому времени перебрались из Пертовки в Любец – имение, доставшееся в наследство от бездетного дяди художника, Алексея Васильевича.
Большое село Любец раскинулось на самом берегу полноводной Шексны. Нередко здесь раздавались гудки пароходов. Но паровой речной флот внедрялся медленно и пока еще не вытеснил людскую тягловую силу. Нередко слышалось заунывное пение бурлаков, тянувших бечевой груженую баржу.
Встретили родные Верещагина как желанного гостя, потчевали домашними пирогами с шекснинской стерлядью, расспрашивали о Париже, делились семейными и деревенскими новостями. Слушая рассказы родителей, дворовых, присматриваясь, Верещагин улавливал сложную картину пореформенной сельской жизни. Крестьяне чувствовали себя обманутыми, обделенными реформой и наивно верили, что в уезде объявили ненастоящий, подложный манифест о реформе. А настоящий-то, который дал мужикам царь-освободитель, помещики-лихоимцы утаили. На первых порах крестьяне заставляли своих грамотеев писать челобитные послания на высочайшее имя да снаряжали ходоков в столицу. Но письма оставались без ответа, а ходоки не могли пробиться дальше мелкой канцелярской братии.
В пореформенной деревне заметно шло социальное расслоение. Обогащалась кулацкая верхушка, приобщавшаяся к торговле, бравшая подряды на рубку и сплав леса. Но более многочисленная прослойка крестьян бедствовала. Она не могла прокормиться со своего скудного надела, попадала в долговую кабалу к кулаку, промышлявшему и ростовщичеством, и в конце концов была вынуждена отдавать землю за долги тому же заимодавцу. Обезземеленные крестьяне отправлялись в поисках хлеба насущного в город, шли на лесозаготовки, в бурлацкие ватаги. Бурлачество было социальным дном.
Верещагин выходил на берег Шексны и видел, как нестройные шеренги изнуренных, усталых людей тянули лямки. Оборванные, босоногие, с всклокоченными волосами, с залитыми потом коричневыми от загара лицами, они натужно шагали по прибрежной тропе, переваливаясь с боку на бок под монотонные выкрики. Художник был потрясен каторжным трудом бурлаков.
Впечатляющее зрелище породило у Верещагина желание написать большое полотно. От замысла перешел к делу, приступил к карандашным этюдным зарисовкам. Даже выбирал в бурлацких ватагах наиболее колоритных натурщиков и приглашал их к себе для позирования. Появление в любецком доме дремучего босяка с всклокоченной гривой волос, похожего на сказочного лешего, вызывало родительский ропот. «Малевал бы портреты благородных господ – еще куда ни шло», – ворчал отец. Но Верещагин не обращал внимания на отцовские стенания и невозмутимо брался за карандаш.



Этюды к картине «Бурлаки». 1866 г.
В. В. Стасов в написанной им биографии Верещагина приводит любопытный рассказ брата художника, Александра: «Натурщики у него были выбраны все характерные типы, злейшие пьяницы и забулдыги. Так как натурщику приходилось стоять в лямке, натянувши грудью веревку, привязанную к гвоздю на стене, то, бывало, иной старичонка, выпивши косушку перед такой тяжелой работой, преспокойно и задремлет. Во время этих занятий у них с братом происходили иной раз любопытные разговоры. „Что нового говорят в кабаке?“ – спрашивает В. В. „Да что нового, говорят, ты – фармазон, в бога не веруешь, родителей мало почитаешь; говорят, разве, дурак, не видишь, что ён под тебя подводит: кабы он тебя раз списал, а то он тебя который раз пишет, то уж это, брат, не даром!“ – „Ну а ты что же им на это говоришь?“ – „Да что говорить-то, говорю: уж мне, господи, недолго на свете-то жить, – подделывайся под меня али нет, с меня взять нечего“».
Из этих рассуждений суеверного, темного бурлака мы получаем представление о том, что Верещагин пользовался в округе репутацией бунтаря, безбожника, вышедшего из повиновения родителей-помещиков.
Другие этюды бурлаков художник сделал на Верхней Волге, побывав в Тверской губернии у брата Николая. Все свои этюдные зарисовки Верещагин использовал в двух эскизах картины, исполненных карандашом, а потом и масляными красками. Возвратившись в Париж, он начал было писать картину «Бурлаки». Однако свой замысел художник так и не смог осуществить: приходилось постоянно отвлекаться, чтобы заработать на жизнь. С родителями к тому времени произошел серьезный разлад, если не ссора. Причины этого разлада носили глубокий и принципиальный характер. Наблюдая быт родительского «гнезда», мало изменившийся после отмены крепостного права, и страдания голодных крестьян, задавленных бесправием и нищетой, Верещагин не мог не высказывать свое критическое отношение к окружающей действительности. Она, эта горькая действительность, сильно повлияла на формирование демократических убеждений художника. Духовное отчуждение между сыном и его родителями-помещиками, убежденными приверженцами сложившейся социальной системы, людьми косными, консервативными, становилось все более и более явным. Последующая поездка в Туркестанский край, новые яркие впечатления, интенсивная работа над новыми полотнами и путевыми очерками и вовсе заставили Верещагина забросить «Бурлаков».
Несколько позже к этой же теме обратился И. Е. Репин, создав одно из своих самых замечательных произведений. Если сравнивать полотна двух великих мастеров, то пальму первенства все-таки придется отдать Илье Ефимовичу, решившему творческую задачу с большей социальной глубиной. Композиции работ обоих художников имеют существенные различия. У Репина лямку тянут десять бурлаков. У Верещагина барку тянет двести пятьдесят человек, за первой баркой идет вторая – опять двести пятьдесят человек, третья – вдали едва угадывается такая же ватага. Но дело не только и не столько в различиях количественных.
Репин, индивидуализировав образ каждого бурлака, смог более четко и выразительно создать их групповой портрет. Его бурлаки – это угнетенные люди, не смирившиеся со своей тяжелой участью и готовые к протесту, бунту. У Верещагина же многоликость композиции и мелкие масштабы фигур привели к тому, что отдельные образы бурлаков как-то слились воедино и получился общий образ предельно изнуренных непосильным трудом людей, охваченных безысходной, скорбной тоской и лишенных даже надежды на будущее. Потрясает масштабность зрелища, возникает ощущение массовости этого социального явления: труд бурлаков – труд не одиночек, а огромных масс людей, выбитых из нормальной жизненной колеи, и он противоестествен. Тяжесть бурлацкой доли подчеркивается безмятежным пейзажем – предвечернее небо, широкая гладь реки, зеленый луг, – на фоне которого изображены шеренги людей в убогих рубищах.
1866/67 учебный год был последним годом пребывания Верещагина в Парижской Академии и учебы у Жерома и Вида. В этот завершающий год он, по-видимому, больше занимался самостоятельно. Давая оценку художественному образованию Верещагина, обратимся к справедливому, на наш взгляд, высказыванию А. К. Лебедева: «Неоднократно потом враги Верещагина называли его самоучкой, говорили, что он не получил профессионального образования. Эти измышления серьезно обижали художника. Он горячо и справедливо возмущался клеветой: за его спиной было двухлетнее обучение в рисовальной школе, три года он учился в Петербургской и три года в Парижской Академии художеств, являясь одним из самых прилежных учеников. Помимо классных занятий он неутомимо занимался и в праздники, и на каникулах, и в путешествиях, чем достиг особенно значительных результатов».
Глава IV
В Туркестане
Возвратившись летом 1867 года из Парижа в Петербург, Верещагин узнал, что назначенный туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками Туркестанского военного округа генерал К. П. Кауфман подбирает к себе в свиту молодого способного художника. Честолюбивый генерал, на которого возлагалась миссия завершить присоединение Туркестана к России, возмечтал, чтобы подвиги его армии и особливо его собственной персоны были запечатлены на батальных полотнах. Маститые мастера живописи не очень-то торопились принять приглашение. Константин Петрович Кауфман, по образованию военный инженер, участник Крымской войны, был известен как человек крутого нрава и консервативных убеждений. К тому же поездка в Среднюю Азию была небезопасной.
Василий Васильевич узнал о представляющейся возможности поехать в Туркестан от старого друга Бейдемана. Он встретился с Кауфманом, показал ему свои кавказские рисунки. Художника не пугали опасности и утомительность долгой поездки. Восток привлекал его новизной впечатлений, возможностью быть живым свидетелем военных действий. Еще не сталкивавшийся с войной, ее отвратительной изнанкой, Верещагин в то время имел о ней самые смутные представления. Пожалуй, они не расходились с тем, что изображали на своих полотнах баталисты-академисты вроде Коцебу, – красивые парады с ровными шеренгами солдат, марширующих при развернутых знаменах под барабанную дробь.
Кауфман заинтересовался молодым художником и предложил ему собираться в дорогу. Верещагин зачислялся на службу к туркестанскому генерал-губернатору в чине прапорщика. Однако художник выговорил себе непременное условие – располагать правом ездить по Туркестанскому краю и носить цивильное платье. Он также настоял на том, что Кауфман не будет представлять его к очередным воинским чинам. В этом проявился независимый характер Верещагина, его отвращение ко всякой чиновной иерархии.
Выехал Верещагин в августе 1867 года. К тому времени он уже стал неплохим рисовальщиком, но пока еще имел мало опыта в живописи. Его убеждения принимали отчетливо выраженный демократический и гуманистический характер.
Дорога была длинной и утомительной – от Петербурга до Волги, через заволжские степи до Оренбурга и далее до Ташкента и Самарканда, так что впечатлений накопилось много. Впоследствии Верещагин описал их в своих путевых заметках и опубликовал сначала в одной из газет, а затем со своими иллюстрациями в майском номере журнала «Всемирный путешественник» за 1874 год. Вообще туркестанский период, очень важный и плодотворный в творчестве художника, можно довольно обстоятельно представить себе по литературным публикациям Василия Васильевича.
Заметки начинаются с описания Оренбурга, расположенного на рубеже двух материков: «С первых шагов вас поражает восточный характер города, лежащего, впрочем, на юго-востоке, на границе Европы и Азии. Сколько оригинальных фигур, какое разнообразие костюмов! Вот идет русский солдат выправленной походкой, вон пылкий и отважный уральский казак. Далее попадается бухарец с длинной бородою, человек степенный и важный, носящий чалму, длина которой равняется десяти или двенадцати метрам, если развернуть ее складки».
Побывал Верещагин на меновом дворе, который находился почти в четырех верстах от города. Туда съезжались со всех сторон на лошадях, на верблюдах, иногда с семействами. Приводили с собой быков, коров, овец, привозили войлок, шерсть, кожи, чтобы продать все это или выменять на домашнюю утварь, посуду и другие нужные в хозяйстве предметы.
Вот картинка пестрого восточного торжища: «Около полудня меновой двор наполняется толпой народа; давка бывает ужасная, шум оглушительный; покупатели и продавцы говорят все вместе; каждый старается перекричать соседа, как будто говорящие находятся в ста шагах друг от друга. Все двигаются, ходят взад и вперед, хлопают в ладоши, выкрикивают свою цену, которая всегда оказывается решительною и недопускающею уступки…» Сюда, на меновой двор, съезжались купцы разных национальностей: русские, узбеки из Бухары и Коканда, татары. Вот, скрестив ноги, сидит торговец возле своих товаров, сложенных в груду на земле. Казашки в высоких головных уборах из белого полотна продают кумыс. Художник, еще не имевший понятия об этом напитке, отведал его.
Посетив оренбургскую тюрьму, Верещагин заинтересовался выразительными лицами двух осужденных, татарина и башкира, и сделал их портретные зарисовки. В городе художник встретил посольство бухарского эмира. Его дипломатическая служба, казалось, символизировала феодальную отсталость эмирата. Вместо подорожных денег властитель Бухары снабдил своего посла напутствием – «выпутывайся из этого, как сумеешь». Посольство оказалось бы в самом бедственном положении, если бы русские власти не назначили ему денежное содержание. Верещагин познакомился с послом, маленьким живым старичком, постоянно осыпавшим собеседника всякими неожиданными вопросами. При более близком знакомстве бухарец показался художнику корыстным и недалеким, но все же занятным человеком. Верещагин уговорил посла позировать и сделал его карандашный портрет.
Перед отъездом из Оренбурга художник решился купить тарантас, дерзнув доехать в нем до Ташкента, до которого было добрых две тысячи верст. Почти весь тарантас заняли вещи, необходимые для работы: бумага, складной стул, рисовальные принадлежности, так что пассажиру пришлось потесниться.

В. В. Верещагин. Фотография конца 70-х – начала 80-х годов XIX в.
«Поездка из Оренбурга в Ташкент – сущее мученье! – восклицает Верещагин. – Дорога, впрочем, хороша (местами песчаная) и довольно ровная. Но беспокойствам, спорам и неприятностям нет конца. Со станционными смотрителями приходится спорить на каждой остановке, а с ямщиками – во все время пути; то лошадей нет, то нужно чинить постромки, хомут и вожжи, ничего не ладится, все идет скверно…»
На пути от Оренбурга до Орска казачки предлагали пуховые изделия. Встречные селения выглядели наполовину казачьими, наполовину татарскими. Степные кони, бывало, взвивались на дыбы, трясли головами, шарахались в сторону, рвали постромки. Ямщик, забыв, что везет тарантас, немилосердно стегал коней, подпрыгивая на козлах.
Орск произвел на путешественника впечатление бедного городишки с ничтожной крепостью, теперь уже совершенно лишней в этих мирных краях. За Орском степи еще не приобрели того мертвого вида, как южнее.
Стоял сентябрь. Днем было еще относительно тепло, а ночью и под утро случались заморозки, поэтому ездок мерз и в бараньей меховой шубе, накинутой на пальто. Окружающие степи были заселены казахами. Попадались стада верблюдов, нередко до ста голов. При звуке бубенчиков животные поворачивали в любопытстве головы и провожали тарантас серьезным взглядом. Когда удавалось подъехать к верблюдам слишком близко, они, задрав хвосты, галопом разбегались во все стороны – зрелище было уморительное.

Казах в национальном головном уборе. 1867–1868 гг.
Миновали русские укрепленные пункты Карабутак, Уральск. Далее начинались голые сухие степи, вместо почтовых станций – палатки…
В Джалангаче Верещагин, недовольный местными лошадьми, велел запрячь верблюдов. Но пришлось горько раскаяться за эту выдумку. «Проклятые животные сломали мой экипаж, увлекая его на скат одного холма, и мне поневоле пришлось глотать пыль», – жаловался художник, вынужденный чинить тарантас и возвратиться к старому, испытанному средству – лошадям.
На правом берегу Сырдарьи, несколько выше ее впадения в Аральское море, находился форт Казала, нынешний город Казалинск. Отсюда отправлялись вверх по реке пароходы. Тащились они еле-еле, натыкаясь на мели и перекаты. Пароходство на этой реке находилось еще в самом зачаточном состоянии и могло наладиться, по мнению художника, только после осуществления дорогостоящих работ по углублению русла капризной и изменчивой реки.
Обстановка под Казалой была неспокойной. В окрестных степях бродили вооруженные отряды местного феодала Садыка, который намеревался напасть на форт. Комендант форта выслал на разведку семьдесят казаков, и им пришлось выдержать в степи трехдневную схватку с тысячной ордой. Ружейным огнем казаки смогли рассеять людей Садыка благодаря внезапности нападения, но они и сами понесли серьезные потери.
Перебравшись на левый берег Сырдарьи, Верещагин осмотрел там развалины старинного города Джанекента, остатки его укреплений. «Они состоят из земляных насыпей вышиною от четырех до четырех с половиной метров и были защищены рвами, которые теперь засыпаны, – писал Верещагин. – Внутри нет признаков жилища. На юго-западе в пяти или шести верстах от реки виднеется большая стена; на расстоянии одной версты показываются холмы, из коих одни поросли травою и кустарником, а другие выветрились и раскопаны. Там-то находится старинный Джанекент».
Верещагин очень сожалел, что местные жители разрушили старые постройки ради кирпича. Находясь в Джанекенте, художник с помощью двух казахов произвел раскопки. В результате этих импровизированных археологических поисков были обнаружены кости людей и животных, кувшины и обломки других керамических изделий, кусочки стекла и украшений. Некоторые из них были покрыты голубой эмалью. Попался и какой-то обломок с рельефной надписью, сделанной арабскими буквами.
Во время пребывания в Джанекенте Василий Васильевич ночевал в ближайшем становище.
Его приютила в своей кибитке казахская семья. Отец семейства, смышленый человек лет сорока, постоянно носил широкий белый халат из верблюжьей шерсти. Возвращаясь в кибитку с заходом солнца, Верещагин заставал всю семью в сборе вокруг очага, наполнявшего помещение дымом. В качестве топлива жгли кизяк и степные кустарники. Художник подметил, что казахская семья жила бедно, кибитка обветшала, мясо для ее обитателей было роскошью. Хозяин выдавал тринадцатилетнюю дочь замуж. Выкуп за нее был заплачен – несколько лошадей и баранов, но отец девушки потребовал еще одного верблюда. Уплата калыма за невесту бытовала у мусульманских народов.

Казах в меховой шапке. 1867–1868 гг.
Верещагин, продолжая путь по долине Сырдарьи, в своих записках отмечал, что река образовала много островов, покрытых камышовыми зарослями. Здесь в те времена водились во множестве не только кабаны и волки, но и тигры. Миновали форт Перовский (ныне город Кзыл-Орда) с небольшим гарнизоном. Высота поверхности постепенно росла, и местность становилась более живописной. Степь чаще оживлялась деревьями, образующими кое-где целые рощи. Случалось, экипаж вспугивал стаи фазанов.
Вот станция Яныкурган, защищенная полуразвалившейся крепостью. Далее на пути лежал город Туркестан с множеством садов. Над городом возвышалась местная святыня – мечеть Газрет с сильно поврежденными куполами, покрытыми цветной эмалью. По улицам расхаживали женщины в темно-синих халатах, прикрывавших не только туловище, но и голову. Лица их были закрыты чалваном – густой черной сеткой из конских волос. Сидели или бродили нищие, выпрашивавшие милостыню. На оживленном, многолюдном базаре продавались всякие товары, местные и привезенные из России.

Мечеть в городе Туркестане. 1867 г. Рисунок
Еще один город, Чимкент, с садами и крепостью, возвышавшейся над городскими кварталами. Улицы его выходили на каналы, наполненные водой стекавших с гор потоков. Дома большей частью были без окон, только над дверьми имелись небольшие решетки, покрытые промасленной бумагой.
От Чимкента до Ташкента всего сто четырнадцать верст. Дорогу оживляли торговые караваны, которые шли в Ташкент, Коканд и Бухару. Вожатые-казахи покачивались на верблюдах, напевая грустные, монотонные песни.
Вот и Ташкент – столица Туркестанского края… При подъезде к городу начинались сады, виноградники, рощи фруктовых деревьев.
Верещагин обосновался в единственной гостинице, выходившей на центральную площадь города. Посреди ее стояла недавно возведенная русская церковь. Сюда же выходили дома губернатора Сырдарьинской области и других высших чиновников края. Нанеся визит губернатору, художник стал знакомиться с городом.
В записках Верещагина мы находим подробное описание Ташкента. Большинство зданий в городе были глинобитные. В условиях сухого климата они прочны и долговечны, однако подвержены разрушениям во время частых землетрясений. Лишь отдельные здания – мечети, базары, караван-сараи – были сооружены из кирпича.
Художник подметил, что дома богатых людей, обычно двухэтажные, заметно отличались от жилищ бедняков. «Эти последние имеют вид настоящих темных и грязных конур с нишами в стенах, войлоком и циновками на полу и глиняным очагом в углу или посередине комнаты, – писал Верещагин, – Тут нет ни стола, ни кровати. Летом еще можно жить в этих лачугах, но зимою семейству приходится переносить тяжелые испытания: сквозь крышу протекает дождь, через гнилые доски идет ветер, холод проникает со всех сторон, а топливо очень дорого в центральной Азии».
Дома людей, живущих в достатке, были устроены гораздо лучше. Во двор выходила широкая крытая галерея, поддерживаемая красивыми колоннами. Комнаты были уютно обставлены, пол покрыт войлоком или ковром. Зимой обитатели такого дома обогревались с помощью жаровни с углями.
Художник отметил большое влияние ислама на повседневную жизнь. Ислам был официальной идеологией мусульманского общества. Духовенство держало в своих руках всю систему образования, сводившуюся в основном к схоластическому заучиванию религиозных догматов и дававшую самые убогие крохи светских знаний. Муллы подавляли всякое стремление к свободомыслию и к научным знаниям.








