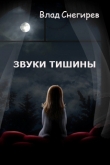Текст книги "АРГО"
Автор книги: Лев Кобылинский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
НОЧНАЯ ОХОТА
В тоскливый час изнеможенья света,
когда вокруг предметы.
как в черные чехлы,
одеты в дымку траурную мглы,
на колокольню поднялися тени,
влекомые волшебной властью зла,
взбираются на ветхие ступени,
будя колокола.
Но срезан луч последний, словно стебель,
молчит теней мышиная игра,
как мотыльки на иглах, веера,
а чувственно-расслабленная мебель
сдержать не может горестный упрек
и медленный звонок...
Вот сон тяжелые развертывает ткани,
узоры смутные заботливо струя,
и затеняет их изгибы кисея
легко колышимых воспоминаний;
здесь бросив полутень, там контур округлив,
и в каждом контуре явив – гиероглиф.
Я в царстве тихих дрем, и комнатные грезы
ко мне поддельные простерли лепестки,
и вкруг искусственной кружатся туберозы
бесцветные забвенья мотыльки,
а сзади черные, торжественные Страхи
бесшумно движутся, я ими окружен;
вот притаились, ждут, готовы, как монахи,
отбросить капюшон.
Но грудь не дрогнула... Ни слез. ни укоризны,
и снова шепот их далек.
и вновь ласкает слух и без конца капризный,
и без конца изнеженный смычок...
Вдруг луч звезды скользнув, затеплил канделябры,
вот мой протяжный вздох стал глух, как дальний рев,
чу, где-то тетива запела, задрожала,
рука узду пугливо сжала,
и конь меня помчал через ряды дерев.
Мой чудный конь-диван свой бег ускорил мерный,
за нами лай и стук и гул.
на длинных ножках стройный стул
скакнул – и мчится быстрой серной.
И ожил весь пейзаж старинный предо мной,
вкруг веет свежестью лесной
и запахом зеленой глуши;
гудя зовет веселый рог,
скамейка длинная вытягивает уши...
две пары ног...
и... скок...
Мы скачем бешено... Вперед! Коль яма, в яму;
ручей, через ручей... Не все ли нам равно?
Картины ожили, и через реку в раму
мы скачем бешено, как сквозь окно в окно.
Та скачка сон иль явь, кому какое дело,
коль снова бьется грудь, призывный слыша крик,
коль вновь душа помолодела
хотя б на миг!
В погоне бешеной нам ни на миг единый
не страшны ни рога. ни пень, ни буйный бег!
А, что, коль вдруг навек
я стал картиной?!
МАСКАРАД
терцины
Доносится чуть внятно из дверей
тяжелый гул встревоженного улья,
вот дрогнули фигуры егерей,
и чуткие насторожились стулья.
Все ближе звон болтливых бубенцов,
невинный смех изящного разгулья.
Вот хлынули, как пестрый дождь цветов
из золотого рога изобилья,
копытца, рожки, топот каблучков,
и бабочек и херувимов крылья.
Здесь прозвонит, окрестясь с клинком клинок,
там под руку с Жуаном Инезилья,
а здесь Тритон трубит в гигантский рог;
старик маркиз затянутый в жилете
едва скользит, не поднимая ног,
вот негр проходит в чинном менуэте,—
и все бегут, кружат, смешат, спешат
сверкнуть на миг в волшебно-ярком свете.
И снова меркнут все за рядом ряд,
безумные мгновенной пестротою
они бегут, и нет пути назад,
и всюду тень за яркой суетою
насмешливо ложится им вослед,
и Смерть, грозя, бредет за их толпою.
Вот слепнет бал и всюду мрак... О нет!
То за собой насмешливые маски
влекут, глумясь, искусственный скелет,
предвосхищая ужас злой развязки.
МЕНУЭТ
Ш. Д'Ориаса
Среди наследий прошлых лет
с мелькнувшим их очарованьем
люблю старинный менуэт
с его умильным замираньем.
Ах, в те веселые века
труднее не было науки,
чем ножки взмах, стук каблучка
в лад под размеренные звуки!
Мне мил веселый ритурнель
с его безумной пестротою,
люблю певучей скрипки трель,
призыв крикливого гобоя.
Но часто ваш напев живой
вдруг нота скорбная пронзала,
и часто в шумном вихре бала
мне отзвук слышался иной,—
как будто проносилось эхо
зловещих, беспощадных слов,
и холодело вдруг средь смеха
чело в венке живых цветов!
И вот, покуда приседала
толпа прабабушек моих,
под страстный шепот мадригала
уже судьба решалась их!
Смотрите: плавно, горделиво
сквозит маркиза пред толпой
с министром под руку... О диво!
Но робкий взор блестит слезой...
Вокруг восторг и обожанье.
царице бала шлют привет,
а на челе Темиры след
борьбы и тайного страданья.
И каждый день ворожею
к себе зовет Темира в страхе:
– Открой, открой судьбу мою!
– Сеньора, ваш конец – на плахе!
ИЛЛЮЗИЯ
Полу-задумалась она, полу-устала...
Увы, как скучно все, обыденно кругом!
Она рассеяно семь раз перелистала
свой маленький альбом.
Давно заброшены Бодлер и «Заратустра»,
здесь все по-прежнему, кто что бы ни сказал...
И вот откинулась, следя, как гаснет люстра,
и засыпает зал.
Она не чувствует, как шаль сползла с колена,
молчит, рассеянно оборку теребя,
но вдруг потухший взгляд коснулся гобелена,—
и узнает себя.
То было век назад... В старинной амазонке
она изысканно склоняется к луке,
на длинные черты вуаль спадает тонкий,
и кречет на руке.
Сверкает первый луч сквозь зелень молодую,
крупицы золота усыпали лужок,
все внятней хоры птиц, и песню золотую
вдали запел рожок.
Последняя звезда еще дрожит и тает,
как капля поздняя серебряной росы,
лишь эхо смутное из чащи долетает
да где-то лают псы...
И та, другая, ей так странно улыбнулась.
и перья длинные чуть тронул ветерок...
Забилось сердце в ней, но вот она проснулась,
и замолчал рожок...
В ПАРКЕ
Мерцает черным золотом аллея,
весь парк усыпан влажными тенями,
и все, как сон, и предо мною фея
лукавая... Да, это вы же сами?
Вот, улыбаясь, сели на скамейку...
Здесь день и ночь ложатся полосами,
здесь луч ваш локон превращает в змейку,
чтоб стал в тени он снова волосами.
Я говорю смущенно. (Солнце прямо
смеется мне в глаза из мертвой тени.)
Вы здесь одна, плутовка? Где же мама?
Давно, давно на бледном гобелене
она неслышно плачет надо мною.
ее печаль тиха порой осенней,
и безутешна скорбь ее весною!
КОМНАТА
Я в комнате один, но я не одинок,
меня не видит мир, но мне не видны стены,
везде раздвинули пространство гобелены,
на север и на юг, на запад и восток.
Вокруг меня простор, вокруг меня отрада,
поля недвижные и мертвые леса,
везде безмолвие и жизни голоса:
алеет горизонт, овец теснится стадо.
Как странно слиты здесь и колокольный рев
и бронзовых часов чуть внятные удары,
с капризным облаком недвижный дым сигары,
и шелка шорохи с шуршанием дерев.
Но так пленительна моей тюрьмы свобода,
и дружно слитые закат и блеск свечей,
камином тлеющим согретая природа
и ты. без ропота струящийся ручей,
что сердце к каждому бесчувственно уколу,
давно наскучивши и ранить и страдать;
мне просто хочется послушать баркаролу
из «Сказок Гофмана» – и после зарыдать.
КРАСНАЯ КОМНАТА
картина Матисса
Здесь будто тайно скрытым ситом
просеян тонко красный цвет,
однообразным колоритом
взор утомительно согрет.
То солнца красный диск одели
гирлянды туч, как абажур,
то в час заката загудели
литавры из звериных шкур.
Лишь нега, золото и пламя
здесь сплавлены в один узор,
грядущего виденья взор
провидит здесь в волшебной раме.
Заслышав хор безумно-ярый,
труба меж зелени в окне,
как эхо красочной фанфары,
взывает внятно в тишине.
Как бык безумный, красным светом
ты ослеплен, но, чуть дыша,
к тебе старинным силуэтом
склонилась бархата душа
с капризно-женственным приветом.
ДАМЕ-ЛУНЕ
Чей-то вздох и шорох шага
у заснувшего окна.
Знаю: это Вы, луна!
Вы – принцесса и бродяга!
Вновь влечет сквозь смрад и мрак,
сквозь туманы городские
складки шлейфа золотые
Ваш капризно-смелый шаг.
До всего есть дело Вам,
до веселья, до печали.
сна роняете вуали,
внемля уличным словам.
Что ж потупились Вы ниже,
видя между грязных стен,
как один во всем Париже
плачет сирота Верлен?
БОЛЬНЫЕ ЛИЛИИ
Больные лилии в серебряной росе!
Я буду верить в вас и в вас молиться чуду.
Я как воскресный день в дни будней не забуду
больные лилии, такие же, как все!
Весь день, как в огненном и мертвом колесе,
душа давно пуста, душа давно увяла;
чья первая рука сорвала и измяла
больные лилии в серебряной росе?
Как эти лилии в серебряной росе,
прильнувшие к листу исписанной бумаги,
душа увядшая болит и просит влаги.
Ах, эти лилии, такие же, как все!
Весь день, как в огненном и мертвом колесе,
но в тихом сумраке с задумчивой любовью,
как духи белые, приникнут к изголовью
больные лилии в серебряной росе!
TOURBILLON
Если бедное сердце незримо рыдает
и исходит в слезах, и не хочет простить,
кто заветное горе твое разгадает,
кто на грудь припадет, над тобой зарыдает?
А, грустя, не простить – это вечно грустить,
уронив, как дитя, золотистую нить!
Если сердце и бьется и рвется из плена,
как под меткою сеткой больной мотылек,
если злою иглою вонзится измена,
рвутся усики сердца, и сердцу из плена
не дано, как вчера, ускользнуть, упорхнуть.
Ах, устало оно, и пора отдохнуть!
Паутинкою снова закутана зыбкой
дремлет куколка сердца больного, пока
не проснется и гибкой и радостной рыбкой,
не утонет в потоках мелодии зыбкой,
не заблещет звездою мелькнувшей на дне,
не заплещет с волною, прильнувши к волне.
Вверь же бедное сердце кружению звуков,
погрузи в забытье и прохладную лень,
в их волненье сомненье свое убаюкав,
бесконечность раздумий в безумии звуков,
закружись полусонно, как легкая тень,
оброненная тучкой на меркнущий день.
РОКОКО
I. Rococo triste
Вечерний луч, озолоти
больные розы небосклона!
Уж там с небесного балкона
звучит последнее «Прости!»
И золотые кастаньеты
вдруг дрогнули в последний раз,
и вот ночные силуэты
к нам крадутся, объяли нас;
И тем, чьи взоры ужасает
мир солнца, стройно и легко
из полумрака воскресает
грусть вычурная Рококо.
Вот тихо простирает крылья
на парк, на замок, на мосты
ниспав небрежно, как мантилья,
испанский вечер с высоты.
И весь преобразился сад,
пилястры, мраморы, карнизы,
везде бегут, на всем дрожат
Луны причуды и капризы.
Фонтан подъемлет клюв и вот
уж сыплет, зыблет диаманты,
волшебный шлейф Луны Инфанты
влачится по ступеням вод.
И верится, здесь на дорожке
под фантастической листвой
ее капризно-детской ножки
проглянет кончик голубой.
Обман спешит стереть обман...
Мосты, беседки... Мы в Версале,
и мы от запахов устали,
нам утомителен фонтан.
Кругом ни шороха, ни звука,
как хрупки арабески сна,
но всюду неземная скука
и неземная тишина!
В листве желанно и фигурно
застыл орнамент кружевной;
здесь все так мертво, так скульптурно
и все напудрено Луной!
Но этот странный мир постижен
лишь тем, кто сам иной всегда,
и трепетен и неподвижен
и мертво-зыбок, как вода;
кто, стили все капризно слив,
постиг бесцельность созерцанья,
усталость самолюбованья,
и к невозможному порыв.
II. Rococo gai
Когда душе изнеможенной
родное небо далеко,
и дух мятется осужденный,
лишь ты прекрасен изощренный,
капризно-недоговоренный,
безумно-странный Rococo.
Ты вдруг кидаешь на колонну
гирлянд массивных цепь... и вот
она, бежавшая к балкону,
свою надменную корону
склоняет ниц, к земному лону,
потешной карлицей встает.
Ты затаил в себе обиды
от повседневности тупой,
твой взор пресыщенно-слепой
живят чудовищные виды,
и вот твои кариатиды
растут, как башни, над толпой.
Твои кокетливые змеи,
твои скульптурные цветы,
твои орнаменты, трофеи,
скачки, гримасы и затеи,
отверженным всего милее.
как бред изломанной мечты.
Лишь ты небрежный и свободный
в своих обманах мудро-прав,
загадочен, как мир подводный
с его переплетеньем трав;
мятеж с условностью холодной
невозмутимо сочетав,
лишь ты всевидящий провидишь
в затейливости – забытье,
ты цель лишь в сочетаньи видишь,
равно увенчиваешь все,
и все, венчая, ненавидишь,
влача проклятие свое.
Лишь ты коварный, вечно разный
все очертанья извратил;
неутомимый, неотвязный,
изысканный и безобразный
в один узор винтообразный
ты все узоры закрутил.
Лишь ты, своим бессильем сильный,
ты, с прихотливостью герба,
в бесстильности капризно-стильный,
с твоей гримасою умильной,
мне дорог, как цветок могильный,
приосенивший все гроба.
Лишь ты цветешь, не умирая,
не знаешь слез, всегда грустя,
скелет в гирлянды убирая,
ты души, что лишились Рая,
научишь изменять, шутя,
научишь умирать, играя!
ЗАБЫТЫЕ ОБЕТЫ
В день изгнаний, в час уныний,
изнемогший, осужденный,
славословь три вечных розы,
три забытые обета.
Роза первая – смиренье,
Бедняка Христова сердце,
роза скорби, обрученье
со святою Нищетою!
Славословь другую розу —
целомудрие святое,
сердце кроткое Марии,
предстоящей у Креста.
Роза третья – сердце Агнца,
роза страшных послушаний,
роза белая Грааля,
отверзающая Paul
1913.
КЕЛЬНСКИЙ ДОМ
Сегодня с утра дождь да тучи,
под дождем так угрюм кельнский Дом,
как дым, смутен облик могучий,
ты его узнаешь с трудом.
Как монах, одинокой тропою,
запахнувшись зло в облака,
он уходит упрямой стопою
в иные, в родные века.
А лишь станет совсем туманно,
он, окутанный мраком ночным,
как вещий орел Иоанна,
вдруг взмоет над Кельном родным;
вознесется плавно и гордо,
станет бодрствовать целую ночь,
громовержушим «Sursum corda!»
отгоняя Дьявола прочь.
СОБОР В МИЛАНЕ
Чистилища вечерняя прохлада
в твоих тенях суровых разлита,
но сочетают окна все цвета
нетленного Христова вертограда.
И белый луч, от Голубя зажжен,
сквозь все лучи и отблески цветные,
как прежде в сердце бедное Марии,
Архангелом в твой сумрак низведен.
Его крыло белей и чище снега
померкло здесь пред Розою небес,
и перед Тем. Кто Альфа и Омега,
возносится столпов воздушный лес.
В страну, где нет печали, воздыханья,
уводит непорочная тропа,
и у органа молит подаянья
погибших душ поникшая толпа.
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР
(Maria del Lilia)
У ног твоих беснуются авто,
толпа ревет: «Satan il destruttore!»
Но ты молчишь, в твоем угрюмом взоре
века не изменилося ничто.
В тебе душа титана Бриарея,
пред Агнцем кротко падшего во прах,
среди врагов заложником старея,
ты задремал по грудь в иных мирах.
Разубранный снаружи прихотливо
таишься ты, не тратя лишних слов,
но яростны твоих колоколов
немолчные приливы и отливы.
Все предали, но свято ты хранишь
синайских громов отчие раскаты,
Архангела-гонца глагол крылатый,
видений райских пламенную тишь...
Уж шесть веков, как в нас померкла вера,
блюди же правду дантовых терцин,
на куполе – сверженье Люцифера,
и над распятьем черный балдахин.
ТОМВА DI S. DOMENICO
О Доминик, мертва твоя гробница,
не слышен лай твоих святых собак;
здесь складки мертвые, бесчувственные лица,
здесь золото и мрамор, сон и мрак.
В холодной мгле безумная Мария,
как трепетная раненая лань,
рвет на груди одежды голубые
и на Отца, стеня, подъемлет длань.
У ног ее окровавленный муж
простерт, вкусив покой давно желанный,
и давит сердце вздох благоуханный
цветов увядших и бескрылых душ.
В АССИЗИ
I.
Здесь он бродил, рыдая о Христе,
здесь бродит он и ныне невидимкой;
вокруг холмы, увлажненные дымкой,
и деревянный крест на высоте.
Здесь повстречался первый с ним прохожий,
здесь с ним обнялся первый ученик.
здесь он внимал впервые голос Божий
и в небе крест пылающий возник.
Железный змей, безумием влекомый,
вдали бежал со свистом на закат,
и стало так все радостно-знакомо,
все сердцу говорило тайно: «Брат!»
Здесь даже тот, кому чужда земля,
кто отвергал объятия природы,
благословит и ласковые всходы
и склоны гор на мирные поля.
О Божий Град! То не ограда ль Рая
возносится на раменах холма?
Не дети ли и Ангелы, играя,
из кубиков сложили те дома?
И как же здесь не верить Доброй Вести
и не принять земную нищету?
О, только здесь не молкнет гимн Невесте
и Роза обручается Кресту.
Прими ж нас всех равно, Христова нива!
К тебе равно сошлися в должный срок
от стран полудня кроткая олива
и от земель славянских василек!
II.
Вот голуби и дети у фонтана
вновь ангельскою тешатся игрой,
вот дрогнул звон от Santa Damiana,
ладов знакомых позабытый строй!
Все строже, все торжественней удары,
песнь Ангелов по-прежнему тиха,
– Придите все упасть пред гробом Клары,
пред розою, не ведавшей греха!
И верится, вот этою дорогой,
неся Любви святую мудрость в дар,
придут, смиреньем славословя Бога,
Каспар и Мельхиор и Балтазар!
И возвратятся, завтра ж возвратятся
забытые, святые времена,
концы вселенной радостно вместятся
в тот городок, где Рая тишина!
Лишь здесь поймет погибший человек,
что из греха и для греха он зачат,
и Сатана вдруг вспомнит первый век,
пред Бедняком смирится и заплачет.
– Pieta, Signore! – ... дрогнули сердца...
Какой упрек! Весь мир святей и тише,
и ближе до Небесного Отца,
чем до звезды, до черепичной крыши!
О мертвецах, почивших во гробу,
о всех врагах, мне сердце изъязвивших,
о братьях всех любимых и любивших
я возношу покорную мольбу.
СОН
Я его ждал, так пламенно, так долго.
вот исполнился должный срок,
сегодня днем, на улице самой людной,
подошел Он ко мне тих и строг.
Он не был в одежде жреца или мага,
в руках – старый зонт, на голове – котелок,
Лишь в глазах роились молнии да слезы,
и лик был исчерчен вдоль и поперек.
Я молчал и ждал, все было в Нем знакомо,
я молчал и ждал, что скажет мне Гонец,
Он взглянул так просто и промолвил:
– Я пришел, потому что близок конец!
На Него посмотрел я с ясною улыбкой
(вкруг меня шумели, и толпа росла),
я Ему указал рукой на Мадонну,
что несла нам Сына тиха и светла.
AVE MARIA
Я не знаю, как это было,
я пел в хоре, как вот пою,
вдруг бедное сердце застыло,
и я очнулся в Раю.
Там сливались лучи и струны,
там я помню тихий закат
и голос схимницы юной.
зовущий солнце назад.
Там пели хоры иные,
я к ним без страха воззвал,
голос сладостный: «Ave Maria!»
меня поцеловал,
улыбался, вдали замирая,
печалуя и веселя;
я не знаю. то был голос Рая
или твой, Святая Земля.
Но сливались лучи и струны,
но я помню тихий закат
и голос схимницы юной,
зовущий солнце назад!
БАЛЛАДА О ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ
I.
Три девушки бросили свет,
три девушки бросили свет,
чтоб Деве пречистой служить.
– О Дева в венце золотом!
Приходят с зарею во храм,
приходят с зарею во храм,
алтарь опустелый стоит.
– О Дева в венце золотом!
Вот за море смотрят они,
вот за море смотрят они,
к ним по морю Дева идет.
– О Дева в венце золотом!
И Сын у Нее на груди,
и Сын у Нее на груди,
под Ними плывут облака.
– О Дева в венце золотом!
«Откуда Ты, Добрая Мать?
Откуда Ты, Добрая Мать?
В слезах Твой безгрешный покров!»
– О Дева в венце золотом!
–«Иду я от дальних морей.
иду я от дальних морей,
где бедный корабль потонул».
– О Дева в венце золотом!
«Я смелых спасла рыбаков,
я смелых спасла рыбаков,
один лишь рыбак потонул».
– О Дева в венце золотом!
«Он Сына хулил моего,
он Сына хулил моего,
он с жизнью расстался своей»
– О Дева в венце золотом!
II.
Три рыцаря бросили свет,
три рыцаря бросили свет,
чтоб Даме Небесной служить.
– О Дама в венце золотом!
Приходят с зарею во храм,
приходят с зарею во храм,
алтарь опустелый стоит.
– О Дама в венце золотом!
Вот на горы смотрят они,
вот на горы смотрят они,
к ним .по небу Дама идет.
– О Дама в венце золотом!
И Сын у Нее на груди,
и Сын у Нее на груди,
и звезды под Ними бегут.
– О Дама в венце золотом!
«Откуда Ты, Матерь Небес?
Откуда Ты, Матерь Небес?
В огне Твой безгрешный покров!»
– О Дама в венце золотом!
«Иду я от дальней горы.
иду я от дальней горы,
где замок священный стоял».
– О Дама в венце золотом!
«Я рыцарей верных спасла,
я рыцарей верных спасла,
один лишь огнем попален».
– О Дама в венце золотом!
«Нарушил он страшный обет,
нарушил он страшный обет,
он душу свою погубил!»
– О Дама в венце золотом!
ЧЕРНАЯ БАРКА
баллада
Взыграли подземные воды,
встает за волною волна,
печальная, черная барка
сквозь сумрак багровый видна;
злой Дух парусами играет,
стоит у руля Сатана.
В той барке погибшие души,
вкусившие грешных утех,
вчера лишь их создало небо,
сегодня ужалил их грех;
и плачут, и черная барка
навеки увозит их всех.
Их жалобы к звездам несутся,
но строгие звезды молчат,
их к Ангелам тянутся руки,
но страшен и Ангелам Ад,
и молят Отца, но решений
своих не берет Он назад.
Вдруг на воды пало сиянье,
и видны вдали берега,
идет к ним по водам Мария
печальна, тиха и строга;
о камни, о черные волны
Ее не преткнется нога.
Как звуки органа, разнесся
зов кроткий над черной рекой:
«Стой: черная барка, помедли,
не страшен мне твой рулевой;
брось души, еще до рожденья
омытые кровью святой!»
И с криком в проклятые воды
свергается Враг с корабля,
с улыбкою строгой и тихой
Мария стоит у руля,
к Ней души прильнули, как дети,
пред ними – Святая Земля!
В ПРЕДДВЕРИИ
Окончив скитанья земные.
в преддверии райских селений
заводят свой спор пред Марией
две новопредставшие тени.
Одна неостывшие четки
рукою безгрешной сжимает;
потупив взор грустный и кроткий,
другая дитя обнимает.
«Мария! – средь райских затиший
их ропот разносится в небе,—
Чей подвиг прекрасней и выше,
чем многострадальнее жребий?»
С улыбкой и светлой и строгой
на скорбные тени взирая,
им Матерь ответствует Бога,
им молвит Владычица Рая:
«Я ваших сомнений не знала,—
не ведая ложа и гроба,
я подвига оба прияла,
отвергла я жребия оба!»