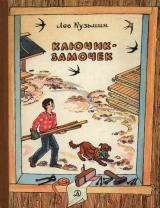
Текст книги "Ключик-замочек (Рассказы и маленькие повести)"
Автор книги: Лев Кузьмин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Пардон! Спутал в потемках… Пардон.
– Что за пардон? Какой пардон? То ревуар, то пардон… Ты чего, паря, все мелешь-то? – опять засмеялась тетя Клавдя, а Митя наконец набрался духу и тоже заговорил:
– Это он так, по-иностранному, извиняется перед вами. Извиняется и прощается. Нам и вправду пора. Мы пошли.
Митя тоже хотел проститься, но тетя Клавдя цепко ухватила его за рукав:
– Куда пошли? Зачем пошли? Раз Филатыч отпустил, помогите мне. Поезду остановка здесь – одна минута, мне лишние руки вот как нужны. Побежали со мной, побежали… К первому вагону побежали. Вон и поезд идет!
Она ухватила Митину руку еще крепче, побежала по перрону. Митя поневоле затопал рядом с ней. А Саше тоже деваться некуда. Саша тоже побежал, не отставал, только валенки – серый да пегий – замелькали.
И в это время пассажирский поезд с длинным, сильным, красно-зеленым паровиком «ФД» впереди миновал входной семафор, миновал стрелку, и, сбавляя ход, покатил по рельсам рядом с платформой, и вот – остановился.
Саша на бегу стал заглядывать под колеса, под вагоны, стал искать ящик. Но ящиков под вагонами что-то не было не видать. Там были только чугунные грязные цилиндры, толстые трубки, они шипели. Из-под вагонов Сашу обдавало мазутным холодным воздухом, и там пронзительно скрипели тормоза.
«Где они, ящики? Где? – торопливо соображал Саша. – Да и Митька, простофиля, бежит с этой теткой, никак не вывернется… Надо его, простофилю, выручать!»
Саша перестал заглядывать под колеса, помчался к почтовому вагону. Там во всю ширину раздвинулась высокая дверь, из нее, кем-то сильно брошенный, вылетел фанерный посылочный ящик.
Тетя Клавдя ящик ловко поймала, сунула Мите в руки. Митя быстро поставил ящик на снег.
Тетя Клавдя поймала второй ящик, опять сунула Мите, он и его поставил на снег.
А потом третий, а потом четвертый, а потом какой-то тюк, а потом какой-то мешок, и Митя едва успевал нагибаться, едва успевал разгибаться, он уже ничего не соображал, а только думал, как бы не грохнуть ящик на платформу, не расколоть вдребезги.
Саша подскочил, зашептал:
– Ты что? Ты что? Беги скорей, поезд отойдет!
А тетя Клавдя сунула и ему ящик, и Саша тоже взял и тоже поставил, и тут совсем рядом, над самым ухом, заверещал кондукторский свисток, и – пых-пых! стук-стук! – поезд потихоньку тронулся с места.
Он пошел, а из вагона с почтой вылетел еще один пакетик – видно, последний. Тетя Клавдя изловила и его, машинально сунула Мите в руки. Митя хотел и этот пакетик опустить на платформу, да вдруг застыл. У Мити даже рот приоткрылся.
Нет, Митя смотрел не на поезд. Вслед уходящему поезду смотрел, Саша.
Саша даже побежал было за уплывающими подножками, но, чувствуя, что Митя не трогается с места, и сам остановился.
Он посмотрел, как, покачиваясь, удаляется красный кружок на последнем вагоне, судорожно вздохнул, насупился и обернулся к Мите.
А Митя, его надежный компаньон Митя, даже и краешком глаза не посмотрел вслед поезду. Да мало того, что не посмотрел, он даже и не шелохнулся. Для Мити поезда словно и не бывало.
Митя, похоже, про поезд совсем и не думал: с таким странным видом стоял он сейчас на платформе и так пристально разглядывал тот самый пакет, который только что упал ему в руки.
Лицо у Мити было такое, будто он увидел в собственных руках луну или еще что-то не менее удивительное. Митя разглядывал пакет и вовсю улыбался.
– Ты чему это радуешься? – подскочил к нему Саша. – Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?
Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, потом торжественно, обеими руками вознес пакет впереди себя и повернул его так, что Саша сам хотел не хотел, а уставился на пакет.
На нем, на грубой, толстой парусине, в которую пакет был зашит, четко виднелась фиолетовая, чернильная надпись:
ЭНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
КУКУШКИНСКИЙ РАЙОН.
ДЕТСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3.
ДМИТРИЮ КУКИНУ.
А чуть пониже обратный адрес:
П/П 1928 Н. И. БАБУШКИН.
И тут Саша сам позабыл про поезд. Он забыл даже про тетю Клавдю, которая в это время пересчитывала разбросанные ящики, составляла их горкой.
Саша выхватил из Митиных рук пакет, еще раз перечитал оба адреса – перечитал и сказал:
– Ну, Митя… Ну, Митя… – а дальше сказать ничего не мог.
А тетя Клавдя:
– Раз, два, три, четыре, пять! – досчиталась до этого пакета, ткнула в него пальцем: – Шесть! – и вдруг тоже удивилась: – Вы зачем его схватили? Зачем? Положите. Он ведь не ваш…

– Наш! – с ликованием в голосе крикнул Саша. – Наш! Вот его – Дмитрия Кукина.
Тетя Клавдя изумленно подняла брови, наклонилась к Саше, к пакету:
– Ну-ка, ну-ка… Ой, и верно! Кукину… Дмитрию… От кого это тебе? От какого-то Бабушкина с полевой почты… От какого Бабушкина?
– От лейтенанта. От Н. И. … – осевшим голосом просипел Митя и потянулся к пакету.
– Это как понимать – «Н. И.»? Имя-отчество говори полностью, – сказала тетя Клавдя и отнесла руку с пакетом в сторону.
Митя перепугался, что пакет она не отдаст, и растерянно прошептал:
– Так я же не знаю…
– Ах, не знаешь! Может, ты и своего имени не знаешь? Может, ты совсем и не Дмитрий? Может, у вас в интернате какой другой Дмитрий Кукин есть? А ну, показывай паспорт!
Тетя Клавдя вроде бы шутила, а вроде бы и не шутила. Испуганный Митя разобрать этого не мог. На глаза у него навернулись слезы, да тут опять вмешался Саша. Он закричал:
– Да вы что? Почему же он не Дмитрий, когда он – Митя! А от Бабушкина у него письмо есть – в кармане, в курточке. Митя, покажи ей письмо!
Митя стал расстегивать пальто, чтобы добраться до курточки, а тетя Клавдя увидела, как пальцы у него дрожат, не могут нашарить петельки пуговиц, испугалась и сказала:
– Не надо, не надо. Я ведь смеюсь… Бери свой пакет, только распишись вот здесь.
Она вынула из кармана полушубка химический карандашный огрызок, стопку бумажек, и на одной бумажке Митя вывел свою фамилию: «Кукин». А потом подумал и добавил для верности: «Дмитрий». Он хотел еще написать: «Семенович», да тетя Клавдя отняла бумажку, засмеялась:
– Хватит, хватит. И так все теперь понятно, и так все теперь законно. Бери пакет.
– Его можно уже и раскрыть? – спросил Митя.
– Можно, да потерпи чуть-чуть. Сперва помогите мне почту до саночек донести. Они у вокзала стоят.
Митя сунул свой пакет за борт пальто, с готовностью схватил сразу пару посылок, Саша тоже взял пару посылок, а тетя Клавдя – посылку, тюк и мешок.
Они пошли по платформе и там, в самом конце, увидели двух железнодорожников в черных узких шинелях и в черных зимних шапках. Железнодорожники разговаривали, смеялись. Один из них свертывал папироску, и был он очень высокий, худой, с лохматыми седыми бровями над горбатым носом, а второй был маленький, молоденький, с розовым лицом.
«Наверное, тот большой – наш дежурный, а тот маленький – Валя, – подумал Митя. Подумал, сразу вспомнил про свое беглое положение, и сердце у него тоскливо заныло: – Неужто Саша опять будет ждать поезда? Неужто опять побежим?»
Он опасливо покосился на Сашу, но тот спокойнехонько нес посылки, на Митю не смотрел, сигналов никаких не подавал. Тогда Митя нежно, подбородком, погладил торчащий на груди пакет. Ему не терпелось узнать: что там? Ему так не терпелось, что он первым добежал до саночек и, поскорее освобождая руки, бросил ящики на саночки.
Саша тоже разгрузился, и прямо тут, на посылках, мальчики принялись тормошить пакет.
– Господи! – сказала тетя Клавдя. – Вот нетерпены… Без ножниц, прямо зубами шпагат рвут! Пошли бы ко мне на почту, там бы и распечатали. Не рвите, не рвите, давайте помогу.
Ей ведь и самой страсть как хотелось увидеть, что там такое прислал Мите Кукину лейтенант Бабушкин.
А мальчики грубые, толстые швы уже раздернули, и внутри под упаковкой оказались еще два отдельных, замотанных в бумагу пакетика.
– Давай, разматывай! – сказал Саша, и Митя принялся разматывать первый сверток.
Он разматывал его очень бережно. Он разматывал его очень тихо. Он разматывал так медленно, что Саша крикнул:
– Да скорее же!
И Митя развернул и сразу сказал: «Ох!», и, сверкнув золотом якорей и прошуршав черным шелком ленточек, перед всеми возникла великолепная матросская бескозырка.
Митя опять вздохнул:
– Ох!
Тетя Клавдя произнесла:
– Ну и ну!
А Саша сказал:
– Вот так да! Ну-ка, надень-ка!
Митя снял ушанку, надел бескозырку.
– Идет! В самый раз… – похвалил Саша, а тетя Клавдя добавила:
– Вылитый гвардеец! Настоящий моряк, да и только!
Митя протянул бескозырку Саше:
– На, Сашок, и ты примерь.
Но Саша мужественно отказался. Саша сказал:
– Не надо. Посылка твоя, значит, и бескозырка твоя. Давай дальше смотреть.
А дальше обнаружились не менее интересные вещи. Синий с красным, шестигранный командирский карандаш «Тактика» с двумя наконечниками из новеньких, с медным блеском автоматных гильз, огромная, шириной с ладонь, плитка шоколада под названием «Золотой якорь» и письмо!
Совсем небольшое письмо, но зато все целиком – для Мити.
Сказано в письме было вот что:
«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлотский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиных писем. Письма читали все моряки, и вот выносят тебе краснофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интернате, с честью несешь свою трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога.
А от себя, Митя, лично, я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да, сам понимаешь, с фронта посылки посылать трудно. Надеюсь, что после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нем подробно все свои дела.
Наши боевые дела идут отлично. Бьем фашиста-захватчика, скоро ему придет полный конец.
Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам – Филатычу и Павле Юрьевне – и вообще всему интернатскому экипажу.
Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту – Николай Иванович».
Письмо прочитали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только тетя Клавдя произносила каждую фразу вслух. А потом от себя добавила:
– Вот это человек так человек! Сразу видно, душевный. Сразу видно, заботливый…
А Митя прочитал письмо до конца, до последней точки и так разволновался, так разволновался, что и словечка сказать не мог. Когда же услышал, как тетя Клавдя хвалит лейтенанта Бабушкина, так сразу выхватил из растерзанного пакета шоколад, всю плитку, и стал совать ей в руки:
– Это вам! От него!
– Что ты, что ты! – заотмахивалась тетя Клавдя. – Что ты! Таким гостинцем не меня надо угощать. Этот гостинец ты у себя там на всех ребятишек разделишь. То-то им будет радость! Нет, не возьму и не возьму.
Митя схватил двухцветный карандаш, протянул Саше:
– Тогда ты, Саша, себе вот это возьми!
Саша карандаш взял, осмотрел, даже понюхал, потому что новенькие карандаши пахнут нисколько не хуже самого лучшего шоколада, но тоже сказал:
– Нет!
И он сказал не только «нет». Он подумал, подумал и тихонько произнес вот еще что:
– Мне, Митя, ничего не надо. Я от лейтенанта Бабушкина привет получил, и на том спасибо. Мог бы и не получить… А карандаш подари лучше Егорушке. Вместо дудочки. Ведь у него сегодня день рождения.
Митя, когда услышал такое, даже собственным ушам не поверил. Он заглянул Саше прямо в глаза и медленно переспросил:
– Как так Егорушке? Ты, значит, согласен, чтобы я вернулся? А ты сам? Ты сам тоже идешь со мной?
– Иду, Митя, – сказал Саша. – Конечно, иду… После такого письма куда ж нам идти?
– Только домой! Ответ лейтенанту Бабушкину писать! – просиял Митя.
– Конечно, ответ лейтенанту писать, – тоже легко вздохнул Саша и добавил: – Собирай багаж. Побежали! К дому побежали!
Мальчики сами не заметили, как впервые за все два года жизни в этом краю назвали свой интернат не интернатом, не школой, а домом. Они стояли, разговаривали, а тетя Клавдя смотрела на них и ничего не понимала.
– Вы о чем, ребятишки? Как это так – домой, когда у вас Филатыч где-то здесь, в селе?
– А мы с ним все равно встретимся! – улыбаясь, махнул рукой в сторону лесной дороги, в сторону интерната Митя. Разговаривать с тетей Клавдей он теперь не боялся, потому что все теперь было честно, все правильно.
Митя даже помог тете Клавде стронуть груженые саночки с места, спросил:
– Одна довезете?
– Довезу. Сегодняшний груз невелик, я и больше важивала… Ступайте. Счастливо вам!
– И вам счастливо! – сказали мальчики, завернули опять в парусину Митину посылку, взялись за руки и побежали по тропке сначала через рельсы, потом через поле – прямо к лесной дороге.
А вокруг уже рассветало. Серая ночная мгла в небе распахнулась, превратилась в пушистые облака. Навстречу облакам всплеснулись яркие лучи, и опять по всей земной белизне, по блескучему полевому насту протянулись от каждой торчащей из-под снега былинки, от каждого снежного заструга длинные голубые тени.

Мальчики выбежали на санную дорогу, помчались в гору, и вдруг навстречу им из-за этой горы вынырнула темная лошадиная голова с дугой, потом вся лошадь, а за ней сани-розвальни. В санях стоял на коленях человек, солнце светило ему в спину, и весь он казался черным.
Лошадь тоже казалась черной. Только передние ноги у нее ниже колен были белыми, словно в белых, невероятной чистоты чулках. Бежала она ходкой рысью.

У Мити екнуло сердце:
– Неужели Филатыч на Зорьке?
Саша прикрылся ладонью от солнца, посмотрел, сказал:
– Непохоже… Эта лошадь совсем другая. Видишь, ноги белые.
Но это была все-таки Зорька, а в санях – Филатыч. Он узнал мальчиков первым, остановил Зорьку, выскочил из саней. Он побежал к ним с широченным тулупом в руках, на ходу раскрывая его, распяливая, и мальчики смотрели на Филатыча и не могли понять: к сему здесь тулуп?
Они прижались друг к другу. Они ждали: сейчас на них обрушится кара, но обрушился на них и накрыл с головой только вот этот мохнатый тулуп. Филатыч как добежал до них, так только и сделал, что накрыл обоих, как неводом, овчинным тулупом и крепко стянул края широкополой одежины руками, запричитал, заприговаривал:
– Матушки мои! Вот вы где! Нашли-ся! А мы-то с Юрьевной чуть ума не лиши-лись! Пойдемте, матушки мои, пойдемте! Поедемте домой…
Он даже не спрашивал, куда и зачем убегали мальчики. Он только так вот их, укрытых тулупом, и подталкивал к лошади, подталкивал к саням и все уговаривал:
– Пойдемте, пойдемте…
Мальчики растерялись. Такая встреча сбила их с толку. Им обоим стало как-то не очень уютно, не очень хорошо и даже совестно, что дряхлый, бородатый Филатыч так возле них суетится. Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:
– Товарищ Филатыч! А товарищ Филатыч!
– Што? – испуганно спросил тот.
– Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали… Мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно назвал.
– Да господи! Да об чем речь! – воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. – Да разве я… Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего, и – шабаш! Вот как!
Старик еще раз махнул рукой, словно что-то отрубил, даже притопнул валенком и сказал уже совсем иным, твердым, своим всегдашним голосом:
– Садитеся! Поехали! Теперь, считай, все в аккурате.
– И Зорька в аккурате? – робко спросил Митя.
– Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь.
– А ноги?
– Что ноги?
– Это вы ей так забинтовали?
– А то кто же? Еще с недельку побинтуем, а там совсем пройдет.
– И жеребеночек у нее будет?
– Будет, будет. Ладно, что ты сумел ее тогда распрячь. Ладно, вызволил из полыньи… Иди с ней поздоровайся да поехали.
И вот опять теплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил ее шелковистую шею, а Зорька все поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальтецо, обнюхала то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.
– Потерпи, Зоря, потерпи… – шепнул ей Митя. – Вот приедем домой, и покажу. Всем покажу, и тебе покажу.
А потом, когда поехали домой, усталых мальчиков свалила дремота, и, лежа под мягким, теплым тулупом, Митя увидел сон. Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать ее ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо идем? Давай помчимся!» – «Давай», – говорит Митя, и вот перед ними возникают два длинногривых коня. Один конь – это Зорька, второй конь – это взрослый ее жеребенок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.
И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребенка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они – летят. Они несутся над зеленым лугом, над пшеничным полем, над макушками сосен, а под соснами школа и рядом с ней широкие ворота.
Кони опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище, и на нем голубыми очень большими буквами написано:
ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!
«Это от тебя, Николай Иванович, мне привет?» – спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:
«От меня, Митя, от меня… Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!»
Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнес громко, сразу на трех языках:
– Шарман! Вери вел! Май-о-о!
Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:
– Верно, сынок, верно. Все хорошо, что хорошо кончается.
Потом о чем-то подумал, с усмешкой покачал головой, повторил свои мысли вслух:
– То-ва-рищ Филатыч… Товарищ, да еще и Филатыч! Ну надо же такое сказать…
Он причмокнул на Зорьку:
– Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее… Товарищи проснутся, поди, есть захотят.
И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.

СЕРЕБРЯНАЯ ТРУБА

 а сумеречным окошком прохрустел снег. Мать живо обернулась к Володьке:
а сумеречным окошком прохрустел снег. Мать живо обернулась к Володьке:
– Девочки с папой! Встречай их скорей!
Володька полез из-за стола, а набухшую дверь уже кто-то с той стороны из сенцов дернул, она крякнула, распахнулась, и в натопленную избу хлынуло белое облако пара.
Облако рассыпалось мигом. И вот в толстых платках, в толстых одежках у порога стоят, растопыривают смешно руки, топочут мерзлыми валенками девочки-двойняшки, Володькины сестренки – Танюша с Марфушей.
Девочки хохочут. Девочки, укутанные так, что и глаз почти не видать, пищат что-то веселое, а отец тоже тут, он тоже смеется.
Отец стаскивает с себя широченный тулуп. От этого тулупа, от нахолодавших одежек Танюши с Марфушей по всей избе идет зябкая свежесть. И босой Володька переступает с ноги на ногу, ежится, но и ему весело.
Володька вместе с матерью тормошит сестренок, помогает им распутывать платки, почти кричит:
– Вы чему так радуетесь? Ну чему? Говорите скорей!
А девочки, сказав: «Ух!», наконец-то изо всего высвободились, стали тонкими, легкими.
Обе в школьной форме, обе белобрысые, с холода румяные, они запрыгали в чулках по мягким половикам:
– Каникулы, каникулы, каникулы!
– Начались, начались, уже начались!
Потом почти враз объявили:
– Завтра в школе новогодний праздник. Завтра утром папка опять повезет нас в школу. Жанна Олеговна подготовила целый концерт, а Иван Иваныч сыграет там на серебряной трубе!
– Ну-у! На серебряной? – изумился Володька. – Тогда, значит, и я поеду.
Отец подхватил Володьку, закружил и тоже, почти как девочки, заприпевал:
– Брось, брось! На дворе стужа, и ты ведь не школьник. У тебя дома будет праздник свой.
– Мы, Володька, съездим и все тебе расскажем, – поддержали отца девочки.
Танюша, кроме того, добавила:
– Не расстраивайся. На ту зиму подрастешь, возьмем и тебя.
Но Володька из рук отца вывернулся, закричал:
– Ах, так? – Он показал девочкам на все еще лежащие у порога, настылые, с тусклыми пряжками, толстые портфели: – Ах, так? Бычков с рожками рисовать, цветы-ромашки вам в альбомах раскрашивать я, значит, нужен сейчас? А как слушать серебряную трубу, так только через год на другую зиму? Нет уж! – Он сам, словно упрямый бычок, уставился на отца: – Завтра не возьмешь – все равно за санями побегу!
И тут веселье в доме нарушилось. Всегда сговорчивый отец развел руками:
– Чего нельзя, того нельзя…
Мать рассердилась по-настоящему:
– Это что это за атаман такой у нас объявился? Это что это за вольник? Ишь, за санями он наладился… Я тебе налажусь! Я тебе побегу! Валенки спрячу, и никуда ты не денешься. Иди допивай молоко да марш в постель!
И Володька, зная нрав матери, молоко допил, отправился безо всяких яких за темную переборку на свою постель.
Реветь он, конечно, не стал. Он сам был с характером. Он лишь у себя там, за переборкой, принялся вздыхать, пыхтеть и пыхтел до тех пор, пока жалостливые девочки не пришли к нему шептаться.
Танюша повторила прежнее:
– Мы, честное слово, Володька, тебе все расскажем.
Марфуша утешила тоже:
– В школе после концерта будут раздавать гостинцы, так мы их сбережем для тебя.
Но Володька слушал все это молча, от девочек отворачивался. Лишь спустя время в подушку пробубнил:
– Не надо никаких гостинцев. Вы лучше, как утром проснетесь, так разбудите и меня.
– Разбудить? К чему? – удивились девочки. – Разве не видишь, что теперь вышло?
– Ничего еще не вышло! – запыхтел Володька опять, и тогда девочки сказали, что ладно, ладно, непременно разбудят.
А потом во всей засыпающей деревне и в избе все притихло по-настоящему, по-ночному. В окошке напротив Володькиной кровати всплыл узенький месяц. И Володька глядел, вспоминал свою давнюю и пока что единственную встречу с заведующим школой, с тем самым учителем Иваном Ивановичем, который завтра собирается играть на серебряной трубе.
В прошедшее лето по тропке к дому – ну совсем как комбайнер с поля! – лихо подкатил на велосипеде загорелый парень в легонькой рубахе, спрыгнул на траву рядом с ребятишками. Он встал над Володькой, над девочками, которые тут под плетнем в холодке на скамейке сидели, весело ногами болтали, и сам им весело сказал:
– Здравствуйте! Нельзя ли потесниться?
– Можно! – ответили ребятишки.
И он сел, спросил, по скольку кому лет. Когда же узнал, что Марфуше с Танюшей почти по семи, то велел им бежать в дом, звать папу или маму. А в кулаке у Володьки увидел рябиновый свисток:
– Ого! Инструмент.
Володька не очень понял, засмеялся, гостя поправил:
– Свистулька… Папка мне вырезал.
– Отлично вырезал. Но тут нужна еще одна дырка. Разрешаешь?
И в руках гостя, откуда ни возьмись, заблестел перочинный ножик. Он им быстро свисток ковырнул, поднес к губам, надул щеки, стал длинными пальцами дырки закрывать, открывать. И тот самый свисток, про который мать говорила, что от него лишь звон в ушах да боль в голове, вдруг залился, защелкал, совсем как пичуга на ветке.
– Клю-клю-клю! Чок-чок-чок! У Ер-рошечки в сумке кр-рошечки! – повторил словами птичью песенку, засмеялся снова Володька.
– Точно! – похвалил гость. – Слух у тебя отменный. Можешь сыграть не хуже меня.
Но тут с отцом, с матерью прибежали сестренки. И все заговорили, что Танюше с Марфушей в школу записываться, конечно же, пора, все стали благодарить, что спасибо Иван Иваныч сам сюда для этого заглянул; и вот только тогда Володька понял, что перед ними никакой не комбайнер, а учитель.
Потом родители стали приглашать Ивана Иваныча в избу пообедать, но он сказал: «Спасибо!», подмигнул Володьке, засмеялся: «Клю-клю-клю!» – и уехал.
А больше с Иваном Ивановичем Володька не встречался никогда. Но и все равно, хотя рябиновый свисток давно высох, смолк, Володька ту летнюю встречу помнил. Помнил и, крутясь на жаркой подушке, думал теперь: «Что это все-таки у Ивана Иваныча за серебряная труба? На что она похожа? На месяц в нашем окошке, что ли? Про месяц тоже вот говорят: серебряный да серебряный…»
И Володька, то ли шутя, то ли всерьез, а может, уже в полусне все пробовал до месяца дотянуться. Но и каждый раз, то корова в хлеву рогами стукала, то сонные девочки в избе за переборкой начинали бормотать, то кот с лавки спрыгивал, месяц ускользал на свое законное место.
Наконец Володька угомонился, нашел щекой на подушке удобную ямку, крепко задремал. А наутро вскочил – в окошке синь, солнце, в избе тишина.
– Что такое? – так и сорвался Володька с кровати, заглянул в другую комнату.
В комнате на столе попискивает самовар, под столом умывается кот. И – все! И больше никого…
Володька ударил в дверь, вылетел на крыльцо.
А там – на дворе мороз и яркие от инея березы. А там – по снежному полю за околицей уходит по накатанной дороге к бору гнедая лошадь с санями, полными седоков. И ясно, что седоки – это отец, девочки и все здешние, деревенские школьники.
– Не разбудили! Бросили! – закричал Володька.
Он повернулся в избу, пальто, шапку накинул мигом, а вот обуваться-то было не во что. Валенок на постоянном месте, на краю печки, не оказалось. Не нашел их Володька и на самой печке. Торопливо шаря и везде лазая, наткнулся он лишь в темном углу а полатях на резиновые красные сапоги, в которых мать по осенней распутице ходила на ферму, на колхозную работу.
Мать, конечно, и сейчас ушла на работу. Но в отличие от забывчивых Танюши с Марфушей слово свое вчерашнее сдержала и Володькины валенки запрятала так, что искать их теперь, переискать, ни за что не отыскать.
Володьку от такого бесчестья бросило в жар. Но он тут же и махнул: «Ладно!» И не прошло минуты, застучал каблуками этих вот красных сапог по ступенькам крыльца, засверкал по белой тропе двора.
Сапоги, несмотря на то, что Володька насовал в них всяких разных подобувок, были еще и порядком великоваты. На ходу они от излишнего в них воздуха громко похрюкивали. Но гладкие, тонкие, они зато легко сгибались, весу в них было не много, и Володька мчался, ходу не сбавлял.
Притормозил он лишь раз, когда увидел у соседней калитки старика Репкина.
– Дедушка Репкин, а дедушка Репкин! Пойдет с фермы мама, скажи ей, я побежал в школу на концерт.
Глуховатый Репкин приподнял шапку:
– Куда побежал?
– На концерт, на выступление!
– A-а… Оно и понятно. По сапогам понятно. В таких только и выступать. Ну, беги, беги, выступай… Матери доложу все в точности.
И Володька наддал еще пуще, потому что подвода там, за краем поля, уходила в сосновый бор, за яркие черточки деревьев.
Но, в общем-то, при всем при том, как теперь получалось, Володька настигать ее впритык уже не собирался. Осклизаясь, чуть не падая, он бежал лишь до той поры, пока в морозно-дымчатой глубине леса не услышал ребячьи голоса. А потом, когда различил и мерзлое, медленное постукивание саней, то и сам, прячась за поворотами, за соснами, пошел тише.
Он утирал шапкой мокрое от пота лицо, шел, слушал, обижался опять.
«Им – что! – думал Володька про седоков-ребятишек, а главное, про сестренок. – Им – что! Они – в компании. Они едут, радуются, словно никого сегодня и не подводили, словно обещаний своих не забывали. Ну что ж, пускай будет так. Лишь бы меня папанька не приметил, а уж потом-то они ахнут, когда я на школьном празднике все-таки окажусь!»
И Володька до села, где находилась школа, вслед за санями добрался, и никто его в самом деле за весь путь не увидел.

Правда, один раз, уже на выезде из леса, отец вдруг словно бы что-то почувствовал. Натянул вожжи, оглянулся быстро, но и Володька присел быстро – накрыл пальтецом красные сапоги, и среди придорожных вешек-елок, наверное, показался отцу всего лишь тоже темной вешкой.
Куда трудней все пошло возле школы.
Рубленная из толстенных бревен, но при этом небольшая, она выглядывала из-под белой крыши веселыми, в крашеных наличниках окошками, смотрела узким крыльцом прямо на сельскую площадь. И отец как подкатил к крыльцу да как высадил всех шумных своих пассажиров, так тут и застрял.
Из саней он вылез, рукавица об рукавицу похлопывает, с валенка на валенок попрыгивает, – никуда не отходит.
А Володька смотрит из-за ближней избы, тоже начинает попрыгивать. «Неужто папанька так и будет на одном месте торчать? Тогда я тут под чужими окошками в сосульку превращусь… Это бежать в резиновиках было ничего, а стоять в них, ждать на морозе – оюшки!»
Но, на Володькине счастье, с другой стороны к школе подъехала еще одна подвода. С нее тоже ссыпались ребятишки. Они тоже с визгом, с хохотом скрылись за дверью школы, а бородатый, в фасонистой шапке пирожком возчик отцу закричал:
– Ты уже тут? Давай поставим лошадей к сватье да и сами глянем, что тут за концерт-представление… Вспомянем и мы, так сказать, свое золотое детство!
И мужики засмеялись, упали в сани, погнали рысцой мимо заиндевелых палисадников к какой-то там сватье, а Володька, так весь и приседая от холода, кинулся к школьному крыльцу.
За обитой войлоком дверью он сразу попал в шумную толчею, в теплынь. Школьники тут – все мал мала меньше – галдели, грудились у вешалок. Все старались раздеться первыми. А толстая, рябая, могучая ростом нянечка шумела пуще всех. Она командовала густым басом:
– Иванов! Шапку свою в карман не запихивай! Положь, как полагается, на полку…
– Сидоров! Опять тебе шубейку вешать не за что? Опять явился без петельки? Клади одежу в угол, петельку будешь потом пришивать со мной!..
– Петрова! Ох, Петро-ова… Ну, умница… Ну, славница… Туфельки с собою привезла! Валенки теперь сымает, туфельки надевает, сама с ноготок, а все она умеет, все у нее честь по чести, – ну, прямо как у большой. Глядите на нее, девчонки, учитеся!
Володька подходить к вешалкам даже близко не стал. Он мигом понял: ему, чужому, на глаза этой нянечке лучше не попадаться. И пока нянечка расхваливала какую-то там «славницу» Петрову, он боком, боком, скинул шапку, проскользнул за толпою в другую дверь.
За той дверью в зале, а вернее, в освобожденной для этого классной комнате сияла елка. Окна все были закрыты шторами, и при уютных огоньках елки ребятишки скакали тут, как хотели. Кто, нацепив петушиные, ежиные и заячьи рожицы-маски, кто просто так, – они пищали, кукарекали, кричали единственной здесь распорядительнице:
– Жанна Олеговна! Попрыгайте с нами еще чуть-чуть!
А она уж, видно, и попрыгала, и поплясала. И теперь – тоненькая, очкастая – вся от волнения, от жары пунцовая, все пыталась ребятишек угомонить:
– Спокойно, дети, спокойно! Пора по местам.
Но все равно не утихал никто.
Только Володька, чтобы не маячить на виду, да еще и потому, что в веселой толпе промелькнули Танюша с Марфушей, стал быстро высматривать себе местечко.
И он его нашел рядом с белеющим широкою скатертью столом. Стол был завален бумажными пакетами. От пакетов, как в магазине, шел конфетный аромат, да Володька принюхиваться, приглядываться к пакетам, конечно, не стал. Он лишь скромно примостился в уголке на стуле, скромно подоткнул под себя пальто и шапку.




































