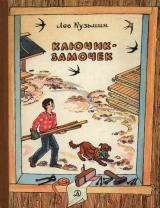
Текст книги "Ключик-замочек (Рассказы и маленькие повести)"
Автор книги: Лев Кузьмин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Лев Кузьмин
КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК
Рассказы и маленькие повести

ПЧЁЛКА

 ражданская война кончилась, но покоя в стране еще не было: то недобитые банды объявлялись там и тут, то из-за границ враг-капиталист опять грозил, и мой отец остался служить в Красной Армии.
ражданская война кончилась, но покоя в стране еще не было: то недобитые банды объявлялись там и тут, то из-за границ враг-капиталист опять грозил, и мой отец остался служить в Красной Армии.
А вот дедушка вернулся домой и стал работать в нашем тихом, глуховатом и оттого почти беспроезжем краю по устройству новых дорог и мостов.
Ну а поскольку весь этот край был лесным, сельским, то и жили мы с дедушкой невдали от уездного городка в деревне, и все у нас там было по-деревенски. Дом – прямо с окошками на небольшое поле, во дворе – куры, корова, а тут вот даже появилась и лошадь.
Лошадь в уездном исполнительном комитете дедушке выдали для служебных поездок.
Не очень молодая, но все еще легкая, складная, была она светло-золотистой масти, и звали ее именем тоже легким – Пчелка. По красоте, по стати своей она с местными Саврасками да Карюхами ясно что ни в какое сравнение не шла, но – вот беда! – имелся у Пчелки один досадный норовок.
До того как попасть в распоряжение исполкома, а потом и к нам, Пчелка тоже побывала в военном строю. Да не просто побывала, а служила, хаживала в походы; и вот теперь, когда ее списали по возрасту, времечко то, свое боевое, и должно быть лучшее, она забыть, как видно, все не могла.
Упряжную седелку, так же как, наверное, когда-то широкое кавалерийское седло, она принимала на себя спокойно и даже с удовольствием. Тесный хомут тоже позволяла на себя накинуть, но – тут поддавалась уже с фырканьем и сердитым взбрасыванием головы. А когда наконец дедушка начинал ее заводить в оглобли разъездного тарантаса, то вот здесь-то Пчелка весь норов и оказывала целиком.
На тарантас, на эту штатскую старенькую повозку, она взглядывала своими черно-яркими глазищами с полнейшим презрением и вставала в оглобли не вдоль, не так как надо, а круто поперек.
Дедушка отводил Пчелку, снова заводил, а она опять вставала поперек.
По получасу, а то и больше дедушка, бывало, с ней бьется, пока запряжет, и понятно, что он очень от этого сердился. Все чаще и чаще и с каждым разом громче, решительнее кричал дедушка по утрам на весь двор:
– Хватит! Надоело! Верну чертовку начальству, пускай меняют на другую лошадь.
И тем бы оно, наверное, и закончилось, да вот вышел вскоре случай, после которого дедушка про обмен Пчелки не то что в сердцах кричать, а даже и думать перестал.
А случай-то был вот какой.
По младости, по мальчишеству тогдашнему своему, я все просился у дедушки: «Возьми да возьми меня с собой. А то я твоей работы еще ни разу и не видел. Ты вот все говоришь да говоришь про нее, а какая она – мне не показывал!» И прямо скажу, такие мои просьбы дедушке нравились, он от них не отмахивался и в один из осенних вечеров за ужином мне и объявил наконец:
– Что ж, завтра по холодку поедем. Готовься. Ложись нынче пораньше, не проспи.
И все, кто тут был, почти все сразу: обе мои тетки – мамины младшие сестры, да и сама мама – тоже за меня обрадовались, а дедушку похвалили:
– Правильно! Прокати Саньку… Он уж вон какой! Почти школьник, и съездить с тобой вместе ему будет интересно.
Только бабушка перестала разливать по стаканам кипяток из нашего медно-рыжего и пузатого, словно буржуй с картинки, самовара. Она вздохнула с некоторым сомнением:
– Лошадь дурная, дорога не ближняя… Нет, лучше бы ты, дедко, не спешил. Вот когда Пчелку поменяешь, тогда мальчишку с собой и возьмешь.
Но тут мама, тетки и даже сам дедушка за Пчелку заступились. Они сказали, что ехать – не запрягать, что при езде Пчелка никаких таких штук почти не выкидывает, и бабушка все-таки согласилась.
Более того, когда я стал разыскивать к завтрашнему дню свои кожаные сапожки, то бабушка нашла их в углу под лавкой даже раньше меня. А когда нашла, то внимательно осмотрела, укоризненно покачала головой, нагребла сажи из печки в глиняный черепок и, плеснув туда водицы, обмакнула в эту самодельную ваксу тряпочку:
– На! Сапожки почисти… Дедушка работает с людьми и выезжать на люди в этакой загвазданной обувке нехорошо.
А наутро, когда я, умытый, причесанный, в надраенных сапожках, в теплой домотканой курточке – то есть весь-весь, как новенький пятачок, выкатился на крыльцо, то увидел Пчелку уже в оглоблях.
Правда, по ее виду и по дедушкиному виду было ясно, что они опять тут спозаранку не поладили. Дедушка сердито утыкал сено в тарантасе, бормотал свое: «Хватит! Терпенья больше нет!», а Пчелка сердито косилась на дедушку, отфыркивалась.
Но, взглянув на меня развеселого, поглядев на всю провожающую нас родню, которая, шумя и теснясь, тоже высыпала на крыльцо, дедушка уминать руками сено перестал, огладил на хмуром лице усы, бороду и улыбнулся.
Он и сам выглядел празднично. На плечах у него, разумеется, все та же, за все про все единственная, еще фронтовая шинелишка, но зато вместо солдатской шапки он надел сегодня почти новый картуз с маленькой на твердом высоком околыше жестяной лопатой и с таким же, наперекрест, крохотным топориком.
Этот картуз со строительным значком дедушка надевал лишь тогда, когда отправлялся к начальству. А теперь вот надел, как я понял, из-за меня, из-за нашей первой вдвоем рабочей поездки. И как только я об этом подумал, так мне стало еще веселей. И я почти сам, почти без дедушкиной подмоги вскарабкался в тарантас, угнездился на сене и, вспомнив, как прощается дедушка с роднею при всегдашних своих отъездах, приподнял и сам свою фуражку над головой, отвесил глубокий поклон маме, поклонился бабушке и обеим свои тетушкам.
Они все засмеялись, ответно мне закивали, и тут мы с дедушкой поехали.
Пчелка стронула тарантас на удивление охотно, бойко, и вот мы уже за нашим крыльцом, за двором, в пути.
Деревня еще вовсю спала. Желтоватое пятно раннего солнышка едва просвечивало сквозь белый туман. В тумане казалось, что это едем не мы, а мимо нас сами, будто сделанные из холодного дыма, проплывают дома, сараи, приземистые изгороди на околице деревни.
А потом мы словно бы опустились куда-то глубоко вниз, и запахло влажным ельником, и плывущие мимо нас клубы тумана стали еще непрогляднее. Только четкое чмоканье подков, да размеренное качание Пчелки в оглоблях, да шумное и длинное переливание луж под колесами тарантаса показывали, что мы тоже все-таки куда-то двигаемся.

Продолжалось это, может, час, а может, и два. Я таращился, таращился на все стороны, наконец не вытерпел:
– Где же, дедушка, работа твоя? Ничего не видать. Заехали, как в молоко.
А дедушка по-прежнему весело шевельнул вожжами и очень весело ответил:
– Молоко – что? Молоко – пустяк! Впереди еще кисель будет. Кисель-трясель, после которого мою работу и показывать не надо. Сам все почувствуешь, сам все поймешь.
И тут, действительно, под копытами Пчелки и прямо под нами началось такое вязкое хлюпанье, тарантас так заподкидывало и замотало из стороны в сторону, что я ухватился одною рукой за дедушкину шинель, другою – за плетушку тарантаса, но все равно – раз, и еще раз, и еще, и еще – чуть не вылетел прямо в самую хлябь, прямо в самую грязь.
А дедушка, знай, ухмылялся:
– Во-от… Вот она старая-то матушка-дорожка, во-от… Запоминай ее! А как трястись будет уж невтерпеж, так выедем на новую дорогу, на мою. А вернее, на артельную… Мы тут с тяпневскими мужиками такой участок отгрохали, хоть пляши!
И, кренясь вслед за тарантасом то туда, то сюда, а порой даже и выскакивая, и плюхаясь полами шинели в желтых лывинах, и подпирая экипаж сбоку, дедушка принялся на все лады расхваливать предстоящий нам вскоре другой путь. А особенно – строителей этого пути, тяпневских мужиков.
Он, обшлепанный грязью чуть ли не до самых бровей, кричал мне радостно:
– Тут вся соль, Санька, в том, что мне их агитировать почти не пришлось! Они сами добровольно для этого дела артель сколотили. Сколотили да так навалились, что вот – пожалуйста! – сейчас увидишь и результат.
Дедушка в честь тяпневской строительной артели заливался ну прямо-таки соловьем, а я лишь кивал да помалкивал. А я ведь про артель-то да про стройку не все еще и понимал тогда, а главное, боялся: как рот раскрою, так тут же на первом толчке-ухабе язык свой напрочь и откушу.
А еще я переживал, что Пчелка потянет, потянет по здешним ухабам не слишком-то ею любимый тарантас да, не довезя до хваленого тяпневского участка, и остановится.
И вот она задрала голову и встала. Но встала все же по причине иной.
Где-то далеко впереди нас, в самом-самом тумане как будто бы ржанула другая лошадь, и вот Пчелка замерла, навострила уши. Но отвечать той, чужой, дальней лошади все же не стала, опять налегла на хомут, зашлепала по грязи.
А дедушка сказал еще радостнее:
– Наверняка это едут на работу тяпневские плотники! Вот видишь, какие они молодчаги… Не хуже нас по самой рани поднялись. На шестой версте на мосту перила еще не поставлены, так вот они, значит, доделать и торопятся. Сейчас я тебя им представлю. А-атличнейшие мужики! Особенно Коля Кряж. Он одним лишь топором может хоть что сотворить, даже любую замечательную игрушку. Так ты его, Санька, непременно об этом попроси… Коля страсть как любит, когда его просят, и он тебе вмиг из любой попавшейся чурки оборудует какой-нибудь фокус-мокус!
И тут сначала под подковами Пчелки, а затем сразу и под железными шинами колес захрустел крупный песок – дорога вдруг стала точно такой, какой ее дедушка мне и расписывал: сухой, гладкой, просторной.
Лишь белый туман все еще и здесь клубился, но и в тумане было видно, что новая дорога ровна, широка, хороша.
Пчелка безо всякого на то понукания ободрилась, покатила тарантас быстрей. Дедушка форсисто поправил картуз со значком. Я, ожидая скорой встречи с Колей Кряжем, пошоркал пучочком сена свои с утра надраенные, а теперь вновь обляпанные сапожки.
А навстречу Пчелке потянул ветерок. Пар над дорогой пошел клочьями. И тут я поднял голову от сапожек и сначала смутно, а потом ясней увидел новый высокий, щедро усыпанный вдоль недостроенных перил сосновою щепою мост, а на мосту – верховых.
Я их увидел, гляжу на них, а они стоят вдвоем, не двигаются. Лошади их смотрят в нашу сторону, они сами тоже смотрят в нашу сторону, но смотрят при этом почему-то так, как будто нас тут на дороге и нет. Никакого знака-приветствия они нам не подают, а сидят себе сутулятся в седлах и не шелохнутся. Я удивился, но дедушке говорю:
– Вот и плотники твои! Только странные какие-то… Замерли, как столбы. И который из них Коля Кряж? Тот, что поздоровей, да?
А дедушка и сам их, конечно, видит, да ничего мне про них больше уж не объясняет. Вместо этого натягивает и натягивает вожжи и этак чудно, почти полушепотом, подает голос Пчелке:
– Тпру… Тпру… Тпру…
Я глянул на дедушку, а лицо у него серее шинели стало, и слышу, он и мне шепчет:
– Нишкни, Санька… Это не плотники…
И шарит у себя под ногами в сене, что-то там быстро ищет, спешит, а в это время сзади на меня, все равно как с неба, вдруг дохнуло горячим-прегорячим, и раздается насмешливый голос:
– Не ищи, Крылов, не старайся! Сам знаешь, ничего у тебя там нет. Отмахнуться тебе нечем… Смело ездишь – на Советы работаешь! Вот и доездился, доработался.
И тут я хоть и обмер весь, и глянуть назад боюсь, но краем глаза вижу: нависла, дышит над самым моим плечом лошадиная морда с длинными волосками в розовых горячих ноздрях, а под околыш дедушкиного парадного картуза, прямо дедушке в затылок уткнулся, потом отодвинулся, потом опять рядом закачался вороненый ружейный ствол.
Это, значит, с тылу к нам, к самому задку тарантаса подстроился еще кто-то верховой, и вот он-то и говорит насмешливым голосом. И как заговорит, как, должно быть, наклонится у себя там наверху в седле, так на меня спиртом и несет. И от него наносит, и от коня потным, горячим запахом наносит, и от всего этого мне сделалось муторно, стало еще страшней, а голос все погоняет:
– Давай, давай, Крылов, праведный человек, на мост взъезжай! Ты его для новой власти мостил, да не домостил… Вот мы тебя с потомком твоим заместо перил и уложим.
А те двое ждут, стоят, все не шевелятся. Только лошадей теперь повернули поперек моста, голова к голове. И под руками у них на коленях тоже что-то взблескивает.
Этот же, сопровождающий наш и, должно быть, главный, подталкивает и подталкивает дедушку ружьем:
– Ну, может, Крылов, мы тебя укладывать и погодим… Может, маленько и помилуем. Если на коленочках перед нами поползаешь! Поползаешь ведь, Крылов, а?
А дедушка молчит, лицо у дедушки каменное. Лишь правый ус на щеке, как бы совершенно сам, часто и часто дергается, а все остальное лицо – камень. И кулаки с широкими в них вожжами тоже будто каменные. Только вот плечом он от меня едва заметно отклоняется да отклоняется, да вдруг с локтя, с полуоборота как даст по ружью и по лошадиной морде, как вскочит, как швырнет меня под ноги себе, да как закричит ужасным голосом Пчелке: «Да-ё-ошь!» – так все тут сразу и смешалось!
Ружье у конвоира, должно быть, вылетело, потому что он тоже что-то заорал, а Пчелка, словно ее ошпарили кипятком, рванула и со всем нашим грузом-тарантасом понеслась прямо на тех, на двоих.
Не успели они ахнуть, Пчелка врезалась меж стоящих поперек моста лошадей, и одна из них, ушибленная в грудь торцом оглобли, скалясь и визжа, вздыбилась такою свечой, что я из-под низу, со дна тарантаса увидел вдруг все стесанные до блеска гвозди на ее подковах.

Она чуть было не рухнула обеими этими подковами к нам в тарантас, да тяжелый всадник и седло перевесили, и, заваливаясь на спину, она сама и ее седок начали медленно падать за неогражденный край моста в дымную от глубины и от утреннего холода речку.
А что было со вторым всадником, а тем более с тем, который прозевал нас, я видеть уже не мог.
Мост под нами пробренчал гулко и коротко. Пчелка понеслась теперь по свободной дороге так, что сквозь плетушку тарантаса засвистел воздух. А дедушка все не давал мне поднять головы. Он больно держал меня за плечо: он, должно быть, боялся, что вслед нам затрещат выстрелы, и вот все загораживал меня собой, все подняться мне не давал.
Но выстрелов не раздалось, вслед нам летели только угрозные крики, да и те скоро смолкли. Не было и погони.
И вот, слышу, Пчелка затопала реже, сильно отфыркиваясь, перешла на шаг, а дедушка перестал меня удерживать.
– Вставай… Все! Струсили они стрелять… Тут Тяпнево близко… А вон и сами тяпневские плотники легки на помине.
И смотрю, а из-за поворота, из-за просветлевших совсем елок выкатывается нам навстречу целая ватага мужиков с плотницкими ящиками, с длинными и гибкими на плечах пилами. Солнышко на стальных полотнах пил зеркально играет, так и отсвечивает. Мужики еще издали нам машут, кричат что-то веселое, потому что ничего еще, конечно, и не подозревают, Но когда с нами сошлись, да посмотрели на шумно дышащую Пчелку, да как глянули на серьезные наши лица, то сразу смолкли.
А дедушка снял картуз, отер расшибленным кулаком мокрый лоб, сказал:
– Ну, ребята, что сейчас было – пером не описать…
– Что такое? Что? – зашумели мужики, а дедушка тут им и объяснил:
– Вот, мол, что… Банда!
Лысый, широкогрудый, в тонкой розовой, несмотря на утренний холод расстегнутой чуть ли не до пояса рубахе и такой весь удивительно квадратный мужик, что я мигом признал в нем Колю Кряжа, сразу нахмурился, сразу потянул из ящика топор.
– Где они?
Другие мужики тоже полезли за топорами, а дедушка сказал:
– Ищи ветра в поле. Банда – она банда и есть. Раз не удалось, ждать ловцов на свою голову не будет. – Дедушка усмехнулся, добавил: – Только ведь они думают, что и мы по избам попрячемся. Дорогу строить забросим.
– А вот это им – шиш! – моментально ответил Коля Кряж, подхватил с дороги ящик с инструментами, махнул мужикам: – Айда на мост! Торчать тут нечего…
Он им махнул, дедушку же спросил осторожно:
– А ты куда сейчас, Андреич? С нами? Или пока что в Тяпнево на отдышку?
Но дедушка принялся разворачивать Пчелку, ответил:
– Отдышимся, когда наработаемся.
И все мужики до единого тут дедушке и мне заулыбались, все разом заговорили:
– Вот это так! Вот это по-нашему! С тобой мы, Андреич, этот мост начали, с тобой да с твоим Санькой сегодня и завершим.
А когда шумною опять ватагою мужики двинулись по дороге вниз, то все теперь старались шагать рядом с Пчелкой, все похлопывали ее, гладили по золотистым бокам, все Пчелку хвалили:
– Ну и лошадь тебе досталась, Андреич, – любому коню конь! Смотри, дала такой рывок, а – сухонькая. Другая бы в мыле вся была, а эта – нет! И толковая она у тебя, ну прямо как даже не всякий человек. Каким манером, ты сказываешь, в атаку-то ее бросил?
И дедушка, в который уж теперь раз, снова объяснял:
– А вспомнил, что она обстрелянная, боевая, и по-фронтовому, по-конармейски крикнул: «Даешь!»
И опять все на ходу улыбались, все покачивали одобрительно головами, и лишь Коля Кряж все молчал и молчал.
Он как положил Пчелке на густую гриву корявую свою ладонищу, так все, не отнимая руки, рядом с лошадью и вышагивал.
Он шел, помалкивал, о чем-то думал.
И вот наконец обдумал, видно, все до конца, поравнялся с тарантасом, хлопнул дедушку по колену, отчаянно и весело уставился ему в глаза:
– Ты Пчелку менять собираешься, так давай меняй на моего Вороного! Хочешь, сейчас в деревню сбегаю, Вороного приведу?
А дедушка тоже этак весело глянул на Колю и ответил совершенно для Коли, для меня и для всех неожиданно:
– Ты что, Коля-Николаша? Ты что, чудак? Да откуда до тебя такая несуразица докатилась? Да разве я Пчелку сменяю на кого? Ни в жизнь, ни за что, ни за какие коврижки!
Вот так вот Пчелка у нас и осталась и возила дедушку на работу еще немало лет. И никогда я больше не слышал, чтобы дедушка зашумел на нее или хотя бы слегка рассердился. А про тот случай он тоже почти не вспоминал. Лишь только один раз, когда к нам в деревню пришло сообщение, что банду выследили ребята – уездные комсомольцы и банде настал конец, он сказал:
– Так быть и должно. Наша власть молодая, да ничуть не пугливая.

ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!

1
 тарая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую, сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают легкие тени сосен. По вешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними – синь, солнышко и кучевые прохладные облака.
тарая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую, сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают легкие тени сосен. По вешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними – синь, солнышко и кучевые прохладные облака.
В этой деревенской школе интернат для детей-ленинградцев.
Ленинградцы ждут здесь конца войны вот уже второй год. К сельскому тихому житью, к глубоким снегам ребятишки давно привыкли, как давно и крепко привыкли друг к другу.
Здание школы небольшое, и жильцов тут немного. Все они – малыши в возрасте от пяти до девяти лет. И только двое – Елизаров и Кукин – чуть постарше. Единственная воспитательница и учительница ребят, маленькая решительная женщина в старомодном пенсне, Павла Юрьевна, занимается с Елизаровым и Кукиным отдельно, по программе третьего класса. Таким своим особым положением оба мальчика гордятся, держатся всегда вместе, даже кровати-раскладушки в спальне у них стоят рядом.
Но все же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить по утрам звонко и весело, на всю спальню, английское приветствие: «Гуд монинг!», за удивительную начитанность, за ловкость в драке, если таковая случится с деревенскими, ужасно напористыми в бою мальчишками, уважает за всегдашнюю справедливость, за нежадность и за многое, многое другое, даже за прическу «чубчик».
Прическа кареглазому говорливому Елизарову очень идет. Он храбро ее отстоял перед Павлой Юрьевной, когда всех мальчиков стригли наголо, «под нуль».
Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет и, наверное, никогда не будет.
Митя знает, что он хотя и силен, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо некрасиво залепили веснушки, что в случае чего сдачи он дать никому не может – ему для этого надо рассердиться. А сердиться Митя не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.
Но это все мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.
А вот было время, когда и Саша Елизаров начал считать себя сиротой. Начал считать вот почему. Сашин отец – фронтовик, раньше на свою ленинградскую квартиру письма присылал часто, но когда Сашу перевезли в интернат, когда Сашина мама ушла на фронт, потому что была военным врачом, то письма от отца приходить перестали. Они не приходили долго, почти целый год. От мамы, из окруженного фашистами Ленинграда, весточки были тоже редкими, и Саша очень волновался, а про отца думал, что он погиб. Думал, но не верил. И Митя вместе с ним тоже не верил. Митя говорил:
– Вот погоди, Сашок, однажды утречком ты проснешься, и на тумбочке у тебя будет лежать письмо…
И так оно все и случилось. Прошлой осенью, как раз в день первого сентября, Саша проснулся, глянул, как всегда, на тумбочку, а там – письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!
Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, но он обрадовался так же, как будто письмо получил сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:
– Ура! Сашкин папка нашелся! Сашкин папка нашелся! Он в госпитале раненый лежал.
А потом вдруг на душе у Мити сделалось ни с того ни с сего неприятно. Он затосковал, кинулся в темный чулан под чердачную лестницу, обнял там связку березовых черенков для метел и – заплакал. Заплакал от жалости к себе.
Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдется. Отец у Мити никогда никуда не пропадал, он просто давным-давно умер, когда Митя был еще маленьким.
А вот мать и сестренки у Мити живы, но тоже куда-то исчезли. Случилось это в самые первые дни войны.
До того как началась война, жил Митя с матерью и с двумя сестренками Дашей и Машей невдалеке от Ленинграда в совхозе «Дружная горка», и когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.
Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. На этой станции поезд стоял долго: была жара, всем хотелось пить. И Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошел к водонапорной колонке за водой.
У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались, Митя тоже стал пробиваться к самому крану. И когда пробился, и набрал полный чайник, и пришел на перрон, то на том месте, где стоял его поезд, увидел только пустые рельсы. Поезд ушел, увез неизвестно куда маму, увез Дашу и Машу, и Митя остался один с полуведерным чайником в руках.
Потом к Мите подошла чужая тетенька с красной повязкой на рукаве, стала выспрашивать что да как, и на другой день Митя оказался в детском эшелоне и вот приехал сюда, в интернат.
Чайник тоже здесь. В нем разносят чай во время обеда, и малыши называют его: «Митин чайник».
Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет. Саша быстро его разыскал, вошел в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу все понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной в пыли курточке и сказал:
– Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои, как нашелся мой папа… Тут главное: терпеть, терпеть и – вытерпеть. Ты же сам так говорил.
2
Письма Саше Елизарову стали приходить чуть не каждую неделю, и в один прекрасный день Павла Юрьевна положила на Сашину тумбочку не всегдашний помятый треугольник, а настоящий конверт.
Он был твердый, довольно толстый, и в правом углу на нем была напечатана зеленая крошечная марка с портретом колхозницы в летней косынке. По всему было видно, в конверте находится что-то очень важное.
Павла Юрьевна, наверное, думала так же. Она положила письмо и стала дожидаться, когда Саша его распечатает. А Саша конверт осторожно разорвал, и оттуда выпала большая, с глянцевым блеском фотокарточка.
Саша так прямо и вцепился в нее. Он ведь столько времени не видел отца, что уже и забывать стал, какое у него лицо, какие у него глаза. Но как только глянул, так отца узнал сразу, в одну секунду. Узнал несмотря на то, что на карточку отец снялся не один, а с товарищем и, кроме того, отпустил усы. Небольшие усы, но густые и очень пышные.
Товарищ отца был тоже усатый, но чуть помоложе и улыбался так, что лукавые глаза его совсем защурились, а из-под черных усов блестели великолепные белые зубы.
Отец и его товарищ стояли в обнимку, оба веселые. И стояли они не просто так, не где-нибудь, а прямо на палубе корабля у стального поручня. И по этому поручню, по краешку железной палубы, видной на фотографии, было совершенно понятно: корабль этот – боевой! И стоят на нем Сашин отец и его друг тоже в полной боевой морской форме. Да мало того что в форме, а на кителях у них у каждого с правой стороны выпукло поблескивает по новенькому звездастому ордену. Наверное, ордена только что получили.
На чистой белой стороне карточки было написано синим карандашом:
«Саше Елизарову от капитана второго ранга С. Елизарова и от лейтенанта Н. Бабушкина.
Враг будет разбит, победа будет за нами! Пусть Гитлер помнит Сталинград, пусть помнит красных моряков на Волге!»
Павла Юрьевна как глянула на фотографию, так сразу похлопала по карману стеганой безрукавки, вынула тонкое, в блестящей оправе пенсне, защипнула пружинками переносицу и, отнеся от себя фотографию на всю длину руки, произнесла:
– Ох, Саша! Какой у тебя геройский отец… Сразу видно, сталинградец! И лейтенант Бабушкин тоже герой, хотя о своих подвигах они ничего не пишут… Ты, Саша, когда станешь посылать ответ, не забудь поздравить с наградой товарища капитана и товарища лейтенанта от всего интерната и от меня лично.
Она положила фотографию, повернулась к окну, глянула в оконное стекло на себя, как в зеркало, почему-то вздохнула и быстро пошла к двери. А Саша крикнул ей вслед:
– Напишу! Обязательно напишу.
А еще он громко добавил:
– Май-о-о!
И это на языке североамериканских индейцев значило: «Хорошо! Прекрасно!»
Саша умеет разговаривать не только по-английски, а почти на всех языках всего мира. Правда, из каждого он знает лишь два-три словечка. Он выучивает их не по учебникам, а вычитывает из приключенческих книг, но все равно Павла Юрьевна однажды назвала его «полиглотом». Назвала при всех, и все интернатские жители сначала смутились, потому как подумали: слово это ругательное. Но когда Павла Юрьевна объяснила, что так называют людей, знающих много иностранных языков, то и Митя, и все малыши стали уважать Сашу еще больше.
Ответ на письмо с фотографией Саша послал в тот же день. Написал ли он там капитану Елизарову и лейтенанту Бабушкину привет от Павлы Юрьевны – неизвестно, а вот про Митю Кукина написал. Он сам прочитал эти строчки Мите вслух. Строчки были такие:
«У тебя есть друг, и у меня есть друг. Его зовут Митя Кукин. Ему десять лет, и у нас с ним все вместе. Мы бы с ним тоже снялись на карточку, да фотографа у нас тут нет, и у Мити Кукина никого нет, ни отца, ни матери. А есть у нас только заведующая Павла Юрьевна, завхоз Филатыч и петух Петя Петров. Когда был мороз, Митя прятал петуха под своей кроватью, а еще Митя колет дрова для кухни, носит воду, а я ему помогаю. Так что снять на карточку нас некому, не обижайся».
Капитан второго ранга Елизаров, конечно, не обиделся. Более того, он и сам в ответном письме прислал Мите поклон, а лейтенант Бабушкин приписал ниже капитанских строчек большими буквами: «Привет тебе, Митя Кукин!»
Митя как увидел приписку, так сразу выхватил письмо из Сашиных рук, отбежал в сторону, прижал письмо к животу и чуть не криком сказал:
– Что хочешь делай, Сашок, а письмо отдай мне! Хочешь, я тебе за него свою новую шапку на твою старую сменяю?
– Не надо мне твоей шапки, – ответил Саша. – Что я, буржуй, что ли, на письмах наживаться? Если надо, так бери…
И вот с тех пор письмо с лейтенантским приветом Митя носит всегда в нагрудном кармане курточки и перечитывает его не меньше чем по два раза в день: утром, после подъема, и вечером, перед сном. А когда на сгибах появились дырки, Митя подклеил их вареной картошкой и газетной бумагой, и опять аккуратно сложил письмо, и опять убрал в карман.
Митя и сам бы послал лейтенанту Бабушкину письмецо, да начинать переписку первым все не решался. Писарь он был никудышный, очень боялся наделать в письме ошибок и тем самым испортить у лейтенанта Бабушкина о себе впечатление. Митины успехи за партой не очень-то велики. Он хотя и старается, и плохих отметок у него почти не бывает, но и хорошие проблескивают редко.
– Середнячок ты у нас, Митя… – нет-нет да и скажет Павла Юрьевна, когда ставит ему очередную тройку в дневник. Ставит, вздыхает, но и тут же спохватывается, начинает утешать: – Ничего, ничего. Порою способности приходят позже. Так случалось со многими умными и впоследствии очень знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был надежным. А ты, Митя, – человек вполне надежный. Ты у нас, можно сказать, мужчина в дому! Без тебя с нашим хозяйством мы бы не знали что и делать…
От таких речей Митино конопатое лицо расцветает, белесые ресницы над зелеными глазами начинают смущенно и в то же время радостно трепетать. Ведь все, что говорит Павла Юрьевна о Митиных заслугах, – правда.
Как только кончится урок, как только Павла Юрьевна поднимет со стола медный колокольчик С надписью «Дар Валдая» и звякнет им, так Митина круглая, словно шарик, фигурка в затертом казенном пальтеце и в пушистой шапке-ушанке скатывается с крыльца во двор.
А белый двор усыпан по мягкому, подталому снежку рыжими сосновыми иглами. А сосны над головой стоят чуть не до неба. Воздух сладок, свеж, пахнет по-весеннему ветром, и здесь Митя чувствует себя на полной свободе. Он здесь – хозяин положения, и даже сам Саша Елизаров попадает волей-неволей к нему в подчинение.
Митя хватает с поленницы топор, ставит на попа чурбан-кругляш, – бац! – бьет по нему наотмашь, и чурбан разлетается на две половинки.
А Саша тоже берет топор, тоже ударяет по кругляшу, но «бац!» у него не получается. Чурбан как стоял целехонек, так и стоит, а лезвие топора глубоко вязнет в сырой древесине.
– Кар-р-рамба! – ругается по-иностранному, кажется по-итальянски, Саша. – Как хоть ты все это делаешь? Научи!

И Митя учит. Подсказывает, что лезвие топора надо нацеливать не прямо, а чуть-чуть наискосок, что ударять надо резко, без всякого страха, но Саша все равно при ударе побаивается, трусит промахнуться, удар у него выходит не тот, и в конце концов Митя говорит Саше:








