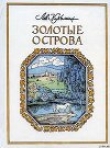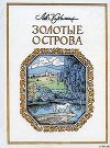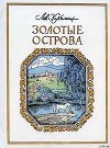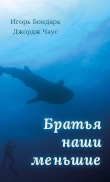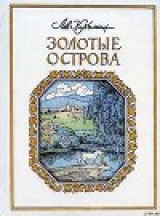
Текст книги "Теплый Благовест"
Автор книги: Лев Кузьмин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Лев Кузьмин
ТЕПЛЫЙ БЛАГОВЕСТ
Бабушкины праздники
и улыбки детства

ЦВЕТОК НА СНЕГУ
(Рассказ-вступление)

Каждый особливый, не простой денек был у деревенской бабушки моей отмечен именем человеческим. Календарь этот именной, устный звучал примерно так:
– Хлебушко в полях сеют на Егория. Петров день – начало сенокосам. Пчел в палисадник под солнышко выставляют на Зосиму, в теплый омшаник убирают на Савватия.
– И каждое имя это, – толковала мне бабушка, – не просто имя людское, а еще и угодное Всевышнему. И все угодники Господни, начиная от Авдотьи-Малиновки, лесной ягоды охранительницы и до божьего брата Якова, что осенние поля первою снежною простынкой укрывает, – все-все они нам помощники в наших трудах. Оттого и дни, в крестьянстве особые, названы их именами. Да не только дни работные, а, конечно же, и веселые, праздничные!
Что верно, то верно. У нас в деревне самый большой праздник был тоже именным. Назывался он Николой Зимним. Или попросту – Николой. А еще об этом празднике говорили, что он у нас – «престольный», но я, малолеток, путал это слово со словом «застольный». Да ведь и было от чего. Во-первых, в этот день к бабушке наезжало и сходилось столько родни-гостей, что наша изба так и ходила ходуном от шума-веселья; а во-вторых и в главных, бабушка к празднику-то настряпывала столько всяких пирогов, что не знаешь за какой и приняться сразу. Когда же примешься, так от любого тебя за уши не оттащишь! Румянились у бабушки на столе и пироги с капустой, и с творогом, и с морковью, и с солеными груздями, а на заедку, на сверх сыта – с медово-брусничною начинкой!
В общем, изо всех бабушкиных праведников мне, подростышу, наиболее нравился этот праздничный, в моем понятии всегда только пироговый Никола.
И вот в самый канун такого Николина дня бабушка хлопочет на кухне, а я теснюсь рядом на скамейке у окошка. Бабушке я маленько мешаю, но она меня не прогоняет, а нет-нет да и суёт какой-нибудь лакомый кусочек.
Погода же за окошком нашим – не похоже что и праздник завтра. Вдоль деревни по дороге белая поземка насвистывает; голые березы дрожат, качают мерзлыми ветвями; меж дворов прямо на глазах растут острые сугробы. И не видать нигде не единой живой души. И только на тонкой тычинке у нас на ограде палисадника сидит, нахохлилась странно яркая в этой белёсой мути маленькая синичка. Она съежилась, она все поглядывает на окошко, смотрит прямо на меня, и я представляю, каково ей там, на ветру, – тоже поёживаю плечами.
– Ох, бабушка! По такому ненастью, похоже, не только гости, а и сам Никола не придет к нам! Останемся без праздника!
Бабушка тупой стороной ножика очищает тесто с рук, смотрит на меня серьезно:
– Придё-ёт… Не переживай! Он, Никола-то, гляди, уж свой добрый знак нам прислал.
– Что за знак? Где? – удивляюсь я, а бабушка показывает на ту, озяблую, за окошком синичку:
– Вот она и есть его знак. Эта пичуга у нас тут, в наших краях, особая совсем. Изо всех других, зимних, она шустрей, краше. Ее Никола еще в давнее, старопрежнее время к нам от Господа Бога за пазушкой принес… Не будешь ухмыляться, не будешь попусту насмешничать – расскажу!
И тут я услышал от бабушки не то быль, не то сказку, и слушал все это с полным, как говорится, вниманием:
– Как я уже говорила, – начала бабушка, – в одну из годин давнепрошлых навалилась вдруг такая крутая, такая долгая зима, что ей и конца не видать. Люди в деревнях, в селах по времени весны ждут, а весны все нету и нету. Люди к белым окошкам припадают, высматривают, не проглянет ли солнышко, но в рамы лишь вьюга колотит, а стынь-морозище такой, что и железо рвет и птицу на лету бьет!
Пали сельские люди духом, жмутся к печкам, которые и топить уж почти нечем, горестно шепчутся: «Весна, поди, не вернется к нам совсем… А, значит, и не хаживать нам за плугом по теплой пашенке, пропадать, как есть, с холоду, с голоду…»
Долетела эта печаль до всегдашнего крестьянского заступника, до Николы-угодника. Да и сам он, по горемычным селам ходучи, искручинился весь. И вот стучится он наверх к самому Богу, ласково ему говорит: «Господи! Дал ты нынче зиму долгую, дал шибко суровую, и это по твоему Божьему помыслу так, видимо, и надобно. Для испытания людей, должно быть, надобно… Да ведь к испытанию-то хорошо бы и надежду приложить! Хоть малый ее знак! Ведь без надежды и сам ты, Господи, не пребываешь… А иначе зачем бы тебе налагать на людей такой крест?»
Задумался Господь, поглядел на седенького, на озяблого в худоватой шубейке Николу, да и говорит: «Верно, печальник, верно! И самому-то стойкому без надежды, – что на ветру без одежды! А потому получай, Никола, тот знак, о каком просишь!»
И раскрыл Господь легкую, светлую ладонь, а на ней, вся как луговой цветок, баская, живая синичка. «Вот, – улыбается Господь, – вот она и станет в любую зиму-испытание подавать людям надежду, что какие бы стужи-горести на них не наваливались, а Весна придет! Бери, Никола, эту живую душу, эту бойкую пичугу, неси ее к людям!»
– И Никола поклонился Господу; синичку, чтобы не упорхнула, посадил под шубейку за пазушку и – к нам принес! – так завершает свой рассказ бабушка, при этом она глядит на ту самую синицу, что притулилась на палисаднике за окном.
А затем вдруг собирает в горсть со стола крошки от начинки для будущих пирогов, чуть охнув, тяжеловато влезает на скамью, распахивает тугую, прижатую ветром форточку, и сыплет крошки на нижний карниз окна, прямо на белый там снег.
Форточку бабушка закрывает опять, отходит от окошка на шаг, отводит и меня за локоть чуть в сторонку.
И вот на зимнее, декабрьское наше окошко, на пушистую там на снеговую подушку садится та, настоящая, живая синица; и она – спинка зеленая, брюшко желтенькое, шапочка темно-синяя, глазки шустрые – в самом деле похожа на расцветший у нас тут, за настылым стеклом цветок.
А когда синичка начинает подбирать рассыпанные крохи, когда начинает громко тюкать по раме, то мне кажется, что это к нам и не зимний праздник – Никола приближается, а стучится теплою капелью веселый, голубой месяц Весны уже с другими бабушкиными праведниками-угодниками – с хлебным Егорием, с пчелиным Зосимой.
Я так об этом бабушке и говорю, а она улыбается:
– Правильно! Только раньше-то Зосимы да Егория мы с тобой и другие хорошие денечки встретим. Близёхонько вот Рождество Христово… А вослед за ним, меж трудами-делами нашими, придет к нам и еще немало замечательных деньков. У меня, у бабушки, поживешь – всё сам увидишь! Увидишь и – порадуешься!

ВЕЧЕРКОМ, В СОЧЕЛЬНИК

За окном синь предночья, трескучий мороз, а в избе у бабушки тепло и душисто пахнет еловыми лапками. От цельной-то елки в избе стало бы тесновато, и бабушка в честь завтрашнего Рождества поставила на полку перед зеркалом лишь несколько зеленых лапок. Рядом она зажгла свечку, и вот – лучистое сияние крохотного пламени в зеркале отражается, золотит лапки, и по избе празднично плывет смолёвый, тонкий аромат.
У меня настроение праздничное тоже.
Бабушка только что подарила мне серенькие, новые носки. Она сама их связала из овечьей шерсти, и теперь ей не терпится начать примерку. Она, усадив меня на скамью, ощупывает на ногах сквозь ворсистую вязку каждый мой пальчик, все спрашивает:
– Здесь хорошо? Тут хорошо? И здесь вот ладно?
А мне щекотно, я ногами дергаю, я хохочу:
– Да хорошо же, бабушка! Хорошо везде! Ну перестань же!
Но бабушка заставляет меня пройтись и по половицам:
– На ходу носочки не колючие, нет? А то ведь шерсть новая, еще нисколько не обтопталась…
– Обомнется! Обтопчется! – прыгаю я по половицам так, что и огонек свечи живо колышется, горит ярче. Он сияет в стекле зеркала, словно звезда небесная в чистой воде, и мне охота в глубине этой, лучистой, на себя, на радостного, поглядеть.
Бабушка мой порыв понимает по-своему:
– На скамейку, на верх встань! Вот себя там при носочках и увидишь! А свяжу шарфик – предстанешь перед зеркалом кавалером заправским.
Тут стукает дверь, от порога звонкий смех:
– Ага! Его, кавалера, мне и надо!
Это примчалась с улицы бабушкина совсем еще молоденькая дочь – Нина. Она с ходу так и обхватывает мои щеки прохладными ладонями:
– Побежали со мной, побежали! Нынче Сочельник! Будем колядовать, добрых хозяев величать – они нам дадут гостинцев!
Бабушка шутит:
– Где – дадут, а где – поддадут… Корзину, величальщики, берите поширше! А то куда гостинцы денете?
– У нас карманы глубокие! – шутит и Нина, стаскивает с печки мои теплые одёжки. Да я и сам тороплюсь. На новые носочки надеваю старые сапоги, хватаю из рук Нины пальто, шапку, кричу: «Бежим!»
И вот мы на крыльце. И ночь вокруг теперь не темно-синяя, а от снегов, от морозного, светлого месяца – будто посеребренная. В ее серебре-свете стоят на тропке около нас одногодки Нины: Дуся, Маруся да Коля Смирнов. Дуся, Маруся уставились на меня:
– Карапузика этого, Нина, зачем с собой приволокла?
А Коля Смирнов, я знаю, и Нине – друг, и мне, стало быть друг. Коля про меня говорит:
– Не такой уж он карапузик. Он станет у нас подголоском!
– Подголосок, это кто голосит что ли? – спрашиваю я. – Ладно! Поголошу! Только вот – что?
– А как у кого мы запоем колядку-величание, – объясняет мне Коля, – да как я тебя подтолкну, так ты сразу и кричи погромче: «Слава! Слава!» Понял?
Я, конечно, понял, и Коля хватает меня за руку, машет всем остальным:
– Мчимся первым делом к Ивану Спиридонычу! Он мужик не зажимистый, добрый, веселый…
И вот мы, не стучась, не просясь, через гулкие сени вваливаемся в просторную, в очень светлую избу.
Свет в избе – от висячей, керосиновой лампы. Такая лучезарная лампа с расписным, эмалевым абажуром над стеклом – лишь у Ивана Спиридоныча. Про него в деревне говорят: «Хозяин он шибко дельный, разворотливый, потому и живет без нужды. Только вот, жаль, ему с его Лизаветой Бог ребятишков все не посылает и не посылает… А пора бы!»
Сейчас Иван Спиридоныч чернобровый, статный, нарядный, с такою же красивою теткой Лизаветой сидят у самовара тоже только вдвоем. При виде ватаги нашей хозяин широко взмахивает руками:
– Гляди-ка, Лиза! И у нас гости! Праздник и у нас!
Тетка Лизавета мигом вскакивает нам навстречу:
– Проходите! Проходите! Усаживайтесь!
А наши все хором:
– Нет, мы не сидеть пришли! Мы вам попеть пришли! Да вот сочиняли-то мы все сами, и ежели что не так, то не ругайтеся!
И наскоро шушукаются, и Коля тоже шепотком повторяет мне наставление:
– Как знак подам, так и кричи, что положено.
– Ага… – киваю я, и тут они вот и давай петь:
Свет-Ивану Спиридонычу
С Лизаветой свет-Ефимовной
Пожелаем добра-благости,
Во здоровьи всякой радости,
Чтобы век им жить, не стариться
Да трудом своим всюду славиться!
И Коля сразу меня тычком под бок – ширь! – и я гаркаю что есть мочи; во всю, как говорится, ивановскую:
– Сла-а-ава!
Спиридоныч даже за столом привскочил, вздрогнул:
– Эк тебя прохватило! Но – ничего… Молодец! Молодец!
Наши все, будто и их похвалили, хозяину кланяются, хозяйке кланяются, продолжают бойко, весело:
А во двор-то вам бурёночка
Пускай приведет рыжего телёночка,
А свинушка – поросят
Штук сто пятьдесят!
Все – рыльца пятачками
И хвостики – крючками!
И опять Коля – ширь! толк! – меня, а я про поросят, про ихние пятачки, про ихние хвостики-крючки заслушался, ну и заместо «славы» сам радостно, сам ото всей душеньки верезгнул:
– Хрю-хрю! Хрю-хрю! Хрю-хрю!
Хор смешался. Нина, отпихнув Колю, собралась стукнуть мне по затылку, да глянула на Ивана Спиридоныча, а он так весь от смеха на столешницу и повалился.
– Ну, – говорит, – мальчонка и артист! Ну и – потрафил! Выдал такое «хрю-хрю», что мне и въявь показалось: я на полторы сотни поросят разбогател… Валяйте, певцы-удальцы, дальше!
Наши приопомнились, успокоились, давай «валять» дальше:
А еще вам – медовых коврижечек
Да в придачу-то к ним – ребятишечек!
И ребяток не просто пригоженьких,
А на вас на обоих
По-хо-жень-ких!
И уж тут-то я, услыхав про ребятишечек, никаких тычков-сигналов дожидаться не стал, а самочинно закричал:
– Слава! Слава! Пускай все так и будет, как в песенке!
Иван Спиридоныч из-за стола выскочил, меня обнял, усами уколол, поцеловал, поднял на руках высоко:
– Вот за такое пожелание благодарю особо крепко!
И вижу, глаза у него радостные, да что-то в них и похожее на слезинку проблеснуло, и он ее мигом смахнул, кричит:
– Лиза! Все, что есть у нас в печи – все нашим славильщикам на стол мечи! А этому бубенчику-звоночку… – это, значит, про самого меня он так! – Этому бубенчику надо бы вручить какой-нито подарок!
Он держит меня на руках, оглядывает избу, да все у него тут: и абажур на лампе, и на стене часы-ходики с гирей, и горка с посудой в углу, – все у него этакое, что мне, пацану, и не подаришь.
Зато вот сам-то я вижу: тетка Лизавета кроит на столе ножом великолепнейший пирог. Наши все так к тем ломтям пирожным и тянутся, вот-вот их умнут без остатка, и я у Ивана Спиридоныча завырывался:
– Не надо мне подарка! Не надо! У меня уже есть!
– Где? Какой? – удивился Иван Спиридоныч.
А я сошвырнул с ног свои широченные, растоптанные валенки, показываю новые носочки:
– Вот! Смотри! Бабушка сегодня подарила!
С рук Ивана Спиридоныча соскакиваю, бегу в носочках к столу, и тетка Лизавета поспешно преподносит мне на обеих ладонях огромный кус того прекрасного пирога. И я его принял так цепко, так бережно, что даже поприсел. И все опять засмеялись. А Иван Спиридоныч обнял меня вновь:
– Ладно… Подарок все равно за мной… Приходи к нам завтра… Приходи и просто так. Я по тебе теперь скучать стану…
– Не скучай, не надо… – говорю я, не отрываюсь от пирога. – Я к тебе, как проснусь, так и прибегу. Да и потом бегать буду! И подарок мы придумаем вместе.
– Вместе… Непременно… – кивает мне Иван Спиридоныч, а пирог уже доеден и нам надо уходить.
Мы покидаем избу, спускаемся со ступенек высокого крыльца, и ночь вокруг нас все такая же серебристая, месячная. А Иван Спиридоныч с Лизаветой все стоят и стоят на крыльце, все смотрят вослед нам, пока мы не скрываемся за углом избы другой, соседней.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Зима у нас давно, да все наваливались то оттепель, то ненастье.
А нынче, не успел я проснуться, бабушка говорит веселым голосом:
– В окошко глянь!
Я вскочил, глянул, а там – синева, солнце, деревья в розовом инее и по яркому снегу бежит к нашей избе Даша Сапожкова.
Я сам тут моментально повёртываюсь, натягиваю обувку, одёжку, толкаю плечом крепкую, настылую за ночь дверь. Добрая бабушка едва успевает крикнуть вослед:
– Обедать хоть приходи… Поскакал, не пивши, не евши…
А я уж стою на снегу у крыльца, там рядышком и Даша. Из-под толстой, бело заиндевелой шали у нее – только синие глазища. Она радостно ими сияет, торопливо спрашивает:
– На корытце поедем?
– На нем! Вот оно! – еще быстрей отвечаю я и вытаскиваю из-под крыльца липовое, долбленое корытце. Раньше бабушка кормила из него поросенка, да потом оно треснуло и, стянув трещину веревкой, бабушка преподнесла корытце мне: «Зимой на горке оно станет лучше всяких салазок!»
А горка у нас отличная, крутая. Это даже и не горка, а самая настоящая гора. Она ныряет сразу за деревней в луговую долину. Летом мы, ребятишки, вослед за взрослыми бегали сюда ворошить, сушить сено, плескались в здешней родниковой речке. А теперь и долина вся белым-бела, и речка там спряталась под снег, под лед. Речные излуки обозначены лишь морозно-серебристыми купами прибрежных верб.
На краю крутизны я лихо обсёдлываю корытце, кричу Даше:
– Садись и ты! Держись за меня!
Даша ничуть не пуглива, но тут сомневается:
– Вдруг в речку залетим? Вдруг лед треснет?
Я бью пяткой валенка по снегу, добиваюсь до твердой мерзлоты:
– Во! Землю заковало! А, значит, и речку… Поехали!
Дашины руки опускаются мне на плечи, она садится за моей спиной; и – ш-шых-тых-тых! – со стуком, со свистом по снеговым кочкам, по сугробам корытце несет нас под кручу, прямо в белую с белыми вербами глубину.
Низехонько навислые над берегом вербы осыпают нас легким, как пух, инеем. Мы выносимся на речную гладь. И хотя Даша ахает, лед под нами надежен, прочен. А за корытцем по снегу, по льду пропахана чистая, зеркальная дорожка.
Мы дружно хохочем; мы, черпая голенищами валенок глубокий снег, карабкаемся по сугробам опять вверх. И снова да снова летим с горы. А когда уморились, от снежной пыли да от беготни измокли, то решили глянуть, что делается в речке под нашими дорожками. И не успели уткнуться в прозрачный лед, я тут же воскликнул:
– Рыбка!
– Золотая! – подхватила Даша.
А подо льдом в тихой воде, в такой тихой, что и темно-зеленые водоросли там почти не колышутся, – стоит, никуда не плывет в самом деле золотисто-нарядная, красноперая рыбка. Она там только щечками-жабрами едва приметно дышит, а так – будто задумалась о чем или чего-то упорно ждет.
Недвижности такой я не вытерпливаю, говорю негромко:
– Рыбка, рыбка, шевельни хвостиком…
И она хвостиком чуть-чуть поводит, а Даша изумленно уюйкает, просит рыбку сама:
– Шевельнись, пожалуйста, еще раз…
Но рыбка теперь, как подо льдом над тихими травами стояла, так по-прежнему спокойно и стоит.
Тогда вновь говорю я:
– Шевельнись, шевельнись… Неужели не слышишь?
Рыбка хвостик изгибает, оборачивается ко мне всею мордашкой, таращится на меня чуть выпуклыми, ясными глазами.
Даша хватается за мой рукав:
– Ой! Тебя-то она слушается в самом деле! Она, похоже, совсем как в той книжке про рыбака и рыбку, что мы недавно читали… Похоже, она не только красивая, золотая, а, может быть, и волшебная!
Я хотел было сказать: «Ха! Шутишь?», но Даша так и дергает, так и дергает меня за рукав:
– Пока рыбка не скрылась, давай попроси ее сотворить что-нибудь чудесное… Ну, что-нибудь такое, чего у нас тут не бывало и нет… Придумывай, проси скорей, пока рыбка не умчалась!
А у меня у самого в голове все так и замелькало, завертелось колесом. «О чем, – думаю, – просить-то?» И второпях придумать ничего не могу. В мыслях все те же самые чудеса, что мы вычитали из книжки про рыбака и рыбку.
«Вот, – вспоминаю, – там были сначала пустой берег, землянка-развалюха и треснутое корыто. Похожее на корытце наше с Дашей… Затем была изба, схожая, должно быть, с бабушкиной… А потом вдруг – терем! Терем, хотя и прекрасный, но со злою, драчливою старухой… А вослед за теремом были дворцовые палаты с такою уж грозною стражей, что даже – все при топорах!.. Ну, а под конец – опять землянка, расколотое корыто и пустой берег. Пустым он пустой и в него бьет черным-черная морская буря…»
Я как про пустоту-то эту подумал, так даже вздрогнул. На ноги вскочил, голову запрокинул, смотрю с речки на берег на свой, на высокий, на родной. Смотрю, боюсь: не исчезла ли вдруг ни с того, ни с сего и наша деревенька…
Но вижу: вся она в березах белых, вся в снеговых уборах – стоит! Над нею печные дымки поднимаются, всплывает столбиком голубым дымок и над бабушкиной избою.
И мне, на льду, на снегу уже измоклому, уже давно озяблому, так и кажется, что оттуда по воздуху морозному прямо сюда, на речку, веет домашним теплом и утренним, горячо, вкусно пропеченным хлебом.
И я оборачиваюсь к оконцу в речке, хочу сказать рыбке: «Ладно… Уплывай восвояси. Ничего мне пока что не надо!» А рыбки уже и не видать. В темноватой глубине подо льдом лишь мелькнула в последний раз далекая золотая искорка.
Даша тоже на ноги встает, Даша тоже зябко ежится, но вдруг смеется:
– Эх, ты! Долго думал… Чудо-счастье упустил!
– Ничего не упустил! – озяблыми губами улыбаюсь и я. – Подхватывай корытце, побежали к моей бабушке отогреваться да сушиться. У бабушки сейчас и безо всяких чудес замечательно. Особенно, когда прямо с улицы, с холода заберешься на только что истопленную печку, да и опять там возьмешь в руки книжку со сказками.

БАБУШКИНЫ БЛИНЫ

Говорят, кто блинов не едал, тот и Масленицы не праздновал.
У меня, маленького, праздник такой был, были и блины. Причем, блины чуть ли не волшебные! А становились они такими оттого, что затевала их моя бабушка на лад тоже почти волшебный, да еще и секретный.
Сам я бабушкино блинное чудодейство подглядел случайно.
В ночь на Масленицу спал я на печке, пробудился от странного говора в избе. Свесил я вниз голову и вдруг вижу: сквозь прибелённое морозцем окошко смотрит месяц. Смотрит пристально, как живой. А бабушка почему-то не на кухонном столе, на подоконнике помешивает что-то ложкою в квашонке для теста, подставляет ее под сияние месяца, вполголоса чуть ли не поет:
Месяц, ты мой месяц,
Небесною дорожкой
С высоты высокой
Сойди ко мне в окошко!
Лучиком серебряным
В квашонку окунись;
Сделай, чтобы утром
Блины все удались!
И месяц на самом деле как бы шевелится, так и льет лучи в квашонку к бабушке. Бабушка благодарно кивает ему: «Спасибо, месяц-месяцóк, спасибо! Поздравляю и тебя с праздничком!»
Ну, а я на все на это с печки таращусь, дивлюсь. Бабушка мое шевеление слышит, задергивает окошко занавеской. Затем, встав на печной приступок, она поправляет обеими руками жаркое изголовье подо мной:
– Разве не спишь?
– Может, сплю, а, может, и не сплю… – бормочу недоуменно я. – Ты вот зачем с месяцем разговариваешь? Колдуешь что ли?
Бабушка торопливо усмехается:
– Что ты, что ты! Это тебе приснилось!
– Ничуть не приснилось… Я же слышал, как ты поздравляла его с Масленицей, как просила удачи на утрешние блины…
Но бабушка уходит от объяснений ловко:
– Об утрешних блинах речь утром и пойдет! А теперь еще потемки. Давай досыпай, спи!
И бабушка начинает меня ласково поглаживать ладонью; постепенно я угомоняюсь; на печке мне становится опять сонно, – я задремываю вновь.
Пробудило меня яркое утро в избе, приманчивый запах горячей стряпни. Я откинул одеяло, спрыгнул на пол. Передо мной стол, на нем белая скатерть, на скатерти на тарелке – высоченная стопа блинов.
Бабушка печку уже истопила, от хлопот она вся румяная, распаренная, при том – очень веселая. На ней праздничная в голубых горошинках кофта, она и мне говорит:
– С праздничком, милый засоня, с доброй Масленкой! Давай умывайся, наряжайся да за приятное дело принимайся!
А приятное дело – это садиться за теплые блины.
Умытый, в отглаженной рубашке, я сижу за столом напротив бабушки. Мы обмакиваем блины в густую сметану, дружно уплетаем их. Я жмурюсь от сладости, с полным ртом кое-как выговариваю:
– Ох, бабушка! Этакой вкусноты я раньше и не едал!
В словах моих правда, бабушка радостно кивает:
– Стало быть на блины у меня все ж таки – удача!
И только она про удачу сказала, так я тут ночные чудеса и вспомнил. Из-за стола выскочил, кинулся на кухню, схватил квашонку, в нее уставился, – даже наклонил к свету, к яркому окошку.
Бабушка кричит:
– Что там ищешь? Что?
Я отвечаю:
– Серебряный лучик! Лучик от месяца, с которым ты разговаривала, волшебничала! Который тебе помогал зачинать блины!
– Ну и как? Нашел? – смеется бабушка.
– Нет, не нашел… Теперь там только чистое донышко да отсвечивает из окошка, золотится солнышко.
– Вот и славно! Побежал по серебро – прибежал к золоту! – улыбчиво, лукаво по-прежнему путает меня бабушка.
И манит рукой еще ближе к окошку:
– Полно тебе ворошить ночные сны, хватит разгадывать бабушкины секреты… Лучше на улицу глянь! Смотри, широкая-то Масленица по всей по деревне покатилась! С молодым народом, с гармонью, с плясом и с твоими дружками-ребятишками… Да все торопятся на горку, все – на горку! Беги и ты не отставай. А потом зови самолучших приятелей к нам на угощение.
И тут я – на плечи пальтецо, на голову шапку! – в сенях подхватываю саночки, лечу, грохочу с крыльца на улицу.
Я мчусь по снеговой, ослепительной, тоже ярко вызолоченной мартовским солнцем дороге. В конце улицы галдят мальчишки, визжат девчонки, хохочут девушки и парни, напевно заливается, вспыхивает алыми мехами гармонь. Там идет катанье с такой крутой у нас горы, что лишь у самых смелых не замирает дух.
Вот туда, в эту общую радость я и бегу, спешу. Бегу не только, чтобы лихо, с ветерком пронестись под гору на санках, но и похвалиться дружкам, какие у моей бабушки нынче блины.
Блины поджаристые, блины – чистое объеденье! А самое главное, – затеянные на лад совсем, совсем почти волшебный. Ведь пускай мне бабушка о ночном своем чудодействе так и не призналась, но я-то все равно это видел собственными глазами!