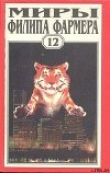Текст книги "Апофеоз беспочвенности"
Автор книги: Лев Шестов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
III
От общих замечаний перейдем к идеям г. Мережковского. Он считает, что только тот человек заслуживает внимания и уважения, который сознательно и прямолинейно стремится создать религию. В этом коренится и его уважение к Наполеону: «Да, – пишет он, – в эгоизме Наполеона, безумном или животном с точки зрения нравственности „позитивной“, не желающей быть и не смеющей не быть „христианской“, скрывается, с иной точки зрения, нечто высшее, потустороннее, первозданное, премирное, религиозное: „Я создавал религии“. – Как будто не себя он любит в себе, а ему самому еще неоткрывшееся, неведомое».[83]83
Ib. с. 41.
[Закрыть] Правда, г. Мережковский недолго верит Наполеону и со свойственным ему чарующим непостоянством через 35 страниц, приводя снова слова Наполеона: «Я создавал религию», уже не придает им большого значения. «Ну конечно, – говорит он, – никакой религии Наполеон не создавал, а если и создавал, то не создал и не мог создать».[84]84
Ib. с. 77.
[Закрыть] Тут и форшлаг «ну, конечно» годится, тут и трель и даже самое продолжительное фермато было бы кстати. А уместнее всего была бы ссылка на 41 страницу, где утверждается противное. Таким образом, как я уже заметил, г. Мережковский достиг бы высшей цели, какая только возможно в настоящее время в литературе – провозглашения свободы человеческого суждения от всего навязанного извне.
Вторым великим качеством Наполеона г. Мережковский считает его убеждение, что власть его, хотя она и добыта им силой, собственно, все-таки дана ему Богом. И он с восторгом десятки раз повторяет сказанную Наполеоном фразу: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca».[85]85
Бог мне ее дает, и горе тому, кто ее тронет (ит.).
[Закрыть]
Но если пошло на убеждения, то я позволю себе высказать убеждения прямо противоположные. Я считаю, что никто из людей не вправе создавать религию и что тут нечего создавать. Ибо одно из двух: либо Бог есть – и тогда религия дана нам Библией; либо Бога нет – тогда нам с Мережковским лучше всего замолчать. Что же касается Наполеонов, то в обоих случаях их деятельность – только возвышенное комедианство и кривлянье, которое с таким неподражаемым искусством изображено в «Войне и мире» гр. Толстым – одним из тех русских людей, который – что бы про него не говорили – все-таки больше всех других сделал для разрушения престижа господствующих ныне научно-позитивных идей. А к этому и только к этому и сводится в настоящее время истинное дело тех, кто хочет оберечь религию от всепобеждающей обыденности. Обыденность тем и страшна, что она умеет все эксплуатировать в свою пользу и не раз уже обесценивала высшие религиозные истины, заставляя их служить своим целям. И далее, на мой взгляд, утверждения вроде тех, которые скрываются в итальянской фразе Наполеона, не только не свидетельствуют об особой близости человека к Богу и о серьезных религиозных исканиях, но наоборот, указывают на совершенный религиозный индифферентизм. Ибо вообразить себе, что первенство на земле, хотя добытое и собственными силами, а не по праву рождения, есть признак первенства также и перед Богом – значит забыть величайшее слово Евангелия о том, что первые здесь будут последними там… Когда Толстой писал о Наполеоне, он исходил из этой великой мысли (о которой, к слову сказать, г. Мережковский ни разу в своей книге не вспомнил) – и опровергать его цитатами из Тэна не приходится. Чтоб окончательно противопоставить свое убеждение убеждениям г. Мережковского, я скажу: страницы «Войны и мира», посвященные Наполеону – суть слава и гордость русской литературы.
Пусть, однако, читатель не думает, что я имею целью защищать писательскую репутацию гр. Толстого. Нет, к счастью, в этом надобности не представляется. Здесь речь идет о г. Мережковском и о его «религии» – и только об этом. Я хочу установить тот факт, что г. Мережковский под видом религии предложил нам пользующийся ныне в Европе таким исключительным успехом обыкновенный морализирующий идеализм. Почти каждая страница его книги служит тому доказательством.
«Если, – пишет он, – Наполеон погиб, то не потому, что слишком, а потому, что все-таки недостаточно любил себя, любил себя не до конца, не до Бога (везде курсив автора), не вынес этой любви, ослабел, потерял равновесие и, хотя бы на одно мгновение, сам себе показался безумным, смешным: «От великого до смешного только один шаг». «От этого маленького сомнения, а не от веры в себя он погиб». Не стану оспаривать этого, но полагаю, что дозволительно спросить: откуда это известно г. Мережковскому, как мог он проникнуть в такие глубокие тайны человеческих судеб? Нужно заметить, что в приведенных словах заключается не мимолетная, случайно забредшая в голову автора мысль и не простое предположение, а одна из основных его идей, которую он с несвойственным ему постоянством и с обычным пафосом проводит через всю книгу. К сожалению, г. Мережковский сам не нашел нужным дать ответ на этот вопрос, а так как ответом решается судьба книги, то волей-неволей приходится пуститься в догадки. И я полагаю, что этот догмат о спасительности бесконечной любви к себе, как и весь радикальный идеализм, внушен г. Мережковскому Фридрихом Ницше. Если бы кто стал мне возражать, я берусь соответствующими цитатами из сочинения этого последнего доказать справедливость своего предположения. Между идеями г. Мережковского и мыслями Ницше есть, правда, трудноуловимое, но очень существенное различие – на первый раз даже представляющееся различием только в форме изложения. Ницше удалось счастливо избегнуть слишком резкой отчетливости и определенности в выражении своих мыслей. Он умел – и в этом его главная заслуга – не переступать ту тонкую чуть видную черту, которая отделяет действительные переживания человека от выдуманных им идей. Он – замечательный представитель той почти божественной беспочвенности, о которой мечтали древние греки: иногда ему удавалось ходить, не касаясь ногами земли. У него нигде нет той тяжеловесной принципиальности и того неповоротливого догматизма, которые г. Мережковский, вслед за другими моралистами, хочет во что бы то ни стало внести в свое мировоззрение. Исключением является только VIII том, написанный после того, как Брандес уже успел представить его европейской публике, и когда Ницше, увидев, что на него глядит чуть ли не весь цивилизованный мир, перестал думать для себя и стал поучать людей. Вероятно, именно по этой причине г. Мережковский, часто вспоминающий и цитирующий Ницше, всегда обращается к самым последним его сочинениям – к «Антихристу» и «Сумеркам идолов». Раз нужны догматы, все остальное, написанное Ницше, представляет мало интереса. А г. Мережковскому на этот раз нужны догматы и только догматы. Он во что бы то ни стало хочет доказать, что моралисты правы, что могут быть у людей прочные убеждения, что земля на трех китах стоит и что каждый желающий может этих китов увидеть собственными глазами. Вот два новых образца рассуждений г. Мережковского: «Раскольников нарушил заповедь Христову тем, что любил других меньше, чем себя; Соня – тем, что любила себя меньше, чем других, а ведь Христос заповедал любить других не меньше и не больше, а как себя (курсив, разумеется, опять авторский, да и как не подчеркнуть такие слова!). Оба они «вместе прокляты», вместе погибнут, потому что не умели соединять любовь к себе с любовью к Богу».[86]86
Ibid. с. 138.
[Закрыть] Оставляю на совести г. Мережковского истолкование слов Христа – в уверенности, что он недолго будет на нем настаивать. Но каков принцип?! Нужно уметь соединять с любовью к другим любовь к себе! Сколько моралистов позавидуют твердости и определенности убеждений г. Мережковского. Другой пример: – «О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой», – говорит Ставрогину Шатов. И это, выясняет г. Мережковский, верно только отчасти. В своих бессознательных поисках последнего соединения Ставрогин иногда действительно «летит вниз головой». Но в своем религиозном сознании он именно только бродит, блуждает, блудит «с краю». Если бы он бросился вниз головой, то спасся бы, почувствовал, что у него уже есть крылья – и перелетел бы через бездну». (Курсива у г. Мережковского нет, но, на мой взгляд, последняя фраза вполне его заслуживает). Опять вечный принцип: бросайся вниз головой, – вырастут крылья! Ницше говорит, что в тех случаях, когда при нем высказывают новую и смелую мысль, он никогда не обсуждает ее, а всегда предлагает ее автору попытаться осуществить ее. Подождем и мы: когда личный опыт г. Мережковского подтвердит его идею, быть может, мы станем доверчивей относиться к морали.
Из всего этого, между прочим, следует, что г. Мережковский, – хотя он и стоит далеко от русских литературных кругов и говорит за свой страх, – по-видимому, всецело разделяет давно укоренившееся у нас убеждение, что писатель должен говорить не то, что он думает, а то, что в данное время полезно и нужно публике. Не знаю, может быть, он и прав. Но если это и так, если и в самом деле писатель должен всю свою жизнь обманывать читателя и подслащать литературной ложью (или идеалами) горестное существование интеллигентного человека, то ведь это следует делать с большой осторожностью – так, чтобы люди не заметили, что их обходят. И успеть в этом трудном деле можно только в том случае, если писатель, обманывая других, ни на минуту не забывает, что он говорит неправду и неправдой этой мучается. Таким образом, благодаря постоянно живущему в нем тягостному и неестественному раздвоению, его речь приобретает тот особенный характер взволнованности и мятежной напряженности, который всегда свойствен проповедникам, и в котором неопытная, вечно наивная и вечно жаждущая сильных впечатлений толпа обыкновенно видит признак сошедшей на человека небесной благодати. «Как дрожит у него голос, как сверкает его взгляд, как бледнеет и меняется его лицо! Все существо его – один трепет! О, тут не может быть сомнения – его устами говорит божество» – непосвященные всегда так рассуждают… Но если человек станет необыкновенные вещи говорить обыкновенным тоном, и если, чтоб не слишком тратиться, он прежде чем выступать пред людьми, постарается сам убедиться в своих истинах, примириться с собой, устранить внутреннее раздвоение, то это кончится тем, что он будет единственным верующим последователем своих идей. Поэтому я опять высказываю сожаление, что г. Мережковский хотя бы на минутку, на ту минуту, когда нужно написать о Наполеоне, Раскольникове или Ставрогине, верит в истинность того, что он говорит. Выходит уже слишком просто и обыкновенно. Чтоб убеждать человека в пригодности различных метафизических идей, нужно либо сразу оглушить его отчаянным криком, как это делал Достоевский, которого многие (даже Вл. Соловьев) серьезно принимали за настоящего пророка Божия – либо, если голоса не хватает, говорить меньше, чем знаешь, но с таким видом, как будто бы мог сказать еще многое: так советовал опытный в этих делах старик Вольтер.
Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях, прямо высказывать все, что ты думаешь. Но в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду – то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во что бы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
IV
В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать, что Достоевский называл себя реалистом – и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добивающийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением – даже в устах тех лиц, которые, в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренне мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения – они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г. Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом – действует bona fide,[87]87
Честные намерения (лат.).
[Закрыть] т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишний раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.
Г. Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи – «добро – есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г. Мережковский как человек достаточно образованный превосходно знает, что onus probandi[88]88
Бремя доказательств (лат.).
[Закрыть] – лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но вместе с тем г. Мережковский достаточно искушен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода onus, и так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить – не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова – ударить врага… Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобресть общеобязательные суждения – хотя бы по способу Григория. «Вот славная пощечина!» – восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» – к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, г. Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой – г. Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций г. Мережковского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что собственно он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом» и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, г. Мережковский пишет: «Это-то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон – отец нашей „лжи“, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлосmu (курсив мой) – самый «маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся», и в то же время самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и однако еще никем не узнанный (!), невидимый бес».[89]89
Ib. с. 351.
[Закрыть] Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «В идеале великого инквизитора», в «тысячемиллионном стаде счастливых младенцев», поросят эпикуровых, учеников, Карла Маркса, у которых пар вместо души – бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противопоставленном царству Божьему, в страшной, социал-демократической Вавилонской башне, «хрустальном дворце» всемирной сытости – не сказывается ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана – любовь к «спокойному довольству» во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? – Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего «серединного царства» с его «бесчувственной космополитической мразью», сущность нашего современного, позитивного и буржуазного Черта, бессмертного Чичикова, купца «Мертвых душ» и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова».[90]90
Ib. с. 391.
[Закрыть] Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне, должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период à la Ницше… А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности, впечатление не совсем правильное. Г. Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.
Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что г. Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла – остались только надпись да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и, фальшивой монете.
V
Лучшие страницы второго тома – это те, которые посвящены Достоевскому. Достоевского г. Мережковский слушает и внимательно слушает, редко стесняет его свободу и только иногда исправляет и дополняет. Без исправлений и дополнений моралисты, как известно, обойтись не могут: они стремятся к «совершенству» и знают – одни во всем мире – что такое истинное совершенство. Уже в первом томе, где г. Мережковский, держась метода Ницше, умел счастливо избегнуть ницшеанских идей, он иногда, в интересах синтеза, то вытягивал, то укорачивал разбираемых им писателей. Тем более во втором, где вся почти задача сводится к синтезу. Так, на стр. 397 он пишет: «Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный сатана, и что в нем постигнута последняя сущность ноуменального „зла“, насколько видимо оно с нашей планеты категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески смутно – сознавал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, а таков, как теперь, он почти наш…» (курсив мой). И еще на стр. 445: «Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кирилове и Ницше, так же, как, может быть, отчасти и в самом Достоевском и, наверное, во Льве Толстом, все еще господствует «дух времени», страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами («две нити вместе свиты»), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух, смешивающий и смеющийся, дух русского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова». Не мог удержаться г. Мережковский – даже Достоевского принялся стыдить! И как только не пришло ему в голову то простое соображение, что лучше «не понимать» и быть вместе с Достоевским, Толстым и Ницше, чем «понимать» и остаться в стороне от них. И что, с другой стороны, если Смердяков и Лаврушка попали в такую почетную компанию, как Толстой, Достоевский и Ницше, то тем самым они настолько возвысились, что, пожалуй, теперь и не стыдно быть на них похожими – в конце концов, не только не стыдно, но даже лестно.
Жаль, страшно жаль, что г. Мережковский уступил традициям и погнался за объединяющими идеями! Я не говорю уже о первом томе, но даже во втором встречаются превосходные страницы о Достоевском. Считаю своей приятной обязанностью сделать здесь из его книги большую выписку о Раскольникове, как потому, что мне хочется воздать должное г. Мережковскому, так и потому, что это даст возможность читателю оценить все преимущества ницшевского психологического, описательного метода пред навязчивым и беспощадным общенемецким морализированием… «Раскольников испытал подобное тому, что должен был бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры; оставаясь неподвижным, он как будто вечно скользит, вечно падает в бездну. После „преступления“ Раскольников испытывает вовсе не тяжесть, а именно эту неимоверную легкость в сердце своем – эту страшную пустоту, опустошенность, отрешенность от всего существующего – последнее одиночество: «Точно из-за тысячи верст я смотрю на вас», – говорит он своей сестре и матери. Он еще среди людей, но как будто уже не человек; еще в мире, но как будто уже вне мира. Ему легко и свободно. Ему слишком легко, слишком свободно. Страшная свобода. Создан ли человек для такой свободы? Может ли он ее вынести, без крыльев, без религии? Раскольников не вынес. И как могли, как могли подумать, как до сих пор еще думают все, что он оправдывает себя, потому что боится вины своей, боится «угрызений совести». Да он их только и жаждет, только и ищет сознания вины своей, раскаяния, как своего единственного спасения».[91]91
С. 128.
[Закрыть] Вот как надо писать, вот как надо думать, искать, смотреть! Вот где виден истинный и достойный ученик Ницше! И ведь обошлось без синтеза. Разумеется, читатель, который ищет метафизических, нравственных и иных утешений, взвоет, может быть, даже взревет от негодования, прочитав эти строки – и отвернется от писателя, который столь бесстрашно говорит правду о жизни; но нужно уметь выдержать негодование и даже презрение толпы, нужно уметь, сохранив все возможное спокойствие, ответить воющим, ревущим и негодующим читателям: за метафизическими, нравственными и иными утешениями извольте обратиться к немцам, к толстым, многотомным немцам. У них этого добра – хоть отбавляй, особенно у Канта, специально занимавшегося изготовлением таких вещей, как «постулаты» свободы воли, бессмертия души – и даже Бога! К сожалению, г. Мережковский вместо того, чтобы отсылать к Канту ищущих идеалов читателей, сам идет к нему на поклонение. Я знаю, что г. Мережковский никогда не уделял слишком много внимания вопросам теоретической философии, и я не стану, конечно, требовать от него обширной философской эрудиции и основательного знакомства с деталями кантовской системы. Если бы даже он допустил какую-нибудь ошибку, я бы не поставил ему этого в упрек. Но он оберегся от ошибки – зато сделал худшее. Он повторил общее место о заслугах Канта и сознательно присоединил свой голос к огромному хору хвалителей и почитателей кенигсбергского философа.
Повторяю: он знал, что он делает; он не мог не знать, что, становясь на сторону Канта, он зажимает рот Раскольниковым, Карамазовым, Достоевским, Толстым, Ницше и прерогативу свободного слова делает исключительным достоянием немецких идеалистов. Вот его подлинные слова, в значительной степени являющиеся итогом всей книги: «Одно из двух: надо или опровергнуть Канта, или принять его и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и пространстве; Бог – вне явлений, вне пространства и времен; а следовательно и вопрос о бытии или небытии Божием находится вне области, доступной исследованию разума. „Бог необходим“ – это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, не опровергаемая и не доказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает, он только говорит: „Я не знаю, есть ли Бог или нет его“.[92]92
С. 440.
[Закрыть] Г. Мережковский так рассуждает не потому, что он лично проверил, насколько Кант и его критицизм действительно неопровержимы: ему, вероятно, некогда было заниматься этим. Вероятно, он никогда даже и не поинтересовался допросить как следует знаменитого философа, для какой, собственно, надобности потребовалось ему принизить права человеческого «разума». Г-ну Мережковскому в настоящую минуту нужно было лишить права голоса Ницше (см. 441 страницу), и он наскоро заключил союз с Кантом, позабывши, что Кант есть, был и будет основателем того идеализма, к которому обратились столь презираемые им бывшие марксисты. Кант не только не может поддержать человека, ищущего Бога, но своими «постулатами» он в зародыше убивает всякую надежду на возможность найти Бога. «Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия» – это прежде и после всего значит, что нам до Бога нет и не должно быть никакого дела – а раз так, то никакие мистические посылки уже не спасут ничего. Мы можем доказать незыблемость научных принципов, мы можем обосновать вечную мораль – ограничимся этим, а с Богом – как будет, так и будет; это дело чистого случая или, как говорит Кант, веры. Не нужно однако смешивать кантовской веры с религией: они ничего общего между собой не имеют. Позитивизм ведь тоже не отрицает веры, даже веры в Бога! В конце одной из глав своей логики Милль, несомненный позитивист, поместил небольшое примечание, приблизительно строк в двадцать, в котором он со свойственною ему ясностью и убедительностью (beleidigende Klarheit[93]93
Дерзкая ясность (нем.).
[Закрыть] – говорил Ницше) высказывает ту мысль, что позитивизм не исключает веры в Бога. Мне жаль, что у меня нет под рукой его книги, и я не могу привести этого места, никогда, насколько мне известно, еще не оцененного по достоинству. Но за смысл я ручаюсь. Здесь, впрочем, форма – дело второе: главное, что Бог, о котором в тексте книги никогда не упоминается, попал в примечание. Это характерно и многозначительно: г. Мережковский, наверное, со мной согласится. Но еще интереснее, что ведь Кант сделал то же, что и Милль. Его постулат Бога – есть тоже Бог «в примечании». Все нужно доказывать (напр., закон причинности, нравственный закон), в Бога же можно верить, ибо в конце концов не так и важно – существует ли Он на самом деле или не существует: главное, чтоб Его не оспаривали. В этом смысл и значение критицизма, как и миллевского позитивизма. Нужно было сосредоточить все внимание и весь интерес на мире явлений (и не всех, а только некоторых явлений, не возмущающих душевного спокойствия человека), нужно было придать прочность научным положениям и моральным принципам, которым стал угрожать английский скептицизм – и Кант прибегнул к гениальнейшей из возможных уловок. Увидев, что борьба невозможна, что выдержать напор нового течения – безнадежная затея, Кант решил пригнуться, в расчете, что вихрь пронесется над ним, не задев его. И расчет его оказался математически верным.
Кант спасся от скептицизма! – Стоило на мгновение проснуться от «догматической дремоты», чтобы потом иметь право спокойно, в сознании полной безопасности, уснуть на всю жизнь! Наука и мораль обеспечены в мире явлений, соприкасающихся с философами, беспорядка не будет – ну, а дальше? Дальше – кому охота заглядывать так далеко! И по настоящий день, как только Раскольниковы, Толстые, Достоевские и Ницше начинают бить тревогу – им в ответ тотчас раздается стройный хор вышколенных голосов: назад к Канту, Кант защитит, Кант уймет бунтовщиков! И если бы Кант прочел приведенные мною выше рассуждения г. Мережковского о Раскольникове или иные места из первого тома «Толстого и Достоевского», он, разумеется, счел бы себя обязанным погрозить пальцем и напомнить о мире явлений, синтетических суждениях a priori, антиномиях, категорическом императиве, Ding an Sich[94]94
Вещь в себе (нем.).
[Закрыть] и т. д. Но г. Мережковский и сам спохватился. Ему понадобились положительные выводы, идеалы, логика, мораль, мировоззрение – а в таких делах без гениального Канта, разумеется, обойтись нелегко.