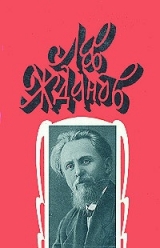
Текст книги "Порча"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Лица не видно было толпе. Прятал его князь.
Но от всей сгорбленной фигуры, от шубы с длинными откидными рукавами, теперь кое-как наброшенной на плечи старику, измятой, запачканной в борьбе, от этих рук, висящих, словно плети, вдоль тела, веяло безнадежным отчаянием и грустью.
Даже у тупой, жестокосердой толпы что-то зашевелилось в груди при виде этого опозоренного, раздавленного человека.
И с негромким клекотом, с невнятными переговорами стали расходиться все по своим делам.
Со скрипом захлопнулись снова дворцовые ворота.
А княгиня Елена в это время, уложив перепуганного Ивана-княжича в постельку, сидела около нее, стараясь убаюкать первенца.
Тихо мурлычет она любимую колыбельную песенку мальчика… песенку далекой родины Литвы…
Грустно звучит монотонный, усыпляющий напев. И тяжелая дума давит мозг княгине.
"Что я сделала? Согласие дала заточить родного дядю… Своего благодетеля… Говорят: для царства так надо, предатель он… А если неправда? Тогда нет мне прощения ни на этом, ни на том свете? Господи Боже! Научи, помоги, просвети, как быть?!"
Увидав, что княжич задремал, она знаком подозвала Челяднину, чтобы та заняла ее место, а сама быстро прошла на половину к старухе, Анне Глинской.
Та словно поджидала дочку. Ничего не сказала, ничего не спросила, только шепнула по-литовски, как это бывало, когда они оставались наедине:
– Может, помолиться хочешь?
Елена кивнула головой и одна прошла дальше, в самую заднюю комнатку, в опочивальню старухи, куда и не входил никто, кроме дочери и итальянца-врача, постоянно лечившего княгиню Анну.
Здесь на стене, обычно прикрытое шелковой занавесью, белело распятие слоновой кости с изображением Спасителя и был устроен род маленького католического жертвенника.
Распластавшись перед крестом, горячо стала молиться великая княгиня московская Елена, чтобы Господь ее просветил: грех сотворила она, предав родного дядю в руки недругов, или подвиг это, необходимый для блага земли, для спасения престола ее сыну, горячо любимому Ивану, государю московскому, повелителю всей Русской земли?..
Глава II
ПОЛЕ ОЧИЩАЕТСЯ
Быстро мчится время. События набегают одно за другим.
И полугода не выжил в заточении князь Андрей Старицкий. Здоровый, сильный на вид, он носил в сердце задатки тяжелого недуга. Скорбь, лишение свободы, тоска душевная и старания враждебных удельному московских тюремщиков быстро сделали свое дело.
В ноябре того же 1535 года князя не стало.
В предсмертном бреду он срывал с себя всю одежду и все повторял хриплым, рвущимся голосом:
– Душно… на волю… На волю…
С этим воплем он и освободился от неволи – вместе с жизнью.
Без воплей и стонов, но тоже страшно страдая, угас вскоре после Андрея и князь Глинский.
Кроме Глинского, не стало в Москве еще многих иных недругов князя Овчины: одни – умерли, другие – были убраны с дороги разными способами. Третьи, спасаясь от удара ножом, от отравы на веселом пиру, бежали на Литву или даже к татарам, как князь Семен Федорович Вельский.
Правда, последний и там крамольничал против Москвы, науськивая Орду против нее, добивался для себя восстановления удела не только в прежних владениях князей Вельских, но и всю Рязанскую вотчину считал своею, так как родная мать князя, племянница Иоанна III, была владетельной рязанской княжной…
Но дальние враги мало тревожили Овчину.
А с ближними соперниками, с прежними недругами своими личными и родовыми, как, например, с Шуйскими, с Палецкими, с Суздальскими, – князь Телепнев умел поладить, уделив им часть неограниченной власти, предоставленной воеводе княгиней-правительницей.
Растет понемногу ребенок, великий князь. Но и он смотрит только из рук любимого своего Ванюшки-Овчинушки, который балует юного государя, как может, но в то же время держит в полном послушании.
Когда минуло пять лет мальчику и, по обычаю, настала пора приставить к нему дядьку, женский уход заменить мужским, в пестуны Ивану были выбраны и поставлены Овчиной или его же близкие родичи, или люди, преданные ему и вполне зависящие от наперсника великой княгини, от воспитателя и любимца будущего повелителя Московского великого княжества и всех иных земель.
А в эту пору явилась надежда поприбавить крупные куски к прежним русским коренным владениям.
Война с Литвой шла с переменным счастьем. Но все-таки чаша весов как будто бы клонилась в сторону войск великокняжеских, хотя у круля Жигимонта были и наемные западные рейтары, и пищальники, и довольно сильная артиллерия, осадная и полевая.
В Крыму, у царя Саине-Гирея, завязалась распря с новым охотником занять престол, с близким родичем царским, Ислам-Гиреем.
В Казани тоже закипела междоусобица.
Преданный Москве, закупленный ею царь Джан-Али, или Еналей, как выговаривали русские, был убит сторонниками крымских владык. Один из крымских царевичей, Сафа-Гирей, был призван на царство и уже успел войти в Казань, но московские сторонники не поддались. Они
посоветовали Елене и боярам выпустить из заключения царевича казанского Ших-Алея, имевшего все права на корону.
Послушала Москва умного совета. Были посланы гонцы на Белоозеро, где сидел под охраной Ших-Алей.
В марте 1537 года большой прием назначен у великого князя, княгини-правительницы в самый канун Благовещенья; прием крымских послов, литовских посланцев и, наконец, самого Ших-Алея, будущего царя казанского.
Только утро рассвело, а уже вся почти дума великокняжеская, бояре, воеводы, боярские дети и приказные, дьяки, толмачи и посольские пристава собрались в Грановитой палате и в обширных сенях, примыкающих к ней с двух концов.
В обширной горнице, поближе к задней стене, поставлено два трона: для правительницы и для великого князя-ребенка.
Прямо, как изваяние, сидит Елена в парчовом блестящем одеянии, вся залитая драгоценными камнями. Кика ее просто унизана жемчугом и самоцветами. Сверкающие камни прикреплены на тонких пружинных ножках, и такие "переперы" колышутся, играют разными огнями над головным убором княгини. За креслом Елены стоят ближние боярыни, укрывая прозрачной фатой свои набеленные и резко нарумяненные лица. Брови у всех густо подведены, ресницы подкрашены, как велит обычай. Дорогие кики украшены каменьями. Кокошники на девушках тоже сверкают драгоценностями, а жемчужные сетки-поднизи ниспадают до самых бровей.
Сквозь легкие складки полупрозрачных покрывал, сквозь фату каждое такое женское лицо кажется не живым, а грубо намалеванным, словно у какой-нибудь куклы.
От этих застывших фигур женской свиты, стоящих как раскрашенные ряды буддийских изваяний, резко отличается мужская половина присутствующей здесь свиты.
У большинства из них темные, загорелые лица, прически примасленные, но бороды – не совсем приглаженные, как будто слегка взъерошенные у иных. Смирно сидят все бояре, дьяки, стоят, не шевельнутся пристава посольские, стража и другие, кто допущен в палату. Но, очевидно, напряжены они очень сильно, а не застыли бесстрастно, как женщины.
Великий князь, усевшись на широком сиденье прадедовского трона, так и потонул в нем.
Висят на воздухе крошечные ножки, обутые в сафьяновые, тисненные разными узорами сапожки на медных подковках. Поверх голубой шелковой косоворотки, застегнутой жемчугами и лалами вместо пуговок, надет богатый терлик, весь расшитый шелками, унизанный по борту самоцветами да шнурами золотыми с кистями украшенный.
Невысокая, опушенная соболем шапочка тоже ушита крупным жемчугом. А сбоку – дрожит и переливается бриллиантовыми искорками султанчик из тонких, упругих перьев райской птицы. Вместо пряжки прикреплен султан внизу редкой величины пурпурно-красным рубином, который особенно выделяется на темном собольем меху.
Два князя-воеводы с оружием в руках стоят по бокам малолетнего государя, оберегая его особу. А по бокам "стольного места" оба трона окружены стражей из молодых рынд, одетых в белоснежные парчовые кафтаны, с серебряными топориками на плечах, с высокими белыми шапками на голове.
По знаку Овчины – первым ввели родного пана, полоцкого воеводу Яна Глебовича, за которым следовала целая посольская свита, все стройные, загорелые литвины-паны, в блестящих кунтушах, с кривыми саблями на боку.
– Великий князь московский Иван Васильевич, государь всей Руси Великой, и Малой, и Белой, и иных, сын наш, шлет привет брату Жигимонту и велит слышать: чего от нас ждет круль Жигимонт? – обратилась к Клигговскому Елена.
– Да живет на многие лета великий князь московский Иван Васильевич с его вельможной яснейшей родительницей, великой княгиней и государыней Еленой Васильевной! – отдав поклон, заговорил Глебович. – Круль и повелитель мой, Жигимонт, на Литве и Жмуди и иных земель властитель, желая остановить пролитие крови христианской если не миром, то долголетним перемирием, – шлет великому князю Ивану Васильевичу и матери его, княгине Елене Васильевне, сию грамоту за своим великомочным рукоприкладством и волит: да встанет замиренье от завтра, марта месяца 25 дня, року 1537 и впредь на пять годов, до того же дня, року 1542-го. А на чем твои думные бояре и посольские люди с нами пристали, – тому запись дана! Свою державную руку к той записи да волят приложить державный государь и ты, великая княгиня.
– Волим. Да будет так! – произнесла княгиня.
– Мы волим. Да будет так! – повторил малютка государь и протянул крошечную ручонку, прикасаясь к мирной записи, которую, вынув из шелкового чехла, ему поднес дьяк Путята Меньшой.
– Да живет великий князь Иван Васильевич! – воскликнул Клиповский. – Да живет круль Жигимонт на многие лета.
Общий клич повторил пожелания Глебовича. Отдав еще раз поклон, он занял – место неподалеку от трона, слева от великого князя.
Ввели крымского посла Темешь-бея.
Татарин, посланный Ислам-Гиреем, не отличался знатностью рода и богатством. Московские бояре даже раздобыли у восточных царевичей, живущих в Кремле, наряд побогаче и дорогое оружие, чтобы посол в более пышном виде предстал перед князем и княгиней московскими, на глазах у всей думы, у послов иных государств, которые тоже явились на прием – поглядеть и послушать, что будет здесь происходить.
С этим послом церемония не затянулась.
После обычного челобитья Темешь объявил:
– Государь и повелитель мой Ислам-Гирей, царь Крымский и всех племен ногайских, шлет братский привет великому князю московскому. И сказать повелел: если волит Москва с Крымом в мире жить, пусть бы великий князь, как и покойный государь, его отец, делывал, добрые поминки послал бы. Не слал бы ворогу Ислама и недругу московскому Саину. Все бы Исламу слал. Тогда на многие годы пришлет царь Ислам шертную (мирную) грамоту Москве.
– Волим! Так и будет! – прислушиваясь к подсказу Елены, произнес Иван Васильевич.
Входя в роль, ребенок совсем серьезно исполнял все, что требуется от повелителя. Вот подал он знак. Поднесли стопу меду. Приняв ее, Иван протянул кубок Темешу и сказал:
– Откушай, посол, за наше здравие и для крепости, чтобы долго миру стоять между Москвой и Крымом. Пей и ешь в доме моем, Темешь-бей. Буду видеть, что другом пришел к нам, а не недругом. Так ваш закон гласит.
– Правда… правда! – качая головой, сказал Темешь, когда ему толмач передал слова ребенка. – Так у нас: к другу пришел – пить, есть надо…
Приняв чарку, татарин сделал "селям" и возгласил:
– За здравие московского государя и моего царя, милостью Аллаха!
Затем медленно, до дна осушил чарку.
– Стопку не вертай, себе бери, посол! – снова звонким голоском заговорил Иван. – На память о нас да о часе об этом.
– И на том – челом бью! – снимая колпак и становясь на колени, возгласил польщенный крымчак.
Своей бритой головой, на которой только темнела расшитая шелками тюбетейка, он коснулся ковра, покрывающего ступени тронного места.
Затем встал, отдал, поклон Елене, всей думе великокняжеской и отошел на указанное ему место.
За входными дверьми послышались голоса, движение.
Это приближался вызванный с Белоозера пленный царь казанский Ших-Алей, которого Москва снова думала возвести на престол в Казани, чтобы вытеснить ненавистного ей Сафа-Гирея.
Иван, предупрежденный заранее, сошел с трона, встретил Ших-Алея у дверей, довел до тронного места и, указав на кресло, стоящее рядом со своим, снова взобрался на чересчур высокое для него сиденье отцовского трона.
Прежде чем занять указанное ему место, Ших-Алей осторожно стал склоняться на колени, чтобы отдать земной поклон Ивану и княгине Елене. Непривычно, тяжело самовластному хану проделывать унизительный обряд, да ничего не поможет: сила и солому ломит.
С помощью своих двух провожатых только мог он подняться после земного поклона, отер вспотевшее лицо и, заняв указанное ему место, стал оглядываться понемногу.
Жарко в большой, хотя и невысокой палате. В касимоских и казанских дворцах нет таких больших покоев.
Медные чеканные люстры свесились с потолка. В них вставлены восковые разноцветные свечи, сверкающие сотнями огоньков, когда их зажгут.
Лампады и сейчас звездочками теплятся в переднем углу покоя, перед божницей, уставленной старинными иконами в драгоценных, златокованых, низанных жемчугами, украшенных самоцветами киотах.
"Богата Москва! – думается татарину. – Вон на своих богов сколько добра понавесили они! Сильна Москва! Я – хан, потомок царей Золотой Орды, вынужден перед молокососом-мальчишкой да перед нечистой гяурской бабой челом бить!.. Плохие времена пришли".
Думает так, а сам раскрывает свои толстые, слегка отвислые губы и начинает говорить заранее натверженное приветствие.
– Государыня великая княгиня! И ты, великий князь и государь Иван Васильевич московских и иных земель! Челом вам бью. Жаловал меня покойный государь Василий, великий князь. А я веры не сдержал, изменил его милости…
Говорит царевич-татарин. Толмач повторяет по-русски слова его. Пристав Посольского приказа, пристроясь с писцовой книгой на коленях, быстро вписывает в нее речь Шах-Алея.
Бесстрастным, тягучим голосом продолжает татарин:
– И покарал меня Аллах. С царства казанского ссадили меня мои люди. А великий князь Василий, прознав про измену про мою, – в заточение послал. И вы, государи мои, гнев на милость сменили, слугу своего простить позволили. На том я челом вторично бью и верным быть по гроб обещаю. Аллах меня слышит!
– Господь пусть слышит! – подтвердили княгиня и княжич.
Два советника Ших-Алеевых, стоящих поодаль, подали ему свиток Корана в парчовом футляре.
Положив руку на свиток, татарин произнес присягу на верность.
– Присягнул татарин, авось не соврет! – шепчет негромко Михаил Юрьевич Захарьин князю Суздальскому.
– А и соврет – корысти ему не будет! Стальными рублевиками разочтемся! – кладя руку на рукоять сабли, отвечает воевода.
Глядит и ребенок-государь на Ших-Алея да думает: "Какой же он царь?! Совсем баба! Толстый, пухлый. Губы распустил. Большой какой. А почитай и бороды не видать. И усы мочалкой. Я, когда вырасту, – борода у меня будет курчавая, как у Овчинки… И усы. И уж я челом бить не стану ни перед кем на свете! Все иные цари придут да предо мной на колени станут… Вон как перед Соломоном-царем становились".
Важно сидел ребенок, а при этой мысли совсем надменно откинул назад свою кудрявую головку. Даже брови нахмурил.
Но вот заговорила Елена. И личико Ивана просияло, смышленые глазки ребенка так и впились в красиво очерченные губы матери, ловя каждый звук ее приятного грудного голоса.
– Царь Ших-Алей! – говорит Елена, повторяя также ранее заученное приветствие. – Великий князь Василий Иванович на тебя опалу положил. А мы с сыном нашим, великим князем Иваном Васильевичем, тебя жалуем, на Касимовское царство ставим. Очи свои тебе видеть дали. И на казанский трон возвести велим. Так и ты бы прежнее свое забыл. По правде живи наперед. А мы будем великое жалованье и береженье к тебе держать. Аминь! Мир тебе в доме и в земле нашей. А поминки, какие, мы приказали, прими, не побрезгуй!
Еще раз ударил челом татарин, занял место, и ему стали подносить разные подарки, шубы, кубки и оружие, груду золотых монет на блюде и много другого.
– Ишь, тысячу алтын отсыпать пришлось татарину, – шепчет казначей Головин князю Шуйскому, – да всего прочего, гляди, рублев на два ста!
И бережливый боярин даже в затылке почесал.
– Ништо! – успокаивает его умный князь. – Не тужи, Петр. За нонешние поминки Казань вскорости много больше Москве отдарит, не охотой, так неволей… Здорового воробья пустим мы под застреху казанцам.
– Где – воробья! Индюка целого! – невольно улыбаясь, отвечает Головин.
Окончился прием. До передней горницы проводил снова Иван татарина.
До коляски до самой проводили его первые бояре. Грузно ввалился в нее будущий царь казанский. Застоявшиеся кони дернули, заскрипели колеса по песку…
Усталые, но довольные расходились бояре из дворца по домам. Много хорошего для земли свершилось сегодня.
Усталая Елена, уходя вечером на покой, крепко расцеловала княжича:
– Разумником ты был сегодня, Ванюшка! Настоящий царь.
Сдала его дядькам и к себе ушла.
– Настоящий царь я! – шептал все, засыпая, впечатлительный ребенок.
И чудесные сны грезились ему в эту ночь.
Ликовала и княгиня Елена.
Лежа в своей опочивальне, она мысленно перебирала все, что пришлось пережить за три года со дня смерти мужа.
Русь быстро крепла. В самой Москве весь Китай-город обведен каменной стеной в пять верст длины. На всех берегах (охранных) царства крепкие сторожевые города поставлены, рать послана. С прежними врагами, Литвой и Казанью, пока мир заключен. Крым – тоже не тревожит так сильно, как раньше. Народу в царстве прибавилось, не так много людей бежит в степи. Легче стало казну собирать и подати меньше на людей наложено.
Судебное дело, раньше совершенно неустроенное, приходит в порядок. Нет прежней поговорки, которая ходила из уст в уста: "Чем идти к судье, лучше лежать в земле". Денежные неурядицы, изобилие фальшивых и обрезанных рублей – тоже сократились. Торг лучше пошел. А от большого торга и держава крепнет.
Вспоминает все это Елена и думается ей: "Годик-другой еще побьемся… Овчина поможет нам с Ванюшкой. А там и в покое зажить можно будет… Ваня подрастет… Сам за державу возьмется… А все же нам, Овчине да мне, спасибо скажет… Скоро все наладится… Вот-то камень с груди спадет… Подышу легко…"
Так в полудреме гадает княгиня Елена.
И не чует, что гибель уже сторожит ее, молодую, прекрасную, полную сил и светлых надежд.
Глава III
МЕСТЬ СОЗРЕЛА
Четыре года прошло уже со смерти князя Василия.
Последние противники, казалось, были устранены с пути Елены и ее любимца князя Овчины-Телепнева.
Пали Вельские, Воронцов Михаил, смирились Шуйские. Чисто стало вокруг трона московского, не видно мятежных, надменных стародавних боярских родов.
А если и остались старинные князья и бояре, так нравом посмирнее или очень гибкие, лукавые, умеющие прятать волчьи зубы и заметать следы лисьим хвостом.
И надо всем возвышался один любимый, вернейший слуга Елены и княжича – Овчина Иван Федорович.
Радуясь за себя, гордясь за друга, литвинка ликовала, упиваясь своей победой.
Но радость была преждевременной. Крамола не стихла. А личная ненависть в тишине и во тьме готовила свой смертельный удар.
Двенадцать лет тому назад Василий развелся со своей первой женой, бездетной княгиней Соломонией, чтобы жениться на красавице Елене.
Соломонию постригли и под именем старицы Софьи заточили в келье, за крепкими стенами Покровского девичьего монастыря в далекой Суздали.
Не то – как затворница, как схимница, не то – как почетная узница живет здесь бывшая великая княгиня.
Впрочем, при ней оставлены прислужницы, девки, бабы – работницы. В ее распоряжение отдал Василий все доходы с богатого села Вышеславского.
Изредка посещают опальную княгиню прежние друзья, знакомые и боярыни, кто посмелее, кто не боится также попасть в опалу за участие к постриженной Соломонии.
Двенадцать лет томится в неволе гордая княгиня, по крови происходящая от знатных татарских князей. Тоска и месть неустанно точат властную, сильную душу обиженной, поруганной женщины.
И вот весной 1538 года сидит насильно постриженная княгиня в своей полутемной келье. Постарела, изменилась былая красавица княгиня. Черные как вороново крыло косы поседели, лицо обрюзгло. От сидячей жизни вся она, когда-то стройная, сильная, одрябла, ослабела. Долгие годы бесконечной душевной пытки пронеслись над нею как разрушительный ураган. Только глаза ее, заплаканные, полуослепшие уже от слез, порою еще загораются прежним огнем. Сверкают мрачно эти выразительные большие глаза, едва припомнит княгиня о той хитрой, низкой литвинке, которая лишила ее и царства, и мужа, и воли, и всего-всего. Сколько казней, сколько мук мысленно заставляет старуха переносить эту ненавистную женщину. И с каждым днем только сильнее разгорается жажда мести в груди у затворницы-княгини.
Долго выжидала, жила одной своей ненавистью и надеждой на мщение Соломония. Жадно ловила она каждую дурную весть о делах царства, каждую худую молву о сопернице. Выжидала, искала случая… Сберегала каждый пенязь, попадающий к ней в руки. Все копила деньги для одной, никому не ведомой, заветной цели.
И наконец дождалась.
Ночь настала. Разошлись по кельям сестры. Уснули почти все. Душно в кельях. Оконца еще не раскрываются, хотя в саду зазеленели побеги.
И, разметавшись на жестком ложе, томятся от духоты, от весенних снов молодые послушницы и монахини.
Не спит одна Соломония.
Лицо у нее разгорелось, покрыто пятнами лихорадочного румянца. Глаза сверкают былым молодым огнем.
На своем ложе сидит она, простоволосая, полуодетая. И страшной кажется старуха в том припадке кровожадной радости, который охватил ее сейчас.
На низенькой, обитой кожей подножной скамеечке присела у кровати женщина лет сорока, тоже в монашеском одеянии. Полная, благообразная на вид, она только поражает каждого своим ласковым, но трусливо, бегающим взглядом маленьких, заплывших, маслянистых глаз.
Зовут ее сестрой Досифеей.
Приподняв голову, вытянув короткую шею, впиваясь взором в старицу, слушает она, что говорит ей полушепотом Соломония:
– Верно тебе сказываю: приспело мне время. Все супротив них. И Шуйские, и Вельские, и сам Захарьин… все! Молчат лишь. Помогает колдунье литовской сам дьявол, второй пособник ее после Овчины. Свою же родную Литву попустила чуть не дотла разорить… Теперь – на Крым, на Казань воевать собираются. Коли дело сладится, они что натворят с Овчиной! Глупого мальчонку, поди, со свету сживут! Обвенчаются. Овчина – царем, она – царицей станет. И всем еще горше придется от них! Только, слышь, не бывать тому… Клялась ты мне… Еще поклянись: ежели и пытать станут, – не выдать никогда!
– Матушка, княгинюшка! Да как же уж и клясться? Слышь, и на мощах на святых заклиналась… Вся твоя раба… Как не оставляешь ты меня… и дочку мою…
– Не оставлю. Много получила ты. В десять разов более дам. Все, что есть, отдам! Видела, сколь много припасла я за все годы? Сорочку продам, сниму с себя… Только послужи…
– Господи! Твоя раба! А и ты попомни. Ежели захватят меня, запытают, убьют ли… дочке моей все. Одна у меня дочка на свете. Для нее и грех на душу беру.
– Клялась и я тебе. Слово мной дадено. Только зелье-то твое не плохое ли?
– И, государыня! Десять лет пущай хоть в воде, хоть в огне пролежит… Дай человеку – и в день его не станет.
– Ладно. А ты не бойся ничего. Гляди: вот столбчики, цидулы тебе. Все к первым боярам писаны… Гляди… Доступ ко всем получишь. И от всего тебя укроют. Видишь? Бери, спрячь.
Бережно взяла Досифея три свитка, припечатанных восковой печатью.
Подойдя к большой неугасимой лампаде перед ликом Божьей Матери всех скорбящих, монахиня стала разбирать четко выведенные буквы, имена и прозвания тех, кому посылались письма.
– Ленинские… Свои против своих! Тоже, чай, Оболенских роду… Шуйские. Нда… люди все значные, – пробормотала Досифея, завертывая письма в платок и пряча их на груди.
– Видишь! Без опаски поезжай. Когда мыслишь в путь, с Божьей помощью?
– Да хошь завтра.
– Так, ладно… И не сказывай в пути, что в нашу обитель заезжала… С Богом, на покой иди… Гляди…
Ранняя Пасха приспела в этом году.
Радостно гудят колокола над державной Москвой. Подвешены они на новой колокольне, начатой Василием и только недавно достроенной.
Поют их медные зевы под ударами тяжких языков хвалу Светлому Празднику, хвалу Тому, Кто воскрес из мертвых.
Отошла пасхальная служба в соборах и церквах кремлевских. Опустели улицы и площади, где всю ночь черно было от народа. Только дозорные темнеют на стенах да звонко перекликаются от времени до времени.
Тихо на кремлевских площадях. Но необычное оживление царит в эту ночную пору в ярко освещенных новых каменных палатах дворцовых.
Великий князь Иван Васильевич разговляется, по обычаю, окруженный ближними боярами, дворней, стрельцами и прочей челядью, христосуется со всеми, дарами одаряет. И Елена тут же.
К концу уже приходит трапеза. Руки омыл княжич. Глазки сами слипаются у него.
– Мамушка, спать хочу больно… Устал, слышь. Можно ли? – негромко спрашивает он.
– С Господом, сынок! Можно. Прощайся да отпущай бояр!
Прощаться начал со всеми ребенок.
В это время подошла к Елене Челяднина.
– Пожалуй, государыня-матушка…
– Что надо? Сказывай.
– Богомолица одна тут… Старица Досифея. Из Вознесенского, из обители.
– Знаю, помню… видывала ее. Чего же ей? Послано будет в обитель, как водится…
– Не то, слышь, господарыня. На Сионе была она. До святого града, до Ерусалиму, добрести сподобилась… Памятку оттуда, говорит, принесла тебе. Просфора при гробе Господнем свячена. Да яичко красное… Не побрезгуй, дозволь ей челом ударить…
– Нешто можно такой святыней да брезговать? Подведи к нам. Где она?
– Недалечко… кликну в сей час… Плещеева боярина женка о ней и поведала мне. С ней и в покои прошла старица та благочестивая.
– Ну, веди, веди. Отдарю, чем есть, доброхотную.
И Челяднина сама, ничего не зная, подвела отравительницу к Елене.
Набожно, на чистую ширинку (платок) приняла святую дань обруселая уже княгиня московская.
А Досифея поклоны отбивает да сладенько приговаривает:
– Сподобил Господь… Вкуси, как оно подобает: натощак завтра рано. Краше да здоровей станешь, чем и есть, княгинюшка-красавица, господарыня моя милостивая.
– Спаси тя Бог. Уж вестимо… сама знаю. Отдарила Елена монахиню, чем пришлось, и та удалилась, исчезла из виду так же незаметно, как пришла.
Сдавши на руки боярину-приставнику ребенка-государя, ушла к себе Елена.
Под иконы, за киотный занавесь положила она дар Досифеи.
Челяднина стала на ночь расчесывать волосы княгине и вдруг заметила две одинокие слезинки, которые неожиданно выкатились из глаз и повисли на длинных ресницах Елены.
– Что с тобой, желанная? – участливо, без обычного раболепства спросила Челяднина.
– Сама не знаю. Что-то сердце давит… Может, оттого, что сон плохой видела этой ночью.
– Что за сон? Скажи! Может, и не так плох, как думаешь?
– Ох, нет. Вещий то, плохой сон, Грушенька.
– Все одно, скажи… Может, легче станет…
– Вот слушай… Снилось мне ночью, в саду я сижу. Вдруг засияло все небо. Гляжу: четыре солнца выкатилось, четыре луны под ними в ряд стало. Постояли малость и стали вниз катиться… А земля словно пасть раскрыла и в той пасти солнца все и четыре тех луны скрылись.
– Мудреный сон, – качая в раздумье головой, негромко произнесла Челяднина.
– Стой. Не все еще. Посидела я малость, гляжу: из глуби, из чащи садовой вышли четыре льва. И ко мне подошли, ровно кошки ластятся. А за ними – четыре девы вышли. За теми львами стали, ровно их вести хотят. И откуда взялся из травы черный, ядовитый змей. Подполз тихо-тихо и ужалил…
– Тебя, милая?
– Нет. Тех львов и девушек. И пали они мертвы. А я гляжу и плачу… И на меня змея та зашипела. Да тут и проснулась… Видишь, Грушенька, каков сон лихой…
– Э, милая! Грозен сон, да милостив Бог! Поела чего на ночь не в меру, вот и грезится. Ложись, родимая. Я тут лягу, близехонько. Постерегу… Христос с тобою…
И заботливо уложила, как ребенка, взволнованную Елену в кровать ее подруга и помощница, перекрестила и вышла в соседний покой, где тоже скоро улеглась.
На другой день, 31 марта, поздно поднялась Елена. Сейчас же оделась, стала бояр и боярынь принимать, которые на поклон сошлись.
И забыла она про вчерашнее подношение Досифеи.
Только на второй день Пасхи, утром 1 апреля, подойдя к божнице, развернула ширинку, увидала подарки, вспомнила.
"Грех какой. Уж поела я. Завтра не забыть бы с утра разговеться"! – про себя подумала княгиня.
И только во вторник рано, встав с первой утренней молитвы, бережно отделила Елена кусок просфоры, освященной самим Иерусалимским патриархом, съела часть с молитвой и запила святой водой, что стояла тут же, в киоте, в чеканной сулейке.
И яйцо освященное очистила, разрезала на части и съела вместо раннего завтрака.
В это самое время вбежал к Елене Ваня, ведя за руку Юрия.
– Мама, что ешь? Дай нам, – поцеловав мать, стал просить Ваня.
– Да уж нечего. Видишь, яичко доедаю… Досифеино! – обращаясь к Челядниной, заметила Елена. – А вот разве просфоры… Хочешь?
– Дай, дай… И Юре… и мне…
– А натощак ли вы, деточки?
– Не, матушка-княгиня. Молочком уж, вестимо, теплым поены у меня, и с калачиком, – отозвалась Челяднина.
– Ну, так не можно. Другой раз. Вот это лучше берите! – И, подойдя к небольшой укладке, вынула и подала обоим мальчикам по писаному прянику.
Обрадованные дети шумно двинулись обратно в свои покои.
Здесь принялись разбирать игрушки, литые фигурки, да кораблики со снастями, да яйца раскрывные. Солдатиками занялся один Ваня. Юрий, опустясь у печки на ковер, сосредоточенно сосал свой пряник.
Оставшись с Челядниной, Елена присела к зеркалу и предоставила свои волосы искусным ее рукам.
Вдруг княгиня поморщилась и подумала:
"Что за притча… Какая горечь особенно у меня во рту? Не хворь ли какая пришла? Надо у матушки лекаря ее спросить".
Челяднина между тем мягко, осторожно перебирала и расчесывала густые, блестящие пряди волос Елены.
Неожиданно княгиня вскрикнула.
– Что с тобой, княгинюшка? – задрожав от неожиданности, спросила Челяднина. – Али дернула за волоски? Так уж не взыщи. Бога ради.
И отвесила поклон.
Но, поднимая голову и заглянув в лицо Елены, она и сама вскрикнула.
– Государыня, матушка… Да что с тобою?..
Елена сидела, откинувшись, бледная, с неестественно расширенными зрачками горящих глаз…
Губы ее вздрагивали, словно она силилась что-то сказать, но не могла.
Наконец княгиня еле пролепетала:
– Матушку… лекаря… За Овчиной, скорее… Челяднина стрелой кинулась. Минут трех не прошло, как покой княгини наполнился встревоженным, бледным, напуганным людом, все больше женской дворцовой прислугой.








