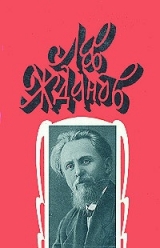
Текст книги "Порча"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Глава II
ЦАРЬ-РЕБЕНОК
На своей теремной половине княгиня Елена ночью и не услыхала воплей, причитаний богомолок да плакальщиц, допущенных к покойнику, после того как сам митрополит омыл тело и монахи облачили усопшего в одежды великокняжеские.
Утром рано проснулась она, когда еще и не светало. Вскочила на ноги, стала прислушиваться.
Размеренный, заунывный благовест, мягкие, редкие удары тяжелого языка о стены "Бойца-колокола" возвестили вдове печальную весть.
– Почто не разбудили меня?.. Как могли? – напустилась было княгиня на свою постельницу.
Но вдруг зарыдала и умолкла. Новая мысль затем охватила ее.
– Где Ваня? Встал ли великий князь-государь? Телу отца кланяться ходил ли?
– Надо быть, нет… Тихо в опочивальне. И Аграфена Федоровна выходить не изволила. Покликать прикажешь?
– Кличь… А мне – наряд печальный подавайте.
Не успели прислужницы принести вдовий наряд княгине, заранее уже припасенный, как за дверью прозвучал голос Челядниной:
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ты!
– Аминь, аминь. Входи, Аграфенушка! – громко отозвалась Елена и даже поднялась навстречу боярыне.
Пока Челяднина отдала поклон княгине, та уже засыпала ее вопросами:
– Как спал Ванюшка? Добр-здоров ли? Встал ли? Отцу поклониться сбирается ль?
– Почитай и готов. Брат мой, князь Иван, у его. Слышь, ноне и на царство постанов творить положено. И ты, государыня, изготовляйся. Матушке твоей, княгине Анне, знать дадено.
– Почитай изготовилась, видишь, Аграфенушка… Горе горькое, какие часы приспели! – запричитала было княгиня. – На кого ты нас оставил, государь мой, князь милостивый, солнышко мое красное?.. Сиротами покинул…
– Поудержалась бы, княгинюшка, покуль. Дите встревожишь. Малое оно, неразумное у нас. Трудно будет в соборе на царство становиться. Негоже, коли там что прилучится. Уж потерпи. А после – наплачешься, нажало-бишься вволю.
– И то, правда твоя! – как-то сразу оборвав плач и причитанье, согласилась Елена и, опережая Челяднину, поспешила через сенцы в опочивальню княжича Вани. Юрий спал с кормилкой и мамушками в другой комнате, соседней с опочивальней самой Елены. О нем и не вспомнила сейчас княгиня-правительница, всецело охваченная заботой о первенце – великом князе.
– Матушка! – завидя княгиню, залепетал Ваня.
Он, еще полуодетый, сидел на коленях у Ивана Овчины-Телепня, который присел было на кровать к ребенку. Соскочив с колен своего пестуна и любимца, княжич хотел было бежать босыми ножками навстречу матери.
Но могучий красавец боярин осторожно и ловко подхватил ребенка и поднес к Елене.
– Милый! Дитятко мое! Хорошо ли почивал? Что плохо снаряжаешься? Гляди, скоро и бояре придут, звать тебя с отцом прощаться.
Низко наклонившись княгине, Овчина заговорил:
– Одет уж почитай был князенька наш… Да мыслю я: получше бы что надо. День больно значимый… Вот и ждем, пока принесут наряд самый нам отменный…
– Да! Какой поладнее! – вмешался Ваня. – Во, штанцы-кафтанцы… словно у Вани, у Овчинушки у моего. И мне… И мамину сыну, Ванюшке! – ласкаясь, словно котенок, к матери, объяснял ребенок, указывая на блестящий наряд молодого боярина.
– Ишь ты, твоя одёжа ему полюбилась! – приветливо обращаясь к Овчине, с невольной улыбкой заметила мать. – Ну наряжайте мне его не мешкая да к матушке приводите. Там я буду. Оттуда все и на поклон к государю нашему пойдем…
Крепко обняв и расцеловав ребенка, Елена пошла на половину матери своей, Анны Глинской, как обычно делала каждое утро, навещая болезненную старушку.
Между тем Челяднина, вышедшая из покоя на минуту, ввела в опочивальню княжича двух прислужниц с целым ворохом праздничных нарядов.
Брат и сестра выбрали наряд, где все подходило одно к другому: голубой с золотом да с белыми шнурами. Цветные сапожки с красными каблучками и шапочка с дорогим пером от райской птицы, укрепленным у тульи крупным изумрудом, довершали наряд.
С темными сверкающими глазками, со светлыми золотистыми кудерьками над высоким, красивым лбом, ребенок в этой слабоосвещенной сводчатой небольшой опочивальне казался ангелочком, слетевшим с небес.
– Гляди, Ваня! – заметила брату Челяднина. – Каков пригож наш князенька.
– А поглядишь на нас в соборе… Там, где осияет светом нашего юного князеньку! – ответил Овчина. – Вот и все скажут: "Хорош наш государь, живет на многие лета…" Правда, Ванечка?..
– Вестимо, вестимо, государь я… Всем государь… – принимая забавно-осанистый вид, ответил ребенок и от удовольствия, от радости стал шлепать ручонками по широкой груди сидящего Овчины, который совсем нагнулся к княжичу, смеясь, ловил его руки и целовал их.
– Ну, будет вам. Старый да малый связались. Слыхал, чай, княгинюшка вести куды приказать изволила? Ступай. Тебе негоже к старице. Я одна сведу, вот с Орефьевной! – указывая на одну из старых нянек, помогавших при обряжении княжича, заметила Челяднина.
– Ладно. Недолго вам еще моего государя на помочах водить. Пятый годочек пойдет, в наши, в мужские руки перейдет государь. Ладно ли, Ванюшка?
– Ладно, вестимо, ладно. Люблю тебя! – кивая Овчине, ответил княжич. И все кланялся, пока вместе с нянькой, взявшей его на руки, не скрылся за низенькой дверью, в которую ушла перед этим и княгиня Елена.
Между тем печальный перезвон колоколов продолжал разноситься над Кремлем, надо всей Москвой. И задолго еще до полного рассвета потянулся народ толпами без конца к собору Архангельскому, где на возвышении возлежало тело Василия, чтобы все могли проститься с усопшим и дать ему последнее целование.
Но, кроме народа, на той же кремлевской площади, рано утром 4 декабря 1533 года, как разноцветные волны, колебались ряды строевых дружин великокняжеских в разноцветных кафтанах, в блестящем вооружении.
Над "передовым" полком, одетым в белое, колыхались белые хоругвь и знамя.
А дальше – и зеленые, и ярко-малиновые, и лазоревого цвета кафтаны, знамена и хоругви, смотря по полку. И колпаки блестящие, и сверкающие полированными стволами тяжелые пищали.
На хоругвях разные изображения видны: вытканы святые иконы, чудно вышит византийский орел, перенесенный на Русь, в виде приданого, греческой царевной Софией Палеолог, родной бабушкой малолетнего царя Ивана [3]3
В 1497 году, четверть века спустя после женитьбы на Софии, Иван III впервые употребляет печать с византийским двуглавым орлом на договоре с племянниками, наследниками удельного князя Бориса Волоцкого.
[Закрыть].
И восточные огнистые драконы, всякие чудовища и страшила также скалят зубы с высоты, нарисованные на реющих по ветру знаменах.
Стройно подходят и равняются полки, занимая пространство перед соборным храмом во имя Пречистыя Богородицы, что в Кремле.
Установились полки. И сейчас же длинной двойной вереницей, с топориками на плече, прошли в собор рынды царские в высоких шапках, в белых парчовых кафтанах, словно снегом блестящим облитые.
Наконец, окруженный первыми боярами, всей блестящей свитой, показался из Архангельского собора малолетний великий князь московский, царь всей Руси, вместе с великой княгиней-правительницей. И князь Андрей Старицкий здесь же.
Вместе совершили они обряды последнего прощания с усопшим государем.
Бледен ребенок-царь, глаза его сильно расширились, потемнели. Целый ряд жгучих вопросов шевелится в его детском мозгу: отчего так крепко спит отец, что даже не ответил на поцелуй любимца сына? Отчего он такой холодный? Почему лежит не в опочивальне, а в соборе, в пышных бармах и в царской шапке? Никогда не спал так раньше отец. Почему все подходили и целовали руку ему или край ризы царской?
Многое хотел бы спросить Иван, впервые увидавший покойника, да еще – родного отца.
Но ребенок знает, что они "на выходе", на большом. Народу показываются. Идут в собор, где будут его, Ивана, нарекать царем. И не годится теперь обращаться с вопросами, даже самыми важными, хотя бы и к матери. Молча идет ребенок.
Вошли под своды храма. Митрополит поставил ребенка на царское место, на помост, покрытый пурпурным ковром. Один. Все, даже мать и мамка Челяднина, отступя от помоста, пониже стоят. И кивают любимцу своему, улыбаются, шепча:
– Гляди, не заплачь. Не можно. Гляди, стой чинно! Шепчут. А у самих – так слезы на глазах и дрожат.
В храме черно от народа. Митрополит в самом блестящем одеянии, окруженный всем соборным и кремлевским главным причтом в пасхальных ризах, правит службу.
Торжественно осеняет чудотворным крестом Даниил младенца-царя и громко, раздельно возглашает:
– Бог, Держатель мира, благословляет Своей милостью тебя, по воле усопшего родителя твоего, государь великий князь Иван Васильевич, володимирской, московской, новгородской, псковской, тверской, югорской, пермской, болгарской, смоленской и иных земель многих царь и государь всея Руси! Добр, здоров буди на великом княжении на столе отца своего.
И старец приложил холодный блестящий крест к горячим губам малютки.
В то же мгновение, подобно сонму ангелов, многоголосый, стройный хор митрополичьей стайки грянул "Многая лета!". К первым звукам звонких детских голосов присоединились гудящие октавы басов. Стекла дрогнули, огни замерцали в паникадилах и в многосвечниках…
Ребенок-царь окончательно растерялся.
А тут еще бесконечной вереницей потянулись перед ним разные люди, важные, нарядные, послы иностранные, царевичи и цари восточные, которые проживают на Москве, вельможи, бояре первые, в парче, в шелку, в соболях и в рытого бархата шубах. Первым подошел дядя, удельный князь Старицкий. Князя Юрия не видно. Он не явился под предлогом нездоровья, чтобы избежать участия в торжестве малолетнего племянника.
Приветствуют все его и "здравствуют на царстве", бьют челом, целуют руку. А к ногам то и дело складывают меха дорогие, кованые сосуды, оружие, ларцы изукрашенные, одежды богатые, сбрую, усаженную каменьями… Кто что может. Прислужники едва поспевают убирать груды дорогих даров. Все четыре казначея не поспевают все переписать да приглядеть, чтобы сохранно осталось царское добро и дошло до дворцовых кладовых.
Долго тянется церемония. Ребенок едва стоит. Княгиня-правительница рядом с ним. Аграфена – позади. И Овчина тут же. Он только и выручает царя. Стал перед Иваном боярин сбоку на одно колено, словно поддержать хочет ребенка. А сам просто-напросто усадил мальчика на другое колено. И легче, удобнее стало малютке. Только устал он. От массы впечатлений, лиц и красок голова кружится… От ярких огней рябит в глазах, и они слипаются сами собою.
– Не спи, постой, желанный. Недолго уж, – говорит ему мать.
– Подожди, касатик! Не спи. Вот леденчик знатный. Погрызи, – шепчет Челяднина и сует что-то в руку.
Но ребенок уж дремлет, припав головкой к широкой груди дяди Вани.
Торопливо проходят последние поздравители.
А из ворот первопрестольной Москвы во все стороны царства скачут гонцы, бирючи и вестовщики по городам, по селам; присягу отбирать надо и клич кликать, весть подать, что воцарился на Руси новый великий князь и царь, Иван, четвертый по ряду, Васильевич по отчеству. Грозный по прозванию в грядущих веках.
Все без помехи, своим чередом, чинно и торжественно прошло в этот великий для Ивана день.
Короток он был, холодный, зимний, хотя и озаренный лучами негреющего солнца. Быстро темнота развернулась и одела весь край.
После благословения в соборе и часу не дали подремать ребенку в постельке, куда отнес его все тот же Овчина. Разбудили, одели в новую рубашечку, шумящую, с рубинами вместо пуговиц, нарядили в другой, белоснежный кафтанчик из тяжелой среброкованой парчи, с высоким воротником. И повели на пир, на столованье великое царское. Там – опять поздравления, подарки. Сам Иван, по указанию матери и дяди Андрея, посылает блюда и кубки почетным гостям, послам, вельможам… Дарит шубами, мехами, кубками, и конями, и целыми вотчинами, кого надо.
Дьяк возглашает дар царя. Одаренный подходит, бьет челом и получает подарок в руки, если это кубок, блюдо серебряное или чара златокованая, насыпанная доверху рублями, а то и червонцами, глядя по значению гостя. На земли и вотчины вручаются тут же грамоты, наскоро приготовленные.
Без конца несут блюда с яствами, без остановки опорожняются и вновь наполняются фляги, сулеи и ендовы с винами заморскими, с медами, в своих погребах сыченными…
Полусонного, совсем побледневшего унесли Ивана с пира. А гости остались сидеть. И до утра тянется шумная тризна, пир и веселый, и печальный в одно и то же время: на помин души усопшего князя, за здравие да на многие лета новому царю и государю…
Крепко спит в своей кроватке Иван. Елена и старшие вельможи Глинский, Шигоня, князь Михаил Захарьин удалились из главных палат, где стоят столы. А гостям предоставлена полная свобода.
И они спешат воспользоваться ею. Шумно, безудержно веселится московская знать в палатах кремлевских. Еще шумнее и неудержнее веселятся простые люди, челядь боярская, во дворах и в сенях кремлевского двора, где им тоже приготовлено вдоволь вина, пива, хлеба и мяса. В монастырях и на дворах первых бояр, в пределах Кремля, в подворьях монастырских, на заезжих дворах и в кабаках городских и посадских – везде стоном стоит гул от веселых, нетрезвых голосов простого люда, который и за свой счет, и на подачку от царской казны тоже справляет этот особенный день.
Поздней ночью горит огонь на половине княгини-правительницы.
Только не весельем там заняты.
Кутаясь в соболью душегрею, хотя в низеньком покое и жарко натоплено, вся взволнованная, сидит на скамье за столом Елена и слушает, что ей говорит Шигоня – печатник (канцлер).
Михаил Юрьич Захарьин, поглаживая бороду, уселся чуть поодаль, на крестце, на стуле складном, выгнутом в виде буквы X. Князь Михаил Глинский, на правах дяди, ссылаясь на года и на усталость, а скорее – под влиянием нескольких лишних кубков мальвазии, осушенных на пиру, полуразлегся на скамье, поодаль от Елены, подложив под локоть свернутую шубу вместо подушки, опершись на руку отяжелелой головой.
Но и он внимательно слушает Шигоню. Отяжелелые веки порою сразу широко раскрываются, и тогда его нерусское лицо, весь горбоносый профиль напоминает насторожившегося ястреба или орла.
Все трое вельмож изредка поглядывают на князя Ивана Овчину-Телепня. Пришел было молодой боярин, как постельничий царский, доложить, что уснул молодой государь. Но Елена не отпустила его сейчас же. Велела остаться. Уселся князь Оболенский поодаль скромненько и тоже слушает очень внимательно.
– Не нынче ихняя, Шуйских, крамола пошла, – жирным, убедительным баском своим чеканит слово за словом Шигоня. – И вертать-то бы их на Москву не след. Жили бы подале, в сосланье. То бы и покойнее было. А вот вернули. Теперя не миновать свары да переполоху. Не мимо пословка молвится: "Не жди во Кремле добра от Шуйских от двора".
– Да как же было не вернуть, Шигонюшка? Княжая на то воля была, покойничка. И сам владыко митрополит молил о том, и брата оба, и бояре многие.
– Многие, ведаю, – бросая, словно мимоходом, взгляд на Захарьина, подтвердил Шигоня. – То же и я толкую. Зря оно, не след бы. Сами слыхали: что вышло? Еще тело царя землею не покрыто, а они уже свою песенку завели стародавнюю.
– Да так ли, Шигонюшка?
– Не селезень я дворовый, чтобы такать да перетаки-вать! – невольно не сдержав нетерпения, отозвался Шигоня. Он привык, чтобы сам великий князь московский доверял его словам и советам. А теперь надо с бабой советы держать, с литвинкой.
Почтителен в каждом движении и в каждом слове хитрый советник, искушенный "дьяк" – царедворец. Но не может вконец обезличить себя.
Понимает это и Елена. И очень осторожно, мягко спешит она успокоить умного, необходимого ей помощника, главного заправилу в делах правления:
– Верую, верую тебе, Шигонюшка. Ровно отцу родному. Зря спросилося. Как же быть теперя?
– Известно, корысти ради князек донос доносил. А сказ его таков: в ночи еще, бает Горбатый, как шея^де он, по успении государя, кремлевскими дворами до колымаги до своей, на площадь, – видит, и Шуйский, князь Андрей, давний приятель его, тут же. Толковать стали, по старому делу: как теперь, при новом, юном хозяине житье пойдет? А Андрей и поотвел-де Горбатого от остальных, кто поблизу шел, да и сказывает: "Едем вместе. Велико дело скажу, авось и тебе пригодное". Послушал Бориско Горбатый, Сели в колымагу в Шуйского вдвоем. И почала старая лиса блазнить князя. Слышь: немало народу ноне от Москвы в отъезде к удельному, на Дмитров, на Яхрому-реку плыть сбираются. " А почто?" – пытает Горбатый. "Да того дела ради, что здесь служить – ничего не выслужишь. Князь великий еще молод. Княгиня да дядевья литовские с иными блазнями волю возьмут. Своих тянуть на первые места станут. А ноне слух слывет: Юрий князь, по старине – как старшой в роду, – сам не прочь на столе сесть. За жим – не пропадешь". А Горбатый будто бы на ответ: "Как же это, князе: дня нет, как мы крест целовали и покойному государю, и новому князю великому, отроку. А ты на измену зовешь? Ладно ли?" На таки слова Борискины ни словечушка не отповедал Шуйский. Понахмурился только и бает: "Пытал я тебя, друга милого. Вижу: верный ты слуга государям своим. Так о тебе знать и молвить стану". Не доехал и до дворов Шуйского Бориска, из колымаги вышел, в свои сани сел да не домой, а ко мне завернул. Все и выложил мне. Отпустил я его. А чуть рано поутру новые вести пришли: пересылы от двора князя Юрия к Шуйским и наобратно были. Дьяк князь Юрия, Тишков, Третьяк, раз ли, два ли понаведался к Андрею. И от Вельского Семена в обе стороны посылы были. А ноне после наречения царского – из собора кучкой бояре на хлеб, на соль поехали ко князю Юрию, навестить недужного. В собинном покое беседа была. Одначе и послухи у меня сыскались… О том же речи шли: самому Юрию на стол сести, тебя, княгинюшка, со князем великим и со всей родней твоей заточивши… Нешто дело не видимое?
И Шигоня окинул всех взором, в котором ясно сквозила уверенность в своей правоте и непогрешимости.
– Ох, Господи! – всполошилась княгиня-правительница. – Денечка покойно не пробыть! Не остыл еще покойный, а тут тако дело. Что ж нам? Как же нам?
– Да постой, племянная. Не мучь себя попусту. Не все досказал Юрьевич. Как по его: можно ли крамолу осилить? Велика ль опаска нужна? Али неважное дело все? Вот что след нам разобрать теперь.
– Как сказать, княже? – в раздумье ответил на косвенный вопрос Шигоня. – Оно глядя: как и что? Выведать надоть бы наперед, велика ли сила за князем Юрием стоять собирается. Только к нему поболе людей перейдет, – и почнет он под нашим великим князем подыскивать, государства себе добывать на Москве. Не поять нам теперь князь Юрия Ивановича, не опутать руки, то и великого князя Ивана Васильича государству не быть, и нам всем целыми не стоять.
– Пожалуй, и так. Видимо дело: не в Шуйском вся беда.
– Что же дале? – опять спросил Глинский, с которого дремота совсем соскочила теперь.
– Что нам да как? Поведай, дай совета, Шигонюшка! – отозвалась и Елена.
– Да само дело кажет, как ему вестись. Сыск почнем. Доводчиков на допрос. А там – и всех, кого оговорят они. Прослышим, далеко ль наметка кинута? А там, как дело укажет. Лих, чтобы царство не шаталось, не грех и дядю государева присадить.
– Оно вестимо. Мне бы с Ванюшкой худа какого не было?! – опасливо перебила снова Елена.
– Будь покойна, государыня княгинюшка. Волосочка твоего не колыхнем. Еще у нас концы есть. Мастер твой золотошвейный, немчин Яганов, сильно дружен с единым из сыновей боярских князь Юрья Иваныча, с Мещериным с Яшкой. И тот Яшка к себе в Дмитровск Ягана позывал, там ему по тайности весть подал о сговоре злодейском между княж Юрьевых детей боярских многих: как бы им Юрия на стол навести, а нашего великого князя со свету сжить.
– Господи, сил! И ты ни слова не баял досель, Шигонюшка! – всплеснув руками, видимо совсем напуганная, воскликнула Елена.
– Не пора была – и не баял. А ноне – и Юрий сам, и дворня его на Москве. И тот Мещерин, Яшка, и наш Яган. Вот мы всех на очи поманеньку и поставим, великий клубок завьем. А как развивать станем, тут все и пооткроется.
– Добре! Добре, Шигонюшка! – не утерпел, похвалил ловкого царедворца Глинский.
Видимо, успокоясь, он снова развалился на лавке, принял прежнюю беспечную позу.
– А что ж ты все гласу не подаешь, вельможный боярин? – спросил он у Захарьина, по спокойному лицу которого трудно было угадать, согласен он со всем, что говорит первосоветник-печатник, или не согласен.
– Двум на едином коне не скакать, княже. А и то скажу, – степенно ответил боярин, – слышим мы покуль, что Ивану Юрьевичу нашему метится. Поглядим да послухаем, чего иного еще люди не поведают ли. Вот с разных концов дело и обглядим. Тогда стену городить станем. Тогда и я свое слово скажу, как мне совесть велит, как Бог на душу положит.
– Верное слово боярин сказывает! – поддержал сам Шигоня своего "встречника". Ловкий, угодливый, он с друзьями и с недругами старался быть одинаково податлив и согласен на вид, в то же время поджигая всех на вражду и свару, за что даже открыто был прозван Поджогиным. – Верное слово! Мы не по словам, по делам дело рассудим, обмерекаем. А еще…
Но дьяк не успел кончить.
– Во имя Отца и Сына и Духа Свята, – раздался за приоткрытой дверью голос придверницы, дежурящей по соседству с покоем, где происходил совет бояр с княгиней Еленой.
– Аминь! – торопливо отозвалась, невольно вздрогнув, правительница. – Входи, Федосьюшка. Что там? Кто там?
– Да князь, слышь, Андрей, слышно, сам Михайлыч Шуйских! – протирая глаза, неуверенно доложила придверница.
– Шуйский? Андрей сам?! Князь пожаловал?! – так и вырвалось у всех сидящих с Еленой.
Княгиня ничего не сказала. Она сильно побледнела, как будто ожидая большой беды.
– О… один он? Без народу? Без челяди? – наконец спросила она.
– Надо быть, что один. Савелыч наш, дворецкий, с им заявился в терему. Боярин князь и говорит: "Доложи княгине. Ежели спит, побудила бы. Дело больно спешное".
– Так он не сведал, что бояре у меня? Не сказала ты али Савелыч? – видимо ободряясь, допытывалась Елена.
– Его ли то дело, кто у тебя на совете, государыня княгинюшка? Откуда ему сведать, что в покоях твоих деется. Не мужское оно и дело.
– Так… постой… погоди… Мы… сейчас. Ну, как мыслите: допущать его али нет, бояре?
– Ну, известно, пущай, – угадав опасения племянницы, первый подал голос Глинский. – Когда б он с худом, – в тот час без доводу зашел бы до покою, не доложил бы… А мы… мы в тот покой пойдем. Послухаем, он тебе что скаже? Правда? – не то спросил, не то прямо решил князь, обращаясь к остальным.
– Так ладно будет! – отозвался Шигоня.
– Пойдем. Что ж, и я со всеми! – подымаясь, отозвался Захарьин.
И все четверо, с молчаливым, по-прежнему, Овчиной, перешли они в соседний покой, куда через приоткрытую дверь было слышно все, что говорится рядом, у княгини.
– Челом бью матушке-государыне, великой княгине и владычице нашей! – остановясь почти у самого порога, отдал поклон Елене Шуйский, немедленно введенный в покой тою же придверницей, Федосьей Цыплятевой.
– Храни тебя Господь, боярин, князь Андрей Михайлыч. Садиться прошу милости. Что поведаешь? Видно, великая спешка пришла, что в столь позднюю пору потревожил свою княжескую милость, сам заявился, никого не дослал! – указывая место князю, ласково спросила правительница, овладевая своею тревогой и невольным страхом.
– Спешно – не спешно, а потайность великая. Ты, лих, не пугайся, по женскому обычаю, княгинюшка. По-куль оно все еще так, брехня одна. Все же сказать надоть. Сама с ближними советниками со своими по-разберешь апосля! – оглядевшись, вкрадчиво, мягко произнес Шуйский.
– Вся на слуху, боярин! Что прилучилося?
– А вот попросту скажу, как оно и дело было. И пяти ден нет, как из опалы, из засылу вернулся я. Дня не завершилось, как я со всеми присягу принимал, креста целование совершил на верность малолетнему великому князю, царю и государю, и тебе, великой княгине. А уж люди блазнят, на измену подбивают, на худое дело зовут меня, князя Андрея Шуйского.
– Да что ты, князенька? Негоже. Стыда нет на людях. Да кто же? Поведай, коли за тем пришел.
– Кто?! Зовет-то малый никчемный: Бориско, Горбатый князек, роду Суздальских. Шалыган ведомый… Да на таковских, слышь, людей заметывает, что и сказать – жуть да оторопь берет!
– На кого? И невдомек мне, бабе глупой! Не обыкла я в делах ваших боярских. Уже не оставь ты меня, князь. Подмоги. Научи. Ближе всех почту тебя. Превыше всех станешь. Выручи, подсоби державу за Ванюшкой закрепить, князь-милостивец. Твоя сила и на Москве. Она же надо всем Новгородом. Уж повыручи!
И со смиренным видом Елена приподнялась и отвесила поклон князю Андрею.
Зорко поглядел на нее лукавый боярин. Потом еще раз огляделся, даже носом потянул воздух, словно в нем почуял что-то знакомое. Потом откашлялся слегка и снова заговорил в тон Елене, так же мягко и смиренно:
– Где же нам дела вершить… Прошли времена, миновали денечки красные. Покойный государь-царь всем крыла-то поотшиб. Да и поделом. Руси на пользу единого владыку ведать, единому хозяину под рукой лежать. Вот того дела ради и я к тебе со своей речью пришел. Вижу, верю: от сердца говоришь. Авось, хоша и небольшим, – а попомнишь слугу твоего верного, как царство за малолетним сыном да за собою добре закрепишь.
– Попомню, видит Бог, попомню! – как бы скрепляя именем Божиим осторожный торг, подтвердила Елена.
– Ну, слухай: от самого, от княж Юрия, от дяди государева… так Бориско баял, – позыв был ко мне.
– Ахти мнечушки?! Что ты? Да слыхано ль? Да еще авчерась…
– И я то же Бориске сказывал: не вчерась ли день мы крест целовали племяннику? Можно ль мне ныне за дядю стать?.. На это мне Горбатый: "Как сам знаешь! – молвил. – А, лих, у князя Юрия тебе бы за отца быть, коли поможешь ему. А при малогоднем царьке – евонные родичи тебя и со свету сживут, не то честей дождешься". Так, ехида, сказывал. Плюнул я и прогнал его!
– И добро сделал. Нешто я не знаю, что одной родней земли мне не склеить? А как мыслишь: направду от князя Юрия подсыл был? Али так, брехал Горбатый.
При этом простом, как казалось, и естественном вопросе Шуйский весь насторожился и на миг как бы задумался. Потом быстро, таинственным шепотом заговорил:
– Толковать-то можно ль без опаски? Уж я все. Уж куды ни шло… Уж пущай там после и голова долой.
– Говори… все говори! Безо всякой опаски!
– Уж как попу на духу… Как ты – люду всему и царству целому матерь родная. Слышь, не один Бориска. Еще мне подсыл был, уже явно от князь Юрья. Дьяк тута есть княжой, Тишков, сын Третьяк.
– Третьяк Тишков, баешь?
– Он, он самый. Лихой человечишка. И прихаживал он ко мне все с речами улестными: к князю Юрью бы на службу шел, на Дмитров бы с им сбирался. Покуль великий князь мал, – и сила-де мочь боярская старину поновить: старшого в роде на стол посадить. А зато и постановщикам всем, которые тому помочь явят, нехудо будет же. Многие старые вольготы князь Юрий своим пособникам и велькомочным людям подаст и новых добавит. А угодья, да земли, да поминки – то не в счет. Я сказываю Тишкову: "Вечор мы крест целовали, и с удельным твоим. А ноне на сговор на лихой идти? Гоже ли?" А Тишков на ответ: "Как князем крест целован? Нешто по своей воле? Все входы-выходы дворцовые стражей переняты были. Не присягни, так и жив не выйдешь. Такова присяга – не крепка слывет. И поп за такую невольну присягу разрешит. И Бог простит, коли не держать ее". Немало такого все прибирал улестник. Все к князю на совет звал.
– Ты же не пошел, вестимо? – опять с самым прямым взглядом, со спокойным выражением лица спросила, словно мимоходом, Елена.
Пытливым взором так и пронизал ее всю Шуйский.
"Дурой ли она прикинулась али взаправду еще не донесли ей покудова? Не ведает дела?"
Такая мысль мелькнула в мозгу у старого заговорщика.
Колебаться долго нельзя было. И он решил сыграть вовсю.
– Грешен, княгишошка-матушка! Не утерпел, пошел. Нынче же и был, словно недужного навестить собрался. В больных князь сказывается. Только бы к юному царю на поклон не пойти.
– Знаю. Сама догадалась. Что ж он тебе?..
– Да все то ж, что и послы его: к нему бы ехать. И все иное-прочее. Я и ему молвил: "Лепо ли?" А он уж на присягу на подневольную и наметывать не стал, одно говорит: "Брата Василия не стало, – и наш черед близко. Его извели. И нам за ним дорога обоим: мне да Юрию… Так неужто ждать смерти неминучей да шею под обух нести?" Я ему: "Что ты, княже? Нетто племянник государь на дядей на родных что помыслит?" А Юрий князь мне: "Не племянник, а те, кто и брата извел, и племянного изведет с маткой, со княгиней его. Сам потом на стол сядет… Землю поганым предаст".
– Кто же это да кто? – нетерпеливо спросила Елена, начиная ощущать безотчетное беспокойство. Хотя она и понимала, что Шуйский – враг ее и сына, что он лукавит, стращает ее… Но леденящий душу призрак "порчи" дворцовой слишком часто проходил здесь по всем переходам и покоям… Слишком много жертв унес он, чтобы не вздрогнуть даже при одном имени этого чудовища…
– Кто? Не чужой тебе человек… Кто и в других краях у людей ведуном слывет… На кого и в Литве поклеп был, словно он круля Лександра извел, сам короны домогаючись. Будто для того же он и Василия свет Ивановича испортил… боль огневую да гнилую навел… Уж не взыщи; на дядю на твоего, на Михаила Глинских, Юрий накидывал: он де сбирается…
– Врешь! Брехня то все! – не утерпев, крикнул старик Глинский, появляясь на пороге. – Брешет твой князь Юрий. И порчу сами на всех пущаете. Я докажу. Вы слыхали? – обращаясь к Захарьину, Шигоне и Овчине, тоже вошедшим в покой, сказал Глинский. – Злодейство они со своим князем Юрьем удумали против великого князя и государя. В тюрьму его… Зови, кто там есть, Овчина… Я скажу, куды вести крамольника…
И Шуйский, и Елена были поражены этим приказанием, нежданным появлением Глинского и бояр из соседней комнаты.
Но Шуйский скоро овладел собой.
Криво улыбаясь, он заговорил:
– То-то, как вошел я, словно мне в нос твоим тютюном знакомым так и ударило… Челом бью и тебе, князь, и вам, бояре первосоветники. Что ж, коли приказ ваш и воля княгини нашей, – берите меня, худого человечишку, князя Андрея, Шуйских роду, волостеля новгородского, ни за что ни про что в оковы, за колодки сажайте, киньте в мешок темничный… Всего я на веку видывал. А правое ли то дело, – Бог да совесть пускай вам скажут. А что я княгине толковал, вы же слышали.
– Слышали, слышали! – подтвердил Шигоня. – Что же, как прикажешь, матушка-княгиня? Пустить ли князя? Али, по слову князь Михаила, за заставы посадить, пока дело не прояснилось, пока за удельного Димитровского. и за самого Шуйского Андрея его пособники, нахлебники да доброхоты горой не встали?.. Гляди, в те поры – и не взять в руки никого. На Бога одна надежда будет.








