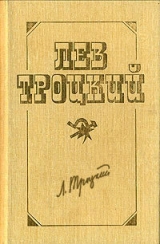
Текст книги "Том 2(1). Наша первая революция. Часть 1"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц)
* * *
Интеллигенция далеко не однородна. В то время, как ее влиятельное ядро, солидные дипломированные отцы, материально или идейно связанные с цензовой земщиной, неутомимо доказывали умеренность, мудрость и лояльность земских постановлений, широкая демократическая периферия, главным образом, учащаяся молодежь, горячо и искренно примкнула к открывшейся либеральной кампании с целью вывести ее из ее жалкого русла, придать ей более боевой характер, связать с движением масс. Таким образом возникли петербургская уличная демонстрация 28 ноября* и московская – 5 и 6 декабря*. Эти демонстрации для радикальных «детей» были прямым выводом из лозунгов, выдвинутых либеральными «отцами». Но умеренные отцы, как это с ними всегда бывает, косо смотрели на прямой вывод, опасаясь, что неосторожными, слишком порывистыми телодвижениями «общество» может оборвать нежную паутину доверия…
Демонстрации оказались неудачными. Развернувшаяся конституционная кампания, в сущности состоявшая из взаимного перебрасывания резолюциями на ограниченном поле, не задела широких масс, почти не дошла до них. А тот внутренний глубокий процесс, который совершался в этих массах, разумеется, не приурочивался к наскоро объявленному выступлению демократической молодежи. Студенчество не было поддержано ни справа, ни слева.
Тем не менее, эти демонстрации после долгого затишья, при неопределенности внутреннего положения, создавшейся внешними поражениями, – демонстрации политические, в столицах, демонстрации, отдавшиеся через клавиши телеграфа во всем мире, произвели, как симптом, гораздо большее впечатление на "руководителей нашей внутренней политики", чем грациозные менуэты либеральной прессы.
На эту конституционную кампанию, начавшуюся собранием нескольких десятков земцев в барской квартире Корсакова и закончившуюся водворением нескольких десятков студентов по полицейским участкам, правительство ответило 12 декабря известным «указом» и не менее известным «сообщением».
Встревоженное «детьми» правительство сделало шаг навстречу «отцам» – и с самого начала установило резкое различие между "благомыслящей частью общества, которая истинное преуспеяние родины видит в поддержании государственного спокойствия и непрерывном удовлетворении насущных нужд народных" – и между лицами, "стремящимися внести в общественную и государственную жизнь смуту и воспользоваться возникшим в обществе волнением умов". Разумеется, благомыслящие отцы совершенно не были удовлетворены неопределенными посулами, но они ухватились за сделанное правительством различие между ними и крамолой, чтобы щегольнуть своей лояльностью и пугнуть власть призраком революции. Г. Евгений Трубецкой*, князь, профессор, «очень хороший писатель», по оценке г. Милюкова*, и ко всему этому брат князя Сергея Трубецкого, красноречиво выступил в «Наших Днях» от «той именно части русского общества, которая, дорожа монархическим началом, видит истинное преуспеяние родины в поддержании государственного спокойствия и в непрерывном удовлетворении насущных нужд народных», словом, как требуется по цитированному выше правительственному указу. Очень хороший писатель оповещал через очень хорошую газету, что он «всегда принадлежал к числу тех, кто мечтал о незыблемости законного порядка в преобразованной империи» («Наши Дни», N 17)[23]23
Статья «Высочайший указ и правительственное сообщение».
[Закрыть]
Либеральная пресса буквально выворачивалась наизнанку в стремлении заставить правительство вычитать из указа 12 декабря все конституционные чаяния "благомыслящей части" общества. Первую скрипку в этой пьесе играли, разумеется, "Русские Ведомости", газета, достаточно привыкшая за несколько десятилетий своего чуть-дышания к тонким дипломатическим приемам. "Русские Ведомости" доказывали, что, так как указ 12 декабря требует насаждения законности и уничтожения произвола, так как произвол лучше всего процветает во мраке безгласности, так как обличение порока весьма действительное средство для торжества добродетели, то, значит, указ как бы устанавливает свободу печати, и всякий, кто отныне покусился бы на ее право обличений, "заявил бы себя сторонником произвола, осуждаемого высочайшим указом". Не больше и не меньше. "Русские Ведомости", как известно, сорок лет придерживались того убеждения, что сподручнее вычитывать конституцию из высочайших указов, чем бороться за нее.
И, наконец, эта умеренная газета, не знающая умеренности только в пресмыкательстве, определила значение акта 12 декабря в таком бессмертном тезисе: "Не осталась, значит, бесплодной многолетняя работа общественной мысли, которая… не переставала настаивать на насущной необходимости тех самых преобразований, которые ныне с высоты престола провозглашены отвечающими назревшей потребности". 12 декабря выяснилось, видите ли, что не пропала бесплодно многолетняя работа русской общественной мысли! Царский указ был ее плодом!
"Не тревожьте этих старцев"… Их действительно не стоило бы тревожить, если бы они в тихом одиночестве пряли свою пряжу. Но такова была в сущности позиция всей демократии, поскольку она имеет официальное представительство. "Наши Дни", краса и гордость весеннего радикализма, перепечатывали сочувственным курсивом конституционные силлогизмы московских либеральных старообрядцев. Г. Струве рекомендовал реформы, предопределенные указом, сделать отправными пунктами дальнейшей тактики. Обескураженная неуспехом первого конституционного «натиска», обеспокоенная поведением левого крыла интеллигенции, либеральная пресса молча проглотила правительственное сообщение, как случайный диссонанс в музыке сближения, и ухватилась за указ.
Но практика репрессий как бы задалась целью изрешетить либеральные иллюзии, а изданный кн. Святополком 31 декабря циркуляр*, вводивший обещанную крестьянскую реформу в колею, проложенную Плеве, заставил «Наши Дни» с горечью констатировать, что «демаркационная линия между старым и новым – одно недоразумение» (N 19)*.
Бюрократия деятельно боролась за свои незыблемые права. И в начале января даже "Новое Время" сочло своим гражданским или служебным долгом сделать донесение на "людей, играющих роль в проведении предначертаний указа 12 декабря и тем не менее допускающих (в приватных беседах с членами редакции?) надежду на возможность «разыграть» эти вопросы в том или другом направлении".
Тогда либеральная пресса стала пугать бюрократию призраком революции. Верила ли она в нее действительно? Она сама этого никогда подлинно не знает. Когда она стоит пред не сдающейся бюрократией, ей начинает казаться, что революция надвигается. Вот она ближе и ближе. Уже слышен звук ее железных сандалий. Уже заревом ее зловещего факела горит небосклон.
Сдайся, пока не поздно! – кричит либеральное общество. Смотри, она идет!
А когда то же общество становится лицом к «ней», оно сомневается в ней. Оно видит зарево ее факелов и слышит стук ее сандалий и даже вкладывает пальцы свои в ее гвоздяные язвы – и все же сомневается в ней.
Так, умоляя, надеясь, грозя и отчаиваясь, стояло либеральное общество в полной растерянности к концу 1904 года. Оно еще не снимало руки с левой половины груди, где у него таится родник признательного доверия, но уже косило глазами влево – и надеясь на поддержку и боясь, что эта поддержка может сорвать соглашение, которое все же, быть может, еще возможно.
Тогда пришли "эти дни", страшные и великие дни, которых уже никакая сила не возьмет обратно. Пришло 9 января.
II. 9 января и интеллигентская демократия
Либеральное общество было застигнуто врасплох. Оказалось, что вулкан действительно способен извергать лаву. Широко раскрытыми глазами ужаса и бессилия «общество» наблюдало из своих окон развертывающуюся историческую драму. Активное вмешательство интеллигенции в события носило поистине жалкий и ничтожный характер. Вот как повествует об этом записка инженеров. "Вероятность кровавого конфликта была ясна всем мыслящим людям столицы еще накануне 9 января. Общество, внезапно захваченное надвигающеюся грозой, в мучительном волнении и растерянности искало средства предотвратить трагическую развязку. Группа интеллигенции, собравшаяся поздним вечером 8 января, ища выхода из грозного положения, избрала из своей среды несколько особо уважаемых лиц* с тем, чтобы они предупредили представителей высшего правительства о неизбежных последствиях принятых им распоряжений". Депутация отправлялась к князю Святополку-Мирскому и к г. Витте – «с надеждой, – как объясняли „Наши Дни“, – осветить вопрос так, чтобы можно было избежать употребления военной силы». Стена шла на стену, а демократическая горсточка думала, что достаточно потоптаться в двух министерских передних, чтобы предотвратить непредотвратимое. Ах, какую жалкую роль сыграла в событиях 9 января, какую беспомощность обнаружила ее величество «критически-мыслящая личность»!
"Всем известно, – жаловалась записка инженеров, – какое отношение встретили к себе эти лица (Святополк-Мирский их не принял) и какая судьба их постигла (они были арестованы)". Не они ли признаны теперь тайными руководителями рабочего движения, "злонамеренными людьми, придавшими ему политический характер?" Поистине, это было несправедливо: видит бог, что ни петербургский гласный Кедрин*, ни профессор Кареев* не были повинны в тайном руководительстве рабочим движением!..
Но ураган пронесся, – либеральное общество начало приходить в себя и подводить итоги.
"Если есть люди, которые и теперь ничему не научились, – писало «Право», – то сознательные свидетели происходившего пусть ничего не забудут!.."
"В чем же смысл минувших событий, поскольку он доступен нашему пониманию (sic!)? Где исход?.. Чему верить и на что надеяться? Мы хотели бы верить и надеяться, что ничтожно число людей…, думающих, что история наша не сказала нового слова и не выставила новых сил, стеревших (стерших?) старые, обманувшие слова и изжитые силы".
"Мы верим в новые слова и ждем новых сил. В них и в них одних мы видим залог мирного будущего нашей родины…" (1905, N 2)*.
Хотя довольно трудно понять, каким это образом девятое января оказалось залогом мирного будущего, но хорошо и то, что старые, обманувшие слова отныне стерты, а место их занято верой в новые силы. Отныне демократы из «Права», как "сознательные свидетели происходившего", обещают ничего не забывать, не верить старым обетованиям, полагаться лишь на силу выступивших рабочих масс, – поскольку вообще язык демократии "доступен нашему пониманию".
Но мы увидим сейчас, как коротка память у "сознательных свидетелей происходившего"! 18 января они клянутся ничего не забывать. Через месяц, ровно через месяц, 18 февраля, они все забудут. Они снова поверят старым обманувшим словам и изжитым силам – и снова встретят их доверчивыми, признательными и пламенеющими готовностью…
Далеко не вся либеральная печать, ошеломленная колоссальными событиями, сумела подняться хотя бы на высоту расплывчатых выводов «Права». Гордость и краса весеннего радикализма, "Наши Дни" писали о кровавом дне: "Когда рушатся моральные устои политического порядка, то разрушаются и узы всякого порядка. Самые незаконные средства борьбы приобретают в массах опасную (для кого?) популярность, вызывая панику одних, озлобление других. Массы мятутся и не могут заниматься мирным трудом. Культурная работа невольно приостанавливается. Стране начинает угрожать культурное одичание" (17 января)*. Вот какие дрянные реакционные аккорды извлекла из своих демократических струн эта газетка ограниченного мещанского радикализма! Она сумела лишь пугнуть правительство и господствующие классы опасной популярностью незаконных средств, а в революционной стачке она усмотрела путь культурного одичания. И воспользовавшись возобновлением типографских работ, чтобы опубликовать эти государственные афоризмы напуганного и поглупевшего от страха филистера, газета позволила себе бросить упрек своим типографским рабочим, которые отошли в январские дни от «мирного труда», оборвали «культурную работу» «Наших Дней» и поставили столицу перед опасностью «культурного одичания». «В эти трагические дни печать молчала. Может быть, они были бы менее жестоки, менее кровавы (ну, конечно!), если бы среди общей растерянности раздавался голос правды и успокоения. – Увы! – ханжески вздыхает газета, – этого не поняли не только те, для которых печать – всегда бедствие; этого не могли принять в соображение и те массы, для которых в эти дни правда была нужнее хлеба насущного… Не укоризну, не упрек бросаем мы, – спохватывается газета, только что поставившая на одну доску „непонимание“ правительством и „непонимание“ массами великой миротворческой роли „Наших Дней“, – не укоризну, не упрек бросаем мы, но мы не можем умолчать об этом факте, вносившем еще лишний тяжелый аккорд в ту трагедию, которая была нами пережита».
Претенциозная пошлость этих строк, первых строк в первой статье, посвященной величайшему событию новой русской истории, прямо-таки невероятна!
Если бы газеты выходили, если б слышался голос "правды и успокоения", события, может быть, были бы менее кровавы! Как много либеральных газет вышло после девятого января! Из них можно было бы построить колоссальный бумажный храм "правды и успокоения". Но как много рабочей крови пролилось после 9 января! Если б направить ее одной сплошной рекою, она бы снесла и бесследно разметала этот храм правды и успокоения.
Вандализм рабочих сделал то, что "среди общей растерянности" не раздавался, видите ли, мужественный голос либеральной журналистики. Несчастная! "Среди общей растерянности" она была растеряннее всех. Что могла бы сказать она 9 января, чего она не сказала после? Что сказала она после, что могло бы иметь хоть какое-нибудь значение 9 января?..
Поверьте, господа, если бы петербургские рабочие, которым правда действительно была нужнее хлеба насущного и даже нужнее жизни, – они сумели это неотразимо показать! – если бы они привыкли находить нужную им правду у вас, если бы они могли хоть сколько-нибудь надеяться найти ее у вас, они бы вам доставили при самых страшных условиях возможность печататься и распространяться. Своим публицистам они всегда доставляют такую возможность, чего бы это ни стоило! Но скажите, ради бога, чем вы заслужили такое доверие рабочих, которых вы, по вашему же собственному заявлению, впервые заметили на политической сцене только 9 января? Чем? Тем, что никогда не верили в их значение? Для того, чтобы наборщики отделились в решительный момент общего наступления от боевой армии и остались с вами, они должны были видеть в вас один из своих штабов. Скажите, ради бога, решились ли бы вы заявить претензию на такую роль? Могло ли прийти рабочим в голову, что вы способны на такую роль? И если бы им это на день пришло в голову, разве не поспешили бы вы сами их жестоко разочаровать в этом?
Если определять влияние пролетарского выступления на демократию по январским статьям либеральной прессы, можно в ужас прийти от ничтожества результатов. Статья "Наших Дней" является типической по мелочности выводов и интеллигентскому высокомерию. Вместо того, чтобы взвесить объективный смысл события, которое в своем роде стоит 14 июля*, вместо того, чтобы сделать выводы для политической тактики, либеральная пресса набормотала много жалких слов по поводу кровавых событий, которых, видите ли, не было бы, если бы власть имущие вняли в свое время ее предсказаниям и увещаниям.
Но действительное влияние 9 января на интеллигенцию, как и на всю вообще оппозицию, было неизмеримо глубже.
События январских дней, с одной стороны, приподняли демократию, укрепили ее демократическую уверенность, а с другой стороны, придавили ее к земле, показав, как ничтожно, в сущности, ее значение на чаше исторических весов, когда вопрос с газетного поля переходит на поле боевое.
Пред сознанием либерального общества впервые вопрос политической свободы выступил в реальных формах, как вопрос борьбы, перевеса силы, давления тяжелых социальных масс. Не сделка парламентеров либерализма с барышниками реакции, но победное наступление масс, безостановочная атака, не считающая жертв, как эта стихийно-патриотическая японская армия при штурмах Порт-Артура, – вот какая идея была заброшена Кровавым Воскресением в сознание левой интеллигенции! И какими ничтожными в свете кровавого зарева показались интеллигентские банкеты и все эти резолюции, построенные по земской схеме, и диким показалось, что можно было ждать падения Иерихона от голоса нескольких десятков земских либералов и нескольких сотен их подголосков. Пролетариат, эта политическая «фикция» марксистов, оказался могучей реальностью…
"Чего не в силах были сделать десятилетия словесных прений, – говорит «Право» в апреле, оглядываясь назад, – реальная, практическая жизнь разрешила одним взмахом исторических крыльев. Теперь ли, после кровавых январских дней, подвергать сомнению мысль об исторической миссии городского пролетариата в России? Очевидно, этот вопрос, по крайней мере, для настоящего исторического момента, решен, – решен не нами, а теми рабочими, которые в знаменательные январские дни, страшные кровавыми событиями, вписали свои имена в священную книгу русского общественного движения". Вот каким языком заговорила либеральная печать об "исторической миссии городского пролетариата"!
Интеллигенция, которой еще так недавно казалось, что «народ», отрезанный от нее колючей проволокой полицейских заграждений, бесконечно отстал в своем политическом развитии, должна была на самом деле сделать решительный скачок, чтобы не отстать от лозунгов выступившего из подполья незнакомца – пролетариата. От неуклюжей, многословной и неясной земской формулы призыва представителей народа к участию в законодательной работе и пр. и пр., она перескочила к резкому, как удар бича, отточенному европейской историей лозунгу Учредительного Собрания.
Она переняла от пролетариата требование всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. И она подняла на ноги все свои силы, привела в движение весь свой аппарат – общества, газеты, коллективные записки, чтоб распространить этот лозунг.
Либеральная пресса в свою очередь вынуждена была принять основной демократический лозунг под давлением демократической интеллигенции, напиравшей на нее со своими резолюциями и заявлениями. При этом пресса делала такой вид, будто с этим лозунгом она родилась. Конечно, это наименьшее из ее преступлений…
Выступление пролетариата дало перевес радикальным элементам в рядах интеллигенции, как ранее земское выступление дало перевес элементам оппортунистическим. Вместе с тем более явственно наметилась в либеральном обществе линия раскола между демократией и цензовой оппозицией. Призрак политического единодушия всего «общества», говорящего одним и тем же языком, был разбит. Вопрос: как? все больше расчленялся в политической действительности – с земцами, чтобы воспользоваться движением масс, – или с массами, чтобы отстранить от руководства выжидающих своего часа земцев?
Эта альтернатива, казавшаяся доктринерской в теоретическом предвосхищении марксистов, вдруг оказалась страшно реальной. В каждом вопросе приходилось от нее исходить и к ней возвращаться.
Пролетарское выступление дало перевес левым группам демократии, так как оно создавало для них точку привеса. Отныне этапы пролетарской борьбы становятся тактическими вехами для радикальной демократии. Она повторяет его лозунги, поддерживает его требования мерами, какие имеются в ее небогатом арсенале, протестует против насилий над ним, требует внимания к нему от городских дум… Она начинает подчас говорить языком гнева и угрозы. Она становится решительнее, старше, требовательнее к своим политическим вождям.
Едва успели похоронить жертвы 9 января, как "Московским Ведомостям" пришлось уже доносить на московское общество сельского хозяйства, которое в общем собрании 14 января постановило:
"1) Выразить свое глубокое негодование по поводу бесчеловечного произвола, оказавшегося в избиении безоружной толпы рабочих…
2) Признать, что единственным выходом из современного положения может быть лишь немедленный созыв Учредительного Собрания на основании всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права".
Петербургские инженеры в своей цитированной нами выше "записке 198"*, правда, не повторяют рабочих лозунгов: записка подавалась г. Витте, как председателю комитета министров, через особую депутацию, и потому из политической вежливости Учредительное Собрание заменено в ней чрезвычайно неопределенным требованием «проведения в жизнь начал общегражданской политической свободы»; зато записка в сдержанной форме, но выразительно по существу изображает провокаторско-полицейскую тактику власти в отношении к пролетариату и закономерную эволюцию рабочих в сторону политической борьбы.
150 московских инженеров, положивших начало московскому отделению "союза инженеров", всецело присоединились к выводам записки 198 и решили довести об этом до сведения комитета министров.
"Инженеры и техники, работающие в юго-западном крае", приветствовали "голос своих петербургских товарищей, раздавшийся после дикой расправы 9-11 января", и, присоединяясь к записке 198, заявили с своей стороны уверенность в том, что нормальный ход жизни мыслим лишь "при установлении у нас представительного образа правления, организованного на основании всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права".
Протест московского общества сельского хозяйства, как и сделанный им политический вывод, был подхвачен многими организациями. 13 февраля собрание харьковской адвокатуры охарактеризовало положение России следующими энергичными чертами: многочисленные политические аресты, массовые убийства граждан в Петербурге, Варшаве, Риге, Баку и многих других городах, распространение усиленной охраны взамен обещанного упразднения, закрытие наиболее достойных органов прессы взамен обещанного предоставления печати возможности быть "правдивой выразительницей разумных стремлений", систематическое развращение народа клеветническими слухами о японских, английских и др. подкупах и интригах… Вместе с московской адвокатурой собрание выразило свое горячее сочувствие рабочим и соболезнование жертвам кровавой борьбы, заявило о чувстве глубокого ужаса, охватившего всех при известии о приемах подавления демонстрации 9 января, высказало свое презрение официальным и добровольным клеветникам, измыслившим, будто русский народ способен продаваться чужестранцам, и, наконец, пришло к выводу о необходимости немедленного созыва Учредительного Собрания на началах всеобщего и т. д. голосования, "так как только такая мера даст спокойствие измученной и исстрадавшейся стране". Вместе с тем собрание находит необходимым предварительное установление всех публичных свобод, как гарантию действительности выборов.
Переход к более радикальным и законченным политическим формулам совершился, разумеется, не без внутренних трений. «Зрелые» элементы либерального общества упирались, стремясь удержаться на старой позиции. Так, напр., московское общество улучшения быта учащих приняло резолюцию учителей народных школ о необходимости, ввиду совершающихся в Петербурге, Курске и др. городах событий, созыва Учредительного Собрания на соответственных основах, лишь большинством 88 голосов против 60, вотировавших за более умеренную резолюцию, предложенную небезызвестным земцем, князем П. Д. Долгоруким*.
Ссылка на земские тезисы встречается все реже и реже, притом лишь у наиболее чуждых политике или наиболее «солидных» и потому косных элементов либерального общества. Так, напр., московские композиторы и музыканты во имя свободы искусства заявляют 2 февраля: "Россия должна, наконец, вступить на путь коренных реформ, намеченных в известных одиннадцати пунктах постановлений земского съезда, к которым мы и присоединяемся". Записка русских драматических писателей, во имя той же свободы искусства, глухо говорит об обновлении России на началах строго-правового государства. Совет Харьковского университета в записке 4 февраля, формулирующей конституционные требования в духе земских резолюций, не говорит ни о конституанте, ни о всеобщем голосовании. Из провинции приходят еще в течение января и февраля время от времени резолюции, не идущие дальше "участия населения в законодательной работе через посредство свободно выбранных представителей народа" (собрание членов народной библиотеки-читальни в Ельце, 23 января, агрономический съезд в Сумах, 5 февраля, Томское юридическое общество – после рескрипта 18 февраля). Но подавляющее большинство резолюций заканчивается стереотипной формулой Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.
Если в первый период, от 9 ноября по 9 января, резолюции имели главной своей задачей показать правительству, что "все общество" поддерживает земцев, то отныне резолюции должны формулировать связь интеллигенции с массой – они превращаются, главным образом, в агитационное средство. Московское сельскохозяйственное общество прямо постановило разослать упомянутую выше резолюцию всем земским управам, городским думам, сельскохозяйственным обществам и волостным правлениям. В других случаях та же цель достигается посредством опубликования в печати.
По мере того, как меняется адресат резолюций, меняется и их тон. Уже никто не согласен верить, или, по крайней мере, не решится сказать, что резолюция дает больше "добрых результатов", если исключить из нее слова, которые "могут раздражить". Наоборот, резолюции все чаще и резче начинают подчеркивать, что из Назарета они вообще не ждут никаких "добрых результатов".
Так, собрание учащих субботних, воскресных и вечерних школ г. Одессы с глубоким негодованием отмечает произвол и насилие администрации в деле народного просвещения и, присоединяясь к голосу "всего русского народа", требует немедленного созыва Учредительного Собрания из народных представителей, избранных на основании всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов.
В этом новом фазисе истории демократической интеллигенции снова повторилось то же, что после ноябрьского совещания, только в более широком масштабе.
Либеральное общество, подхватившее лозунги, данные петербургским пролетариатом, как перед тем оно подхватило резолюцию земского совещания, с минуты на минуту ждало, что абсолютизм падет под могучим напором. Но на самом деле абсолютизм не пал, – пал только Святополк-Мирский.
Всеобщая стачка, на основе которой выросло 9 января, прокатилась по всей России. И общество и власти стали свыкаться с ней, почти как с нормальным явлением. Эта вторая волна, несравненно более могучая, чем первая, не снесла устоев абсолютизма. Враг устоял, оправился и проявил такую дьявольскую энергию в репрессии, какой никто уже от него не ожидал. Либеральное общество снова начало терять почву под ногами. Отрезанное условиями своего мирка от того социального резервуара, где формируются чувства и настроения массы, оно пришло лишь на несколько часов в соприкосновение с нею и затем снова осталось у разбитого корыта либеральных надежд, когда масса исчезла в подземелье так же таинственно, как из него появилась. Неспособное приобщиться ни делом, ни мыслью к тому молекулярному процессу, который подготовляет катастрофы массовых выступлений, либеральное общество стало снова переходить от оптимистических надежд к скептицизму растерянности.
Либеральная пресса, которая далеко не в полной мере отражает подъем демократических настроений даже одной лишь интеллигенции, как нельзя быть лучше отражает все их понижения. Что же дальше? – спрашивает она растерянно и не находит в своей опустошенной душе ничего, кроме веры в "старые обманувшие слова" и надежды на prince bienfaisant, на благодетельного сановника.
"Общественный барометр, – пишут "Наши Дни" 26 января*, по-прежнему отмечает высокое давление. Разум и сердце страны (т.-е. интеллигенции?) жаждут, чтобы ясная погода основных реформ предупредила падение барометра". Это – полуугроза, полумольба.
К началу февраля ревматическая тоска "критически-мыслящих личностей" по ясной погоде правительственных реформ становится уже совершенно нестерпимой. "Надо выступить решительно, без всяких оговорок, на путь органических реформ", взывают "Наши Дни". "Решаясь созывать Земский Собор, безусловно необходимо, для того, чтобы он привел к своей цели мирного разрешения кризиса, немедленно разрушить те преграды, которые делят общество и правительство на два враждебных стана" (N 37)*.
Прошлое идет насмарку, у демократии и у правительства оказывается одна и та же цель, одно и то же средство: полюбовное разрешение кризиса посредством созыва Земского Собора. И критически-мыслящая личность требует, чтобы немедленно было приступлено со стороны власти к разрушению стены, которая делит арестантов и их тюремщиков "на два враждебных стана".
Давно ли, давно ли «Право» восклицало: "Эти проклятые картины долго еще будут вставать в нашей памяти, тревожа ее, как живая действительность… Если есть люди, которые и теперь ничему не научились, то сознательные свидетели происходившего пусть ничего не забудут!.."
Рескрипт 18 февраля*, продукт ноябрьского и январского выступлений, заставший либеральное общество в состоянии растерянности, заставил его снова обратить взоры к бюрократии. Начинает казаться, что главное уже сделано, перевал через самый острый кряж совершен. Правда, враг не повергнут в прах. Но единодушным напором земцев, интеллигенции и «народа», «поддержавших требования общества», у бюрократии исторгнуто заявление, которое связывает ее по рукам и ногам. Правительство обязалось созвать свободно выбранных представителей народа. Но свободные выборы предполагают существование необходимых гарантий. Правда, эти гарантии не даны, но так как они логически и фактически необходимы, то они не могут быть не даны. Обещан созыв представителей народа. Но для того, чтобы весь народ мог высказаться, необходимо всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Иначе представители не будут представителями народа. Все это казалось неотразимо убедительным в своей, как выразилась одна газета, «божественной простоте».
Мы ждем торжественного провозглашения гарантий, мы ждем назначения срока! – говорит снова оправившееся правое крыло либерального общества, почувствовав под собою «незыблемую» почву рескрипта 18 февраля.
Мы слышим снова в либеральной прессе весенние ноты, только чуть-чуть надтреснутые. "Старые обманувшие слова", которые, как мы видели, вовсе и не исчезали, теперь снова получают радостную популярность. Доверие, доверие – вот лозунг и пароль. И в то время, как левое крыло интеллигенции и, прежде всего, студенчество сердито и недоверчиво хмурится, правая половина с замиранием сердца ждет и надеется.








