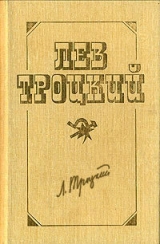
Текст книги "Том 2(1). Наша первая революция. Часть 1"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 57 страниц)
Нижняя палата может, правда, отвергнуть законопроект о военном положении. Но к чему это поведет?
Допустим, например, что верхняя палата предлагает объявить Польшу на военном положении. Нижняя не соглашается. Ее распускают с приглашением восстановиться через шесть месяцев. Само собою разумеется, распущение делается не для того, чтобы ждать с вопросом о военном положении полгода. Такие дела, рассчитанные на внезапное спасение отечества, вообще не терпят отлагательства.
Итак, народ отослан домой, земцы в согласии с короной объявляют Польшу на военном положении. Вопрос решен. Правда, через полгода придется отдавать отчет перед представителями народа. Но ведь это будет только через полгода. А за такой срок много может утечь крови под варшавскими и лодзинскими мостами… И во всяком случае через полгода у правительственной реакции будет то преимущество, что она представит народной палате не законопроект военного положения, а совершившийся факт: умиротворительный разгром целой страны. Законопроект можно бросить в корзину, а совершившийся факт нельзя отменить даже "законодательным порядком".
И наконец, зачем ограничивать себя только Польшей? Почему не набросить аркан военного режима – на твердом основании «демократической» конституции – на все беспокойные места, где можно ждать нежелательных выборов? И тогда еще вопрос, как посмотрят на правительственное деяние представители, избранные народом под солдатскими штыками при полном отчуждении всех "неотчуждаемых прав".
IV. Гарантии конституции и народных прав
Итак, конституция, столь счастливо объединяющая демократических строителей из «Освобождения», «Права», «Русского Богатства» и «Сына Отечества», дает в руки реакции превосходное и испытанное средство военного положения. Какие же средства дает она народу для охранения его прав? Правда, в отделе об императорской власти мы читаем, что император приносит присягу в соблюдении и охранении основного государственного закона, – и это совершается в присутствии Святейшего синода, который, таким образом, сохраняет значение государственного установления, – как православие вообще сохраняет значение государственной религии. Под углом зрения нравственного идеализма, философской религии освобожденцев, присяга, конечно, очень серьезная гарантия. Но мы только что имели случай видеть, как мало идеализм гарантирует самих идеалистов от измены делу демократии.
Мы видели, как горделивая демократическая мысль, исходящая из чистой идеи естественного права, падает на колени перед традицией и ставит над суверенной нацией наследственного монарха!
Мы видели, как абсолютная справедливость, для которой равенство – извечный постулат, предательски отдает народ под опеку буржуазии!
Мы видели, как идеалистическая личность, обнаженная от всех гарантий, похотливо падает на ложе военной диктатуры!
Поэтому будем сдержаны и не станем считать религиозную или философскую присягу гарантией народных прав. Потребуем реальных гарантий. Тщетно, однако, стали бы мы шарить в освобожденском "проекте основного закона". Этот жалкий идейный ублюдок, предусматривающий все: квартиры для избирательных бюро, часы подсчета голосов и казенную печать на избирательном конверте, – не предусматривает только одного: организационных гарантий свободы и народных прав!
Правда, можно сказать, что основные права граждан обеспечиваются от нарушения: а) судебной властью; б) ответственностью должностных лиц; в) постоянным участием народного представительства в осуществлении законодательной власти; г) отменой так называемого административного права.
Рассмотрим эти гарантии, долженствующие обеспечивать народные права от произвольных нарушений.
Но, прежде всего, попытаемся выяснить, что можно считать действительной, реальной гарантией.
"Уложение о наказаниях", само по себе, не представляет никакой решительно гарантии для собственности и жизни. Статьи уложения, сами по себе, не имеют никакой мистической власти над нарушителями собственности или убийцами. Но за этими статьями стоит материальная организация полиции, судов и тюрем. Уничтожьте эту организацию, и «уложение» будет так же мало обеспечивать жизнь и достояние, как и сборник рецептов поваренной книги. "Уложение о наказаниях" получает свое значение формальной гарантии лишь постольку, поскольку оно опирается на эту материальную «гарантию».
С этой единственно реалистической точки зрения становится ясным, что "отмена административного права", как мера чисто-юридического характера, не может играть роли материальной гарантии против незаконных и насильственных правонарушений.
"Участие народного представительства" в законодательной власти, т.-е. привлечение в столицу нескольких сот человек, избранных народом, само по себе тоже не составляет какой-нибудь реальной конституционной гарантии. Прежде всего, «участие» представителей может ограничиться ролью молчаливых или протестующих свидетелей творимых насилий. Наконец, сегодня призванные к участию, они завтра могут быть отстранены от него. Какая же это гарантия?
Ответственность должностных лиц по суду за нарушения законов и прав граждан при соответственной организации судебной власти несомненно может служить надежной гарантией против частных правонарушений, совершаемых отдельными чиновниками. Но она, очевидно, не может охранить граждан от государственного переворота. Правительство, которое ставит своей задачей ниспровержение конституционных основ, не будет, разумеется, остановлено страхом пред судами, охраняющими существующие конституционные права. Гораздо более реальную гарантию в этом отношении представляет выборность чиновников народом, но об этом кардинальнейшем демократическом требовании наш проект не говорит ни слова. А между тем ясно, что только выборный полицейский, бюрократический и судебный персонал, периодически обновляемый, неспособен выродиться в постоянную организованную угрозу народным правам и интересам.
Но если выборная бюрократия и не станет активной силой государственного переворота, то сама по себе она, разумеется, не в состоянии охранить народ от вооруженных покушений на его права. Самой лучшей администрации останется лишь скрестить руки, когда власть будет передана боевым генералам. Протесты и постановления самых энергичных прокуроров останутся бессильными, когда из свиты победоносных генералов выделятся военные суды. История 48 года прекрасно знает, как это делается.
Какой же вывод следует из сказанного?
Простой и ясный. Народное представительство, ответственная бюрократия и независимый суд должны опираться на материальную силу. Такую постоянную, уверенную в себе силу может представить только вооруженный народ. Вот почему упразднение постоянной, искусственно дрессированной армии и замена ее народной милицией должны стоять во главе угла всякой истинно-демократической программы. Милиция, это – действительная реальная гарантия и народоправства, и прав личности. Никакая декларация, хотя бы она была не в пример решительнее и определеннее, чем трусливое, озирающееся освобожденское творение, не может обеспечить народу его прав, если она не опирается на его организованную силу.
Что же по этому вопросу дает нам "проект основного закона"? Он дает нам, как мы выше видели, ценный по своей определенности ответ: "Императору принадлежит, – читаем мы в отделе "об императорской власти", – верховное начальствование сухопутными и морскими вооруженными силами Российской державы. Он производит в чины. Все военные и военно-морские должности замещаются или им, или лицами, ему подчиненными".
Таким образом, сохраняется постоянная армия, это страшное орудие порабощения целого силою порабощенной части. Мало того: постоянная армия по-прежнему остается в руках лица, ни пред кем не ответственного, стоящего над конституцией. Это ничто иное, как абсолютизм, прикрытый ширмами демократии. Можно было бы, в сущности, не подвергать рассмотрению ни вопроса о двух палатах, ни вопроса об избирательной системе, – достаточно поставить вопрос о постоянной армии или милиции, чтобы сразу выяснить ценность конституции, которою ощенилась освобожденская мысль.
V. Организованный государственный переворот
Абсолютизм сохраняется, как принцип, – но и не более, как принцип. По существу же конституционные определения стремятся превратить монарха в царствующего, но не правящего страной.
За императором, как мы видели, оставлено право роспуска палаты, право объявления войны и заключения мира. Но роспуску подлежат лишь народные представители, – депутаты земств не могут быть отосланы короной. Для войны нужны деньги, а вотирование денежных сумм зависит от Государственной Думы. Монарх назначает министров, но министры ответственны пред большинством палаты; в сущности он не назначает министров, а лишь называет их вслух. Монарх "утверждает и обнародует законы", но не он их издает. Законодательная работа – дело Государственной Думы; монарх лишь скрепляет то, что она постановляет. И так во всем. В конституционном идеале функции монарха должны приобрести чисто-механический характер.
В 1791 г. философ-республиканец Кондорсэ*, иронизируя над внутренне-противоречивым учреждением конституционно-демократической монархии, предлагал открытым письмом за подписью «молодой механик» изготовить для конституционной комиссии в две недели и притом за недорогую цену короля, идеального конституционного короля, который участвовал бы во всех торжествах, подписывал бы бумаги и давал бы законам свою королевскую санкцию. «Если будет решено, что для монархии существенно, чтобы король выбирал и отрешал министров, при чем, согласно здравой политике, он, как известно, должен всегда сообразоваться с желаниями партии, владеющей большинством в законодательном собрании, председатель которого является одним из ее вождей, то легко придумать такой механизм, с помощью которого король будет получать список министров из рук очередного председателя, с выражением благосклонности и величия на лице… Мой король, – обещает молодой механик, – будет вполне безопасен для свободы и вместе с тем, при аккуратной починке, он был бы бессмертным, что даже еще лучше, чем быть наследственным. Можно было бы даже объявить его неприкосновенным, без несправедливости, и непогрешимым, не впадая в абсурд».[64]64
Олар. «Политическая история Великой Французской Революции», Москва, 1904 г.
[Закрыть] Механический монарх, с выражением благосклонности и величия на лице, до наших дней остался идеалом демократов-монархистов. Освобожденский проект путем конституционных определений хочет разрешить техническую задачу Кондорсэ.
Но та же самая конституция, которая хочет лишить монарха привычного полновластия, лицемерно твердит ему, что он – суверенен. "Верховная власть Российской империи осуществляется императором"… "Император есть верховный глава государства"… "Императору принадлежит власть верховного управления"… и пр. и пр.
Таким образом, если император захочет найти в основных законах прямое и непосредственное изображение своей государственной роли, он представится себе сувереном. К этому же представлению толкают его традиции самодержавия. Конституция, однако, связывает его по рукам и по ногам и ставит в невыносимо противоречивое положение.
Но та же самая конституция дает ему средства выхода из нестерпимого противоречия: она оставляет в его руках армию.
Конечно, конституция требует от монарха присяги, а эта присяга должна удержать его от злоупотребления военной силой и от покушений на конституцию. Но ведь монарх не может забыть, что эта новая присяга, как и вся конституция, есть ничто иное, как плод победоносного нарушения верноподданнической присяги со стороны целого народа. Очевидно, победа освящает и нарушение присяги. Такой вывод напрашивается сам собою, и при благоприятных обстоятельствах он будет, разумеется, сделан конституционным монархом, как он делался монархом самодержавным. Вспомним Польшу и Финляндию!
Если бы в присягах заключалась та сила, какую им приписывают, на свете не происходило бы ни революций, ни государственных переворотов.
Освобожденская конституция, лишающая монарха действительной самостоятельности и в то же время провозглашающая его главой государства, отнимающая у него верховную власть и в то же время оставляющая в его руках главную силу этой власти, армию, эта конституция представляет собою ничто иное, как идеальную провокацию к государственному перевороту. Точнее сказать – государственный переворот уже заложен в самой конституции.
И это не случайный недосмотр, это – неизбежность.
Буржуазный либерализм скорее согласится отказаться от всех демократических принципов, от всех неотчуждаемых прав, чем от конституционной монархии со всеми ее нелепостями и опасностями. Ибо противоречие конституционной монархии есть лишь отражение в государственном строе внутренних противоречий в политических интересах буржуазии. Она, как мы уже сказали, должна создать строй, достаточно либеральный, чтобы не стеснять капиталистического развития, и в то же время достаточно снабженный орудиями репрессии, чтобы охранять собственность от революционных масс. Экономическое господство буржуазии закрепляется ее политическим господством, политическое господство ставится под защиту армии, армия вручается монарху, монарх превращается в контрагента буржуазии.
Построенная на этих началах конституция есть организованный заговор буржуазных классов с обновленной короной, опирающейся на старые штыки, пулеметы и пушки. Основные права личности, все публичные свободы могут быть в каждую данную минуту превращены в пустой звук, раз армия остается в руках короны, – да какой короны! – еще ни на минуту не прекращавшей практики самовластия.
Таковы освобожденцы за конституционной работой. Если б русская свобода должна была зависеть от освобожденцев, – лучше б ей тогда не родиться на свет!
Н. Троцкий. «Наша Революция», изд. Н. Глаголева, стр. 95.
6. Перед второй Думой
Наша тактика в борьбе за учредительное собрание*I
В декабре правительство вооруженной рукой подавило пролетариат и разрушило его организацию, а этого факта было достаточно, чтобы либеральные оппортунисты провозгласили крушение революционной тактики. Им казалось, что их поддерживает очевидность: пролетариат разбит, следовательно, тактика, которой он держался, не ведет к победе.
Мы отвечали либеральным оппортунистам: пролетариат разбит в бою, но это не значит, что разбита боевая тактика пролетариата. Поражение может явиться не только как продукт политических ошибок; оно может быть неизбежным результатом соотношения сил.
Если у реакции достаточное число штыков, которые не гнутся, и достаточное количество солдатских рук, чтобы направить эти штыки, тогда революция может потерпеть военное поражение совершенно независимо от тех или других тактических промахов.
Но если декабрьское поражение пролетариата имело своей причиной недостаточность его сил, то не состоит ли ошибка именно в том, что он, не будучи достаточно сильным для победы, принял сражение?
На этот вопрос можно дать только отрицательный ответ.
Прежде всего, в революции, как и в войне, момент сражения не определяется доброй волей одной из сторон, чаще всего он непосредственно вытекает из положения и настроений обеих враждебных армий. При известных условиях уклониться от сражения можно не иначе, как покинув занятую и укрепленную позицию и бежав с поля битвы. Такая тактика, несомненно, спасает от непосредственного поражения, но всегда ли она целесообразна? Не способна ли она внести в собственные ряды деморализацию и тем подготовить будущее поражение? И, наконец, если на войне, благодаря механической дисциплине армии, можно в каждый данный момент увести ее всю целиком с поля сражения, то это совершенно недостижимо в революции: здесь уклониться от восстания, раз оно подготовлено предшествующим развитием борьбы, означает для организованных сил иногда ничто иное, как оставить под неприятельским огнем массы. Перед такой именно перспективой стояла социал-демократия в декабре: она могла не принять вызова реакции и отступить на заранее подготовленные подпольные позиции, предоставив правительству громить легальные и полулегальные рабочие организации, созданные при ее ближайшем участии; она купила бы себе таким образом действий возможность смотреть на революцию со стороны, резонерствовать по поводу ее ошибок и вырабатывать безупречные планы, недостаток которых состоит единственно в том, что они являются на сцену лишь тогда, когда в них уже нет никакой надобности. Словом, партия могла бы усвоить себе тактику, составляющую ныне собственность отдельных политиков, которых Парвус удачно назвал "литературными резонерами". Можно себе представить, как такая тактика способна укреплять связь между нами и массой!
Партия уклонялась от сражения дотоле, доколе это было в ее силах. 22 октября по ее инициативе Совет Рабочих Депутатов в Петербурге отменил траурную манифестацию*, дабы не провоцировать неизбежного столкновения, не попытавшись предварительно использовать новый режим для широкой открытой агитационной и организационной работы среди масс. Когда правительство сделало преждевременную попытку атаковать страну и, для опыта, объявило Польшу на военном положении, Совет Рабочих Депутатов, придерживаясь, по инициативе партии, чисто оборонительной тактики, не сделал даже попытки довести ноябрьскую стачку до открытого столкновения, но превратил ее в манифестацию протеста, удовлетворившись ее огромным моральным эффектом и косвенным практическим результатом.
Но если партия уклонялась от сражения в октябре и ноябре, мотивируя это для себя и для масс необходимостью организационной подготовки, то в декабре это соображение совершенно падало, – не потому, что подготовка была налицо, а потому, что правительство начало борьбу именно с разрушения всех созданных в октябре и ноябре революционных организаций. Если бы при этих условиях партия и могла уклониться от сражения, если бы она и могла увести с поля борьбы массы, захваченные «легально» революционными организациями, она, поступив таким образом, сознательно пошла бы навстречу восстанию при еще менее благоприятных условиях: при полном отсутствии прессы и широких влиятельных организаций, а также при неизбежной деморализации, вызванной отступлением.
Декабрьское восстание было неизбежностью, его поражение было результатом военного перевеса реакции над революцией. Но, будучи военным поражением, декабрьское восстание было политической победой: оно чрезвычайно ускорило процесс разложения армии и поставило революционный пролетариат в центре сочувственного внимания огромных масс городского и сельского населения. Другими словами, декабрьское восстание вызвало решительное изменение в том соотношении сил, которое создало возможность декабрьского поражения.
II
Но динамика революции для либеральных оппортунистов – книга за семью печатями. Декабрьское восстание не дало победы, следовательно, тактика революции должна быть отвергнута. Эту позицию заняла руководящая в либеральных сферах группа, так называемая конституционно-демократическая партия. Вся агитация кадетов за Думу и вокруг Думы была решительно антиреволюционной. Дума противопоставлялась «анархии», парламентские прения – революционной борьбе.
Мы оставляем сейчас в стороне вопрос, насколько целесообразна была со стороны пролетариата тактика бойкота Думы. Мы думаем, что она была нецелесообразна. Но она несомненно имела свое психологическое оправдание: во-первых, в настроении рабочих масс после декабрьских событий, во-вторых, в антиреволюционной агитации кадетов, корифеев избирательной кампании.
– "Вы пробудили в капиталистической оппозиции классовые чувства вашей безумной тактикой захватного восьмичасового рабочего дня. Вы восстановили против себя конституционную демократию вашей недостаточно мотивированной ноябрьской стачкой. Вы устроили в декабре трижды безумное восстание и обрушили на страну ужасы кровавых репрессий. Дайте же место нам, конституционным демократам. Не мешайте нам собрать Думу. На конституционном пути мы достигнем того, чего вы не могли достигнуть на вашем революционном пути. Не мешайте нам собрать Думу. Мы снимем бюрократию с такой легкостью, которая всех поразит!"
Разбитый, израненный пролетариат не в силах был развернуть широкую и решительную агитационную кампанию. Наоборот, средние слои населения, пробужденные к политической жизни шумом октябрьских, ноябрьских и декабрьских событий и возмущенные разгулом декабрьской реакции, голосовали за кадетов, потому что чувствовали потребность голосовать против самодержавия. Кадеты оказались в Думе хозяевами положения.
У нас нет никакого желания ни отрицать значение Думы, ни приуменьшать его. Но не нужно смешивать вопрос об объективном значении Думы с вопросом о ценности тактики кадетов.
Дума оказала огромное влияние на отсталые слои народных масс – и притом не только крестьянских и мещанских, но и пролетарских, – Дума, как учреждение, как временный центр внимания, как фокус разнообразных надежд. Но внутри Думы усилия кадетов были направлены к тому, чтобы свести революционное значение Думы к нулю. Они в Думе угрожали – и наблюдали за игрой петергофских физиономий. А их угрозы, против их воли, будили чувства достоинства и протеста в самой униженной обывательской душе. Они, кадеты, пугались собственных речей, трусливо останавливаясь перед неизбежными выводами, отрекались сегодня от того, что говорили вчера – все тщетно: политическое эхо революционной страны удесятеряло звучность их робких речей, а их уклончивость, их трусость восстановляла против них даже тех, которых они же пробудили. Таким образом Дума толкала вперед политическое сознание.
Тактика социал-демократии в думский период не могла по существу отличаться от ее тактики в октябре, ноябре и декабре. Социал-демократия не могла стать на ту, якобы конституционную почву, которой в действительности не было, которая существовала только в воображении кадетов. Но, оставаясь на своей революционной позиции, социал-демократия не могла в этот период не сделать Думу центром агитации. Кадеты надеялись, что они так долго будут повторять, будто Дума имеет власть, что им, кадетам, наконец, поверят в этом и передадут частицу власти. Социал-демократия не могла не обличать эту наивнейшую тактику, мнимая практичность которой состоит в том, что она считается (да и то очень плохо) с логикой Трепова и совершенно игнорирует логику революции.
Социал-демократия не могла не видеть, что вопросы революции будут решены не в Думе и не Думой, – и она, вопреки требованиям кадетов, не могла это скрывать от народа. Забота об единстве думских решений никоим образом не могла связывать социал-демократию. Ее задача – единство классовой борьбы, единство революционного движения, но не единство думских голосований. Более того, именно во имя единства революционной борьбы социал-демократия должна была вносить раскол между правым и левым крылом Думы. Для того, чтобы объединить все пробужденные Думой слои вокруг лозунгов революции, т.-е. фактически вокруг пролетариата, социал-демократия не могла не вести в Думе, и главное вокруг Думы, совершенно самостоятельной политики, противопоставляя ограниченным лозунгам кадетов те радикальные требования, за которые пролетариат боролся в октябре, ноябре и декабре. Социал-демократия должна была координировать свою деятельность с деятельностью Думы, но она не могла подчинить свои лозунги лозунгам Думы.
Социал-демократия должна поддерживать Думу, требовали кадеты. Бесспорно, отвечаем мы, но как? Единственная поддержка, которую она могла оказать, состоит в том, чтоб собирать вокруг Думы внимание народных масс, договаривать то, чего не договорила Дума, подхватывать половинчатые требования Думы, придавать им революционно-демократический характер – и, таким образом, давать Думе возможность не только в своей полемике с министрами, но и в своей борьбе со старым политическим строем – опереться на народные массы. В какой мере и какие элементы Думы захотят и сумеют воспользоваться этой возможностью, – это никогда не зависит от нас. Если для того, чтоб объединить всю Думу вокруг демократических лозунгов, достаточно выказать хороший тон и такт, мы должны, конечно, постараться проявить хороший тон и такт. Но опыт говорит, что этих качеств совершенно недостаточно.
Дума в лице своего большинства естественно выдвинула требование кадетского министерства, – требование несомненно прогрессивное, и, если бы оно осуществилось, это пошло бы нам только на пользу. Должна ли была социал-демократия поддержать это требование? Конечно: социал-демократия поддерживает все прогрессивные требования. Но как? Разумеется, не голым повторением либеральных лозунгов; наша поддержка имеет всегда более сложный и более обязывающий характер.
Трудность осуществления кадетского министерства была не в лицах, а в программе. Ни Милюков, ни Муромцев*, ни Петрункевич, ни Ковалевский не могут быть приняты за вандалов даже в Петергофе. Мог бы еще возбудить сомнение штуттгартский изгнанник, бывший революционер Петр Струве, – но он играет теперь в политике столь незаметную роль, что вряд ли даже возникал вопрос о вручении ему портфеля. В крайнем случае, его можно было бы назначить директором публичной библиотеки или хранителем национальных музеев без обязательства являться ко двору.
Трудность, повторяем, была не в лицах, а в программе. Обновление Думы на основе всеобщих выборов, отчуждение всех помещичьих земель, свобода прессы и собраний, суд присяжных по всем политическим делам, – вот требования, с которыми Петергоф не хотел мириться. Мы должны были развить вокруг этих именно требований, в отчетливой демократической форме, самую широкую агитацию в массах, – и, таким образом, с одной стороны, затруднить кадетам сделку на каких-нибудь мизерных основаниях, а с другой стороны, дать им возможность опереться на народные требования в своих переговорах с Петергофом.
Но сделать нашим прямым лозунгом призвание к власти думского, т.-е. кадетского, министерства, мы не могли, ибо это значило бы взять на себя перед рабочими массами ответственность за политику будущего министерства.
Если сегодня мы требуем кадетского министерства только потому, что оно лучше горемыкинского, то не приведет ли нас политическая логика к тому, что завтра мы будем поддерживать все шаги этого министерства – только для того, чтобы оно не уступило своего места министерству Столыпина?
Так или иначе, Петергоф оборвал переговоры, Столыпин разогнал Думу и объявил Петербург на положении чрезвычайной охраны. Абсолютизм хочет отвоевать у истории свои "сто дней"*.
Думский период революции закончен.
III
2 декабря министерство Витте закрыло в Петербурге 8 газет, а 3 декабря арестовало Совет Рабочих Депутатов. Либералы обвиняли нас в том, что мы своим агитационным неистовством вызвали реакцию и подкопали то, что сами создали. Мы обвиняли их в близорукости, доказывая им, что атака реакции была объективно неизбежна, а наше агитационное «неистовство» диктовалось необходимостью подготовить массы к этой неизбежной атаке. Либералы отвечали нам, что мы хотим наши тактические ошибки навязать истории.
Но вот либеральная Дума сменила рабочий Совет. В тактике Думы не было и тени неистовства. Дума имела во главе своей безупречного цензора конституционных нравов, г. Муромцева, который с непримиримостью, достойной более серьезного дела, поддерживал в ней атмосферу парламентского гипноза. Статьи официальных кадетских газет писались не иначе, как в белых перчатках.
9 июля министерство Столыпина* закрыло 7 газет, разогнало Думу и ввело чрезвычайную охрану. Либеральные политики уклоняются от ответа на вопрос: нужно ли искать причину этой новой атаки реакции в тактических ошибках кадетов или в объективном развитии политических отношений? Но если кадеты и сошлются на объективное развитие, мы им скажем: вы все же виноваты, ибо в то время, как мы это объективное развитие отношений предвидели и на этом предвидении приглашали вас строить вашу тактику, вы оставались слепы или добровольно закрывали глаза.
Кадеты утверждали, что революционная тактика исчерпала себя, что политическая борьба должна быть отныне локализирована в стенах Думы. И вот, логика думской борьбы привела к упразднению Думы и поставила кадетов лицом к лицу с вопросами революционной тактики. Кадеты обвиняли нас в том, что вместо реальной поддержки реально существующей Думы, мы готовим массы к какому-то фантастическому «выступлению». И вот, накануне роспуска Думы кадетский официоз не нашел другого ответа пред лицом напиравшей реакции, как пригрозить ей "трубными звуками" народного восстания.
Кадеты обвиняют нас в якобинской попытке подорвать государственные финансы. И вот, логикой политической борьбы они были вынуждены в июле выпустить воззвание, которое есть ничто иное, как бледная копия «якобинского» манифеста, выпущенного нами в декабре.
Кадеты порицали наш метод захвата прав. Революционной силе пролетариата они противопоставляли нравственный авторитет нации, Рабочему Совету – Государственную Думу. И вот, в то время, как наш «финансовый» манифест, под моральным давлением Совета, напечатала вся либеральная пресса, – выборгское воззвание, несмотря на весь авторитет Думы, появляется исключительно подпольным путем. Это воззвание печатаем мы, партия революции, и применяем для этой цели тот самый метод захвата, который кадеты так жестоко осудили.
В октябре и ноябре мы, опираясь на силу пролетариата, пользовались свободой прессы, собраний и союзов. В мае и июне Дума оказалась не в силах обеспечить за нами эти права.
И, наконец, скажем мы, если декабрьская реакция в своей бешеной попытке восстановить все утерянные позиции не снесла либеральной партии с ее собраниями и с ее прессой, то это потому, что она встретила революционный пролетариат на своем пути. Не думают ли либералы, что реакция нашла бы в самой себе сдерживающие начала, если бы рабочие не оказали ей мужественного сопротивления? Не думают ли кадеты, что правительство, еще в октябре разочаровавшееся в выгодах либеральной политики, утруждало бы себя созывом Государственной Думы, если б в декабре пролетариат снова не восстал против самодержавного режима?
Если правительство стояло в нерешительности пред Думой 2 1/2 месяца, то не потому, что его заворожила корректность г. Муромцева, а потому, что оно страшилось повторения декабрьских событий.
Мы утверждаем: Государственной Думы не было бы, если б не было рабочего Совета. Наоборот, Дума оказалась не в силах создать условия существования не только для Совета, но и для самой себя.








