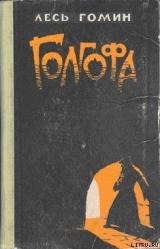
Текст книги "Голгофа"
Автор книги: Лесь Гомин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
16
Выскочив из села на ровную дорогу, Василий остановил коней, достал брезентовый дождевик и накинул его на себя. Вытащил из узла бутылку вина и выпил прямо из горлышка. Только после этого оглянулся опять на село. Оно пылало где-то в долине, зарево покрыло полнеба, выбрасывая в него снопы желтого огня. Его трясло, руки не держали хлеб, которым он заедал кислое домашнее вино.
«Куда же теперь?»
Густой дождь шумел вокруг, и мрак завладел степью и окутал одинокого Синику. Из степного шелеста, из дождевого шума родился страх. Василий отгонял его. Вывел лошадей на дорогу, сел в телегу и, отвернувшись от потоков дождя, двинулся. Лошади шли не торопясь, хлюпая по лужам, а вконец разбитый Синика прислушивался к ночи, к себе, к мольбам, которые родились в нем там, в селе, перед толпой людей самоотверженной веры.
«Что это такое? Что гонит их к нему? Кто он? Неужели тот самый Иван?»
Дождь так же внезапно утих, как и начался. Полная луна выкатилась из-за туч, упала с размаху на дорогу и поплыла впереди лошадей по лужам. На перекрестке дорог Василий круто повернул на ту, что вела влево.
«К нему! Сам увижу, кто он и что там делается. На все сам посмотрю. К нему!»
Подстегнул лошадей, чтоб догнать серебряный месяц, плывущий по лужам дождевой воды. Глубоко задумавшись, Василий и не заметил, как въехал в село. Только когда залаяли собаки, Синика очнулся и придержал коней. Подъехал ближе к церкви и выпряг лошадей. Приковал их железными путами к колесам и лег в телеге. Тяжелый сон вмиг смежил веки. И вдруг:
– Бам! Вам! – тяжело застучал в виски церковный звон. – Бам! Бам! Бам! – тревожно загудело в сердце.
«Что? Что такое?»
Протер испуганно глаза, оглянулся вокруг, и вчерашний ужас пронизал его снова.
Село проснулось. Из хат выбегали заспанные люди. Мелюзга с шумом и гиканьем неслась вперегонки туда, за село. Собаки выли, лаяли. Еще не выгнанная на поле отара шарахнулась врассыпную по улицам и с диким ревом понеслась, сбрасывая с копыт комья грязи. А люди бежали…
– Бам! Бам! Бам! – выхаркивает колокол из широкого горла тоскливо-тревожный зов. Он бросает его в степь, в лес, пугает тишину. – Бам! Бам! Бам! – кличет он и сзывает.
Люди бегут. Толпятся вокруг церкви, плачут, стонут. Бегут по одному, по двое, группами, толпами, скопищем выплывают из узеньких улочек через огороды и сады… Трещат плетни, заборы, падают каменные и глиняные ограды.
– Бам! Бам! Бам!
Люди бегут. Толпятся вокруг церкви, плачут, стонут.
– Спаси, господи, люди твоя…
Высокий поп останавливается перед толпой и машет руками, толпа трогается вслед за ним; с ревом и шумом, как широкий поток в узкое ложе реки, врывается в улочку.
Дрожащими руками снимает Синика железные путы с лошадей, запрягает их, но не трогается с места. Взбирается на телегу и смотрит в ту сторону, куда двинулась толпа.
На бугре, за селом, что-то замаячило. Увеличилось. Одна, вторая группа, толпы потоком полились вниз с горы, к селу. С ревом и стоном катилась ослепленная масса навстречу другому скопищу людей.
Синика стоит на телеге и внимательно следит за движением огромного полчища, которое тяжело шевелится, ползет. Уже начало его за селом, а конец еще не вошел и в первую улочку.
И только когда задние выходили уже за село, Василий тронулся за толпой. Пустынные улицы. Пустые хаты.
Синика задумчиво сидит на телеге.
«Куда? Что гонит их? Кто он?»
И встает перед ним его горе, постоянная тоска бездетности.
– Поеду.
Ударил по лошадям и вскоре обогнал толпу. Выехал вперед и еще раз глянул на людей. Впереди всех шел Мирон. Его глаза смотрели прямо перед собой невидящим взором. Голова высоко поднята, ноги шагают, как деревянные. За ним – разбитая икона божьей матери. Синика прикрикнул на лошадей и заторопился в Балту – там была последняя его надежда.
В Балте он оставил лошадей в знакомом дворе и, расспросив про Иннокентия, утром пошел в церковь. Терпеливо выстоял до начала службы. Как мог напрягал глаза, чтобы разглядеть на расстоянии… Он вложил в тот взгляд всю силу и глубину надежд и вдруг:
– Назад! Обман! Ужасный обман! Это он! Он! —рвалось из груди.
Рухнула надежда и покатилась с грустным звоном вниз, от сердца.
– Он – босяк, шарманщик, вор и душегуб – чудотворит! Он!
Резко повернулся и побежал к лошадям. Запряг и впервые сильно, безжалостно ударил буланых кнутовищем.
– Эгей! Эй! Домой! Нет правды, нет надежды у меня, нет! Эгей, черти, несите меня не по земле, а по воздуху! К жене!
Ветром пролетел двенадцать верст до Гидерима. Остановился напоить лошадей. Сел на телегу и злобно, с остервенением потянул из бутылки еще не выпитую водку.
«Один у меня выход – жить для себя. Себя удовлетворять, жену… Приумножить добро, продать хутор – и в город, как пан».
Другая мысль взвилась протестом:
«Хутор? Землю? Виноградники? Нет. Он их не бросит, он, Синика, вырвал их у судьбы и не оставит никому. Нет, он еще улучшит, расширит хозяйство, он съест, без соли и хлеба съест Герасима, вырвет у него его земли и один сядет на Липецкой равнине, сколотит богатство и проживет счастливо, славно. Нет, он не продаст, а, наоборот, увеличит имение».
Синика доедает завтрак и соскакивает с телеги, чтобы напоить лошадей. К телеге подходит старичок со слезящимися глазами. Дедок мнет шапку и медленно, неуверенно спрашивает Синику, не купит ли он у него пару волов. Хороших, молодых пару волов, за которых дед возьмет недорого. Совсем недорого. Это последнее и единственное его имущество, больше у деда ничего нет. За эти деньги он хочет купить своей душе вечный покой там, в раю, возле пэринцела Иннокентия.
– Сколько же вы хотите, дед?
– Двадцать рублей… – шепчет тот со страхом.
Он пугается названной цифры. Он бы и не просил столько, но очень уж хочется больший дар дать на церковь, чтобы большей благодати сподобиться. Но если проезжий пан не может за столько купить, он немного уступит. Бог видит: меньше он не должен брать.
– Пять рублей, – насмешливо бросает Синика. – Пять, дед, больше не дам.
– Мало, домнуле… Волы больно хороши.
– Пять, дед, больше – ни копейки.
Дед разводит руками. Он искренне сожалеет, что на может больше принести богу, и протягивает жилистую руку Василию.
– Давай, домнуле… бог с тобой. Мне волы не нужны. Я душу свою спасаю.
– Веди, дед, волов… – озадаченно говорит Синика, сам не понимая, что произошло.
Через четверть часа дед их привел. Пару хороших, рослых, темно-серых волов. Дед останавливает их возле телеги Синики и привязывает. Он даже не вспоминает о хорошем ременном поводе и отдает его вместе с волами. Но, принимая деньги, дед робко спрашивает Синику, не купит ли он и корову. Хорошую, молочную корову. Ее продает его соседка, старая вдова.
А почему бы не купить и корову? Василий может купить и корову. Он даст возможность приобрести уголок в раю и вдове.
– Пусть приведет.
Вдова просит дороговато за серую молочную корову. Она просит десять рублей.
– Эй, баба, я за пару волов пять дал, дам и тебе столько же за одну корову.
– Но то ж волы, а то молочная корова. Одна только и есть…
– Пять рублей.
– Восемь.
– Пять.
– Семь.
– Пять, баба, больше не дам.
– Мулцэним, домнуле… Пусть вам будет на счастье.
Синика от удивления сбил на затылок шапку. Десять рублей пара волов и корова, каким цена полтораста, а то и двести.
Нет, Синика не поедет домой. Синика будет помогать молдаванам отправляться в рай к богу, он поможет им добыть спасение у ног «пэринцела» Иннокентия. У Синики есть для начала деньги, и ему ничего не стоит списаться с купцом Елизаровым в Москве, тем, что покупает у него виноград на перепродажу. Синика оставляет купленный скот во дворе у деда и летит опять в Балту. Он телеграфирует купцу Елизарову, что может поставлять ему мясной скот по очень низкой цене.
В ответ получает согласие. Василий, дрожа всем телом, едет на станцию Балта, фрахтует вагоны и грузит первые двенадцать вагонов скота. Все это обошлось ему… в сто шестьдесят рублей, а с купца Елизарова он просит две тысячи четыреста четыре рубля. Почти даром.
Трепетно ждал ответа – денег на посланные накладные – и, когда получил перевод на полную сумму, решил:
«Куплю Мардаря! Не будет он сидеть у меня на шее. Вздохну свободно».
Синика нанял несколько батраков и двинулся с ними в глубинные села Бессарабии – пожинать урожай с посевов Иннокентия. Жадно, увлеченно, не жалея коней, рыскал по селам. Быстро изучил банковские и железнодорожные операции и хорошо, на груди, прятал свидетельства банков о вкладах на свое имя.
Только на пятой неделе вспомнил о доме. Оставил на время работу и помчался.
Въехал во двор, бросил вожжи и – опрометью в хату. Навстречу ему птицей вылетела Домаха. Упала на грудь, прижалась к нему. А он тихо-тихо погладил ее по голове, поцеловал крепко в губы и лег спать, не сказав ни слова. Не поворачивался язык ни спрашивать, ни рассказывать. Странно чувствовал себя Синика. Утром подался в степь, осмотрелся вокруг и лишь под вечер вернулся домой. А только поужинал – пошел к Гераське. Вошел, как и раньше, сел у края стола, подпер голову пятерней, раскурил трубку и молчал. А затем старая чабанская дойна снова зазвучала и взвилась вверх. Мардарь смотрел на него, и его даже жалость проняла.
– Мэй, Василий, ну и что же вы привезли?
– Ай-я? Что же привезешь оттуда, где нет ничего? Чего не знаю, того не скажу…
Синика ни словом не обмолвился Герасиму о своих операциях. Да и сидел как-то неспокойно у него, словно у врага, которого пришел убить, а узнал в нем родственника.
– Вот уж характер у вас, сосед, упрямый, – заговорила Мардариха. – Вы словно в темном амбаре: ходите, стучите, толкаетесь везде, а кругом одни стены и двери нет. И никак выхода вам не найти. Бросил жену, уехал, вернулся и не спросит, как она и что.
– Правда ваша, соседка, правда. Двери именно и нет. Да если б и была, то навряд ли стоило бы на свет выходить. Но вот что, сосед Герасим, – большое вам спасибо. Уж если что случится, помните: Василий Синика – самый первый ваш приятель и советчик. Жизнью рискнул бы, а помог вам. Клянусь, что нет такого, чего бы не сделал вам за ваше ко мне отношение.
Василий окончательно признал в противнике родню и даже больше – почувствовал искреннее желание открыться ему во всем. Но это было лишь на мгновение. В следующую секунду он снова насторожился.
– Где ж это вы были? – спросила Мардариха. – Куда ездили?
– Эх, где был, там уже нет. Искал доли – не нашел. Заплуталась она, соседка.
У него вдруг возникло решение, до которого он до сих пор не додумался. С тем и обратился к Герасиму:
– Слушайте, сосед… у меня есть дела в городе. Я снова должен уехать из дому. Понимаете? Хочу попросить вас помочь советами моей Домне. А потом… Может, и продам вам свой хутор.
Сверкнули глаза у Герасима. Скривился рот, и слово застряло в глотке. Должен был откашляться, чтобы ответить на это предложение. Только и смог выдавить:
– Да уж как-нибудь… Оно же, знаете…
Синика пожал руку Герасиму и пристально посмотрел ему в глаза.
– Так и знайте, хутор я не продам никому – только вам. Земля должна быть в таких руках, как ваши и… мои. – Он внимательно посмотрел на свои руки и добавил:
– Такие всю землю удержат. Да!
Ушел – и не оглянулся больше. А через неделю Василий снова уехал в дальние села к границе с Румынией.
17
Золотое утро тронуло землю раннеосенней свежестью. Ночь, покрывшая серебристой чешуей крыши домов, таяла, стекали на землю искристые слезки. Балта еще спала, только торговки торопились перехватить приезжие подводы. Но Герасим на то и хозяин, чтобы не спать даже в такое время. Он давно встал, наладил телегу, засыпал лошадям фураж. Успел и одеться. Только бы еще к святому сходить, увидеть – и домой.
Он обошел монастырь со всех сторон, останавливаясь перед каждой телегой, которые стояли вокруг монастыря; прислушивался, о чем говорили.
– Ел есте мынтуиторул ностру! Ел есте преотул чел маре!
– Пэринцел Иннокентий сегодня и половины не принял бы, если б изволил выйти к нам, грешным. Говорят, он все молится, никого не пускает. Наверное, не увидим его.
Слушал Герасим, и сердце его тревожилось.
«Хоть бы не зря лошадей гонял и время тратил, вон, оказывается, как трудно его увидеть».
Возвратился на постоялый двор взволнованный. Тревожно повел Липу и Домаху в обитель Иннокентия. Домаха все же выбралась из дому к святому.
Лелеяла в сердце надежду, что бог поможет ей. Герасим шел, задумавшись.
– Мэй, Гераська, и вы тут? Не выдержали, значит? Хорошо, хорошо делаете, – крикнул Семен Бостанику, повстречавшись с Мардарем.
Да вот! Но как тут устроить это посещение, не посоветуете ли? А то вот молодка хочет его увидеть, – показал он на Домаху.
– Трудно. Не принимает теперь святой. Все молится. Разве что через отца Кондрата как-нибудь.
Семен Бостанику уже в монашеской одежде, чисто вымытый и причесанный.
Он ведет посетителей к отцу Кондрату, который вхож к святому. Никто не смел нарушить заповедную границу между его кельей и грешным миром, богом проклятым. Только его одного сподобил святой своей великой ласки.
Не привык Герасим ходить по крутым ступеням, запыхался…
– Кто там?
– Во имя отца и сына, и духа святого Иннокентия…
– Аминь. Войдите.
Мардарь вошел в комнату. Что-то сверкнуло перед глазами и завертелось тоненькими блестящими полосками. Свет ли откуда-то падал, или шел испуг от той вон лампадки, что горит против большой иконы, Герасим не разобрал. Только он готов был присягнуть, что у этой иконы Иннокентия живые глаза и он ими мигает…
– Отец Кондрат, за благостью к тебе пришли, не поможешь ли чем?
– Чем могу помочь вам, рабы божьи? Вы не к святому ли духу Иннокентию?
– Да, отче, к нему. Сделай такую милость, похлопочи, чтобы и мы его узрели нашими очами грешными.
– О-о, лукавые дети диавола. Пошто пришли смущать святого в молитве?
Сурово, с упреком смотрели глаза. Они заглядывали глубоко, в самое сердце, и вселяли туда неосознанный страх. Но Мардарь уже решился и стал на колени перед отцом Кондратом.
– Не гневайся, отче, пусть тебе во здравие будет твой гнев. Сделай такую ласку, похлопочи, мы же издалека приехали, да и хозяйство дома осталось.
– О, порождение ехидны! О, греховные плоды греховного древа! Какое дело слугам господним до ваших земных дел?
Сурово смотрели глаза. Рука протянулась куда-то. И Герасим, а за ним и жена повели за ней глазами. В углу они увидели ту же икону, глаза которой играли живым огнем.
– Молитесь, дети диавола, перед образом того, кому почестей не умеете воздать, и оповестите меня, последнего слугу его, зачем пришли, и тогда только скажу, станете ли вы пред его светлые очи.
Отец Кондрат сел вплотную к стене под иконой Иннокентия. Стена была покрыта дорогим ковром. Когда богомольцы окончили молитву, он указал им место возле себя.
– Говори громче, раб божий, а то старые уши мои плохо слышат.
Отец Кондрат начал исповедь. Слушал внимательно, иногда переспрашивал, и так, словно не он, а кто-то другой должен был услышать, и об этом заботился отец Кондрат. Да, видать, порядком туговат был на ухо отец Кондрат, потому что часто переспрашивал, настораживал ухо. Герасим басом орал ему в самые уши о себе исповедь. Мардариха тоже голос подавала, даже срывалась иногда до визга, так трудно доходили до ушей исповедывателя страдания ее души. Только Домаха молчала, осматривала роскошную комнату, переводила глаза с предмета на предмет. И словно ощупывала глазами портрет Иннокентия, который живым взглядом следил за ней – куда она голову повернет, туда и он смотрит. Даже жутко стало от тех глаз.
Наконец Герасим умолк. Отец Кондрат покачал головой. То ли его смутила судьба Герасима, то ли это просто суровость святого, отрекшегося от людских грехов.
– Иди и молись. Уверуешь, тогда придешь покаешься.
Отец Кондрат бросил взгляд на Домаху.
– А ты, молодка, не скажешь, что привело тебя сюда? Грех ходить и все разглядывать в доме божьем.
– Отец праведный, есть у меня дела. Большую заботу к тебе имею, батюшка, но только суровый ты, не решусь никак… Да вот и… не осмелюсь при людях. Хоть и соседи, пусть не обидятся, а как-то оно…
– Выйдите и подождите там, за дверью.
Герасим с Липой вышли из комнаты и сели на стульях у двери. Не железные же они, чтобы не услышать разговора, но не тут-то было. За дверью только будто хмыкало что-то, а слов не слышно. Домаха исповедывалась. Вела тяжкую исповедь, исповедь матери без детей, матери, обреченной на бесплодие. Скорбила, стонала ее душа, вырывалась со словами смертельная тоска, и падала тогда Домаха в слезах к ногам отца Кондрата. А потом поднималась и исповедывалась дальше. Вплоть до той минуты, когда последний раз была с Василием и поклялась родить живого ребенка.
– И вот, праведник святой, хочу вымолить себе прощение и благословение на детей с мужем верным, снискать ласку у господа.
Остановилась. Дальше ли продолжать, или уж и так понятно… И с великой надеждой, с мукой смотрела ему в глаза. Лицо ее горело, как у преступницы. Нахмурился старый, но, видно, так, для виду, потому что глаза у него ласковые и мягкие. Надежда затеплилась в ее сердце.
– Вера твоя не будет напрасной. Молись. Он, возможно, и простит грехи, которые тяготеют на тебе. Иди и молись.
Пошла Домаха, дороги не видела от слез. Шла и не слышала, что спрашивал ее Герасим о праведнике. А поравнявшись с церковью, как подкошенная, рухнула на колени, припала лбом к земле. Герасим тоже голову склонил вместе в Липой.
– Раб господний Герасим, и ты, жена, и ты, молодица, станьте.
Поднялись. Прямо в глаза им смотрели очи, словно вынутые и перенесенные сюда с портрета. Сурово лицо его. Суров взгляд отца Иннокентия. И великий страх пронзил их сердца от чувства, что знает их инок, которого видят они впервые.
– Встаньте, говорю, и идите за мной.
Иннокентий тихой поступью шел впереди прямо в церковь. Вошли в притвор и остановились.
– Раба божья, Домаха. Плачь и молись о грехах перед господом. Он услышит молитву твою и даст тебе отраду. А ты, лукавый и злой раб Герасим, очень виновен перед богом. Зачем без веры пришел? Где страх перед господом? Как посмел ты стать перед лицом его, не покаявшись в многочисленных злостных деяниях?
Поднял руку, и засверкали перед ними молнии его очей.
– А бог все видит. Он все видит и не позволит себя дурачить. От меня не утаишь грехов своих. Нельзя самого господа обманывать.
Дрожал от испуга Герасим. Ничего не понимала Липа. Ужас пронизывал Домаху.
– Прости, отче, верю, что ты есть дух божий!
– Ел есте мынтуиторул ностру! Ел есте преотул чел маре! – прохрипел Мардарь, падая на колени.
Липа стояла рядом, ничего не понимая, только в глазах безграничное удивление: «Откуда ему известны наши имена, господи?» Иннокентий возвел очи к небу, уста творили молитву о даровании покоя душам грешников.
– Пусть же простятся им грехи их, и пошли ты рабе твоей Домахе деток здоровых и крепких.
И к ним слово:
– Идите и кайтесь. Грехи ваши отпускаются вам. Но помните – заработать прощение можно только покаянием. Искупайте грехи делами, угодными богу, потрудитесь в честь обители, где душам вашим дарован покой. Не хочет бог гибели вашей.
Повернулся и пошел от них. На ходу бросил:
– Все знаю, все. Молитесь. А теперь поезжайте домой, и там, между Гидеримом и Липецким, монаха встретите. Будет сидеть у дороги. Расспросит вас, куда вы и откуда. Скажите ему, что были у меня, и он назначит искупление за грехи ваши. А воду, которую он даст вам, выпейте и домой отвезите. Ты же, Домаха, приди сегодня ко мне на исповедь.
Ушел. Герасим с женой пошли на постоялый двор. А Домаха свалилась у церкви и так неподвижно пролежала, пока ее не позвал отец Кондрат к Иннокентию. От него вернулась поздно ночью. Молча села на повозку, поехала с Герасимом домой. Молча сидела и прислушивалась к чему-то в себе…
18
Отец Амвросий ходил, нахмурившись, по покоям, а Станислав Эдуардович сидел в удобном кресле и чистил напильником ногти.
Он слегка улыбался и лукаво следил глазами за перетрусившим князем церкви.
– Ну-ка, сядьте, отец Амвросий, не ходите и не нервничайте. Здоровье – самое главное. Ведь не горит еще?
– Вам все шутки, господин исправник, но уверяю вас, мне не до них. Поверьте, у меня голова кругом идет, ведь через два-три часа здесь будет комиссия из Синода, и покарай меня господь, если я знаю, что стану говорить следователям. Вы понимаете это?
– Эк, страха нагнали какого! Ну и строгий же вы блюститель церковных порядков и горячитесь излишне! В одну секунду вздумалось вам исправить дела многих лет. Ведь этот мужик не без вашего ведома раскапывал кости отца Феодосия! Тогда бы и думали о синодальных следователях. А то: «Ничего такого нет». Теперь сами видите, что «все такое есть». Я это предвидел, но… слабохарактерность, дружба победили. Теперь же – простите. Ищите оправдания. Что касается меня, то я, хочешь не хочешь, должен представить протокол моих допросов. А там еще окажется, что ваш святой не только поколебал православную веру, но и политические дела вершил, прикрываясь иноческой рясой. Я этого вывода специально не делал, поверьте. Но факты – вещь упрямая и неумолимая. И они, хоть мне и жаль вас, говорят не в вашу пользу. Меня, повторяю, это печалит, но тут я бессилен. Скандала не миновать, – язвительно-учтиво говорил исправник.
– Станислав Эдуардович… ваша желчность беспочвенна и, извините, неуместна. Поэтому, если не трудно, перемените тон. Я советы принимаю вполне искренне и по-дружески.
– Я понимаю, ваше преосвященство. Вы вот что сделайте: как только они приедут, возьмите и расскажите им все, как это произошло, как дело обстоит сейчас и что будет в дальнейшем. Не забудьте только Крым, виллу… Ну-ну-ну, нечего вам бледнеть. И слова в шутку вам не скажи.
– Шутки, простите, тут неуместны.
– Ах, извините, ваше преосвященство, вы, кажется, гневаетесь?
Отец Амвросий даже сел от негодования.
– Вот так лучше. Сидя человек всегда рассудительнее, предусмотрительнее. Посидите, успокойтесь и скажите, вы серьезно желаете… мне отдыха?
– Серьезно. От всего сердца. Только… только это от вас зависит. Как пожелаете. Перед дорогой на Соловки мне бы тоже хотелось отдохнуть в Крыму, и я совсем не намерен развлекать там администрацию… такую любительницу шуток. Надеюсь, вы поняли меня, исправник?
– Да, конечно, я вас понял, только и вы меня до конца поймите, – Станислав Эдуардович встал и поправил портупею. – Поймите, – резко продолжал он, – что факты– неумолимая вещь, и администрация всегда придерживается фактов, а не «реалистических фантазий».
– Эх, к чертям жмурки! Получите то, о чем договорились, только окажите помощь.
– Вот так-то лучше. А теперь, ваше преосвященство, успокойтесь и велите Мавре подать нам холодненького вина. И сами тем временем приготовьте квартиру, чтобы принять высоких гостей из Петербурга.
На столе появился графин холодного вина из монастырских погребов. Заискрилось оно в лучах солнца, задымила папироса в зубах исправника.
Неожиданно он пришел в хорошее расположение духа.
– Ну, так что же вы намерены делать, когда приедут высокие гости из Петербурга? – обратился к нему отец Амвросий.
– Придумаем что-нибудь. Готовьте еду, питье, а об остальном не беспокойтесь. Только прежде скажите, кто вам так пакостит?
– Да кто же может пакостить, если не эта облезлая крыса, Серафим кишиневский. Поперек горла стал ему успех Балтской обители. Все это его рук дело: он и жалобу писал, он и кадило раздувает. Видите ли, Иннокентий происходит из его паствы. Вот и скребет душу зависть, что он сюда перешел, а не у него поселился.
– Так, хорошо… значит, от него наговор идет?
– Ни от кого больше… Вот вы сами посмотрите.
Он подал исправнику газету «Колокол», в которой было напечатано воззвание архипастыря кишиневского Серафима. Оно призывало все духовенство Бессарабии вести борьбу против ереси балтского иеромонаха.
«То, что Иннокентий творит какие-то чудеса, – все это сказки и обман. Отец Феодосий Левицкий, хотя и праведного жития был пастырь, однако тело его давно тлену предано, святым он не признан и не канонизирован святейшим Синодом.
Следовательно, чудеса – выдумка и обман Иннокентия.
Архиепископ кишиневский Серафим».
– Здорово, отче! Здорово все же пишет ваш conepник! Ей-ей! Повести борьбу! Вот вам! «Чудеса – выдумка и обман!» Получили? Правильно! Правильно, но только несвоевременно вы, святой отче, за это взялись. Поздновато! Теперь уже основы церкви подорваны, и отрицайте не чудеса, нет, а право церкви признавать или не признавать святых, отрицайте самую сущность церкви, ее компетенцию, ее авторитет. А это козырь немаловажный в руках у вашего, действительно, совсем уж обнаглевшего мошенника. Серьезно, отче, по нему уже давно тюрьма плачет. Жаль только, что он в самом деле толковый малый.
– Оно так, но меня удивляет, господин исправник, что наш «Колокол» взял такой тон. Даже в этом деле.
– А все же, отче, и вы признаете, что ваше дело «даже такое»? А?
– Господин исправник, я с вами давно перестал шутить.
– Выходит, допекло, отче, если даже «Колокол» допускает такой неуважительный тон по отношению к вашему протеже. Это признак неважный, и нужно искать выход. Потому что эта перемена предвещает бурю.
– Да бросьте вы пугать. И без вас не знаю, что предпринять, а вы заладили одно…
– Однако не горячитесь. Подумаем. Вы готовьте, что я сказал. Не так уж все безнадежно выглядит, как кажется вначале. Могу порадовать вас уже и сейчас кое-чем довольно интересным.
Станислав Эдуардович вытащил из кармана газету «Подолия» и ткнул пальцем в обведенную синим карандашом статью.
– Должен засвидетельствовать, ваше преосвященство, что о ваших делах я больше пекусь, чем вы сами, и более осведомлен. Читайте.
«С некоторого времени наш уважаемый собрат архиепископ кишиневский Серафим озлобился на Балтскую обитель, привлекающую к себе массу верующих славой инока Иннокентия».
Дрожащим голосом читал отец Амвросий это известие и светлел. Газета в вежливом, но едком тоне высмеивала основы разоблачительной политики кишиневского архипастыря, недвусмысленно намекая, что все это делается из зависти к большим доходам Балтской обители.
«Но напрасно беспокоит себя брат наш. Балтская обитель ничего противозаконного не делает, и блаженный иеромонах Иннокентий все же творит чудеса, что мы своим архипастырским словом и подтверждаем. Поэтому нам нужно не бороться, а помогать и предоставить ему право и в дальнейшем произносить свои проповеди среди православных молдаван на том языке, какой они понимают, чтобы слово божье доходило до паствы.
Епископ каменец-подольский Серафим».
– Вот за это спасибо! Большое спасибо, господин исправник. Вы действительно хозяин своему слову. Но я также даю слово пастырское. Я в долгу не останусь. И даже больше.
– Хорошо, ваше преосвященство, и помощь моя будет значительнее, чем я обещал. Позовите-ка ко мне вашего чудотворца. Мне нужно поговорить с ним до приезда этого начальства.
С наслаждением потягивали они искристое вино, ожидая, пока придет и сам виновник всех этих неприятностей.
– А вы голова, Станислав Эдуардович! Ей-ей! Целая палата смекалки.
– Не хвалите. Скажете гоп, когда перепрыгнете. А прыгнуть ловко нужно.
– Прыгнем, господин исправник. Прыгнем!
– Куда это святой пастырь прыгать собрался? – послышалось у двери.
– Не следовало бы тебе, инок Иннокентий, так дерзко вмешиваться в разговор твоего архипастыря. Да и в комнату входить без предупреждения.
– Помилосердствуйте, ваше преосвященство, помилосердствуйте! – встал на защиту исправник. – Милосердия к меньшему да еще столь ловкому брату.
Налил вина и подал Иннокентию.
– Благослови, владыка!
Едкая усмешка искривила губы Иннокентия.
Словно маленькая гадючка выскочила и укусила за самое сердце отца Амвросия. «Обнаглел мужик», – метнулось в голове. Но промолчал.
– Вот что, отец Иннокентий. Садитесь и внимательно выслушайте, что я вам скажу, – обратился к нему исправник.
– Послушаю вас, Станислав Эдуардович. Говорите, но только быстрее, а то меня паства ждет.
– Паства ваша подождет, отче, черт ее не возьмет. А вас, кроме нее, ждет еще и Владимирка. Слышали о такой?
Побледнел немного, но выдержал натиск.
– Это за что же?
– Читайте вот, – подал он Иннокентию «Колокол». – Как это вам понравится?
Иннокентий сел читать. Вчитывался и все больше бледнел. Но вдруг успокоился и повеселел.
– Ну?
– Ерунда. Господин исправник, да и вы, ваше преосвященство, позвольте сказать, что я думаю. Плюнем на это. Теперь и сам Синод побоится трогать нас – весь народ. Ого! Пусть попробуют!
Отец Амвросий даже побледнел от гнева. Эта дерзость окончательно вывела его из равновесия, и епископ грозно сверкнул очами на Иннокентия. Исправник спокойно сидел и казался глубоко удовлетворенным.
– Ты что, инок, хамишь мне здесь?!
Иннокентия словно кто ударил горячим по лицу. Тряхнул кудрями и поднялся.
– Отче Амвросий, не нужно гневаться. Теперь уже не наша воля. Мельница вертится, и ее нельзя остановить. Народу хочется иметь святого, и он должен его иметь, ибо если он не получит его от нас, от церкви, то сам себе его сотворит, а от нас отвернется, отвернется от церкви. Ломать веру людей нельзя, и это не в наших силах – так я думаю.
Отец Амвросий почуял скрытую угрозу в словах Иннокентия и, поняв, испугался. Иннокентий подождал минуту и продолжал:
– Веру ломать нельзя, отче, ибо народ сам себе выдумает святого без нас, и тот святой не будет похож на церковного. Народ Владимиркой не запугаете, господин исправник. Меня, вас Синод может отправить по Владимирке. Но всю Бессарабию – не в силах. Пусть приедут теперь и заткнут глотки, вырвут языки, пусть попробуют! Тут уж не обо мне, не о вас, не о Синоде, а о самой церкви беспокойтесь. Свалите святого и, может быть, церковь разрушите и сами погибнете под ее руинами, погибнет церковь. В противном случае – зачем же тогда вы и я, и церковь, и Синод, и власть, если все мы не знаем, кто наш святой, а кто нет. Зачем тогда все мы, где тогда разум и власть вашего Синода? Без вас мне не удержаться – это правда, я это понимаю. И я вам подчиняюсь, преклоняюсь перед вами. Но и вам без меня не удержаться. Поэтому так прямо и скажем себе. – Он передохнул. – А теперь, господин исправник, я вас слушаю, – нагло закончил Иннокентий свою пространную речь.
– Ваша правда, уважаемый чудотворец Да. Но вы не забывайте, что вблизи вас нахожусь я, властью императора всероссийского балтский исправник Станислав Эдуардович Масловский, и пока что я существую. Если Синод против вас бессилен, то я… Но, впрочем, читайте сами.
«Инока Иннокентия немедленно взять под надзор полиции и к службе в церкви не допускать, выезд из города запретить, о чем под расписку его известить.
Губернатор каменец-подольский (подпись).
Управ. делами (подпись)».
– Так… отче Иннокентий. Вблизи вас существую еще и я, балтский исправник, как видите, – продолжал он далее спокойно. – Так что путешествие по Владимирке для вас не исключается, а наоборот. Имейте это в виду, совершая свои чудеса.








