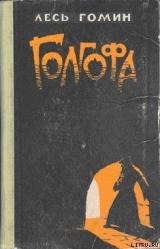
Текст книги "Голгофа"
Автор книги: Лесь Гомин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
24
Отец Иннокентий в глубокой задумчивости чертил что-то на чистом листе бумаги. Он и не заметил, как в комнату вошел отец Амвросий. Встрепенулся, когда услышал его скрипучий голос.
– Учтивости, инок, не вижу в обители. Старших встречать не умеете.
Обернулся к викарному отец Иннокентий. Ироническая улыбка промелькнула на губах и спряталась где-то в пышной бороде. Даже не пошевелился на своем месге, только голову повернул к отцу Амвросию и уставился, на него блестящими глазами.
– Извините, владыка, не слышал. Слишком уж заботы донимают меня. Все вот думаю, куда из Балты поехать, свет посмотреть. Вы, отче, таких терзаний не знаете, у вас ровная, спокойная жизнь.
Нахмурился викарный. Это пренебрежение к его особе больно задело его самолюбие.
– Не шути, пастух… – гневно прошептал отец Амвросий. – Пора научиться вежливости…
Иннокентий, сидевший до сих пор со спокойной улыбкой в своем кресле, вдруг резко поднялся и выпрямился перед отцом Амвросием во весь свой гигантский рост. Казалось, он стал внезапно выше не только физически, но и духовно. Пристально, долго смотрел на викарного… но нет, не на него, а в его душу, и будто стал исследовать ее, прикусив губу. А погодя, молвил:
– Мне кажется, отче Амвросий, что уважения могу требовать и я. Как вы думаете? Хватит уж меня пастухом упрекать, за давностью пора бы и забыть.
Отступил на два шага и глянул на пораженного князя церкви. Он был словно одержимый и стремительно, дерзко понес:
– Да, я пастух. Необтесанный, неученый мужик. Правда. Однако так было. Но теперь мы равны. Слышите? И вы, и я из неотесанных, неученых мужиков. Вы хотите жить, я – тоже. Вы по-своему, я по-своему. Что касается нас с вами, высокочтимый отче, то разрешите выяснить наши отношения с глазу на глаз. Хорошо, что нас никто не слышит. Так вот, давайте посмотрим хоть раз правде в глаза, и вы увидите, что мы с вами стоим на одной ступеньке. Только и разницы, что вы в митре, а я в клобуке, вы князь церкви, а я простой инок. Но это для мира, а не для нас с вами.
Иннокентий нервно прошелся по комнате и опять остановился перед отцом Амвросием.
– Я мужик, неотесанный хам. Да. Хорошо, пусть будет так! Но, преподобный, высокочтимый и высокоблагородный отче, за чей счет вы живете? Кто купил вам тех серых и вороных лошадей и карету? Бог дал? Не от меня все это? Но разве мои деньги лучше, чем я? Иль брать ворованные деньги честнее, чем самому их воровать? Погодите, погодите, дайте мне высказаться до конца. Я думаю, что законы наши поступают вполне правильно, наказывая вора так же, как и тех, кто прячет ворованное. А мы с вами сейчас в таком положении: я вор, ворую и знаю, что ворую копейки. Знаете об этом и вы. Почему же вы не выдали меня? И не с вашего ли благословения я стал тем, что я есть? Вы же укрываете меня, чтобы заработать на мне, чтобы моими руками загребать тысячи, лошадей, роскошную обстановку. Так вот, владыка, я не
хочу больше быть хамом при вас. Знайте, если вы и в дальнейшем станете так обращаться со мной, будет худо.
Отец Амвросий сел. Бессильно опустился в ближайшее кресло, словно обмяк всем телом.
– Вот так, отче. Но вы не очень волнуйтесь. Я это придерживаю на самый конец, торопиться мне некуда. Если только вы меня не выставите из Балты.
Отец Амвросий сидел позеленевший и молча слушал. Он так растерялся, что никак не мог собрать рассеянные мысли. Стучало в висках, и тоскливо ныло сердце. Где-то внутри перекатывалось что-то терпкое и горькое, нестерпимо щекотало в горле. И наряду с этим в сознание настойчиво врывалось неотступное видение – обрывок надоедливого романса, который в последнее время не оставлял его:
Так не лучше ль с наболевшею душою
На минуточку прилечь и отдохнуть…
И таким желанным, таким соблазнительным казался ему этот отдых, так хотелось лечь, зарыться головой во что-то мягкое, завернуться в пушистое одеяло и уснуть умиротворенному, под сенью давно забытой, искалеченной любви ранней молодости, которая неизвестно почему вдруг вспомнилась ему.
А Иннокентий величественно возвышался над его согбенной фигурой и хищно и злобно улыбался, сверкая острыми глазами. Смотрел на жалкого отца Амвросия и еще больше вырастал над ним, как бы устремляясь ввысь.
– Ну, вот что, отец Амвросий, забудем этот неприятный разговор и не будем больше возвращаться к нему. Но перед этим условие: вы бросите этот презрительный тон, это пренебрежительное, барское отношение ко мне, введете меня в свое общество и станете обращаться со мной почтительно. В противном случае мы с вами навсегда побьем горшки. Я уж не тот, что раньше. А теперь говорите, зачем пришли? Вы же не приходите ко мне просто так, в гости. Гордитесь, уважаемый отче, пренебрегаете гостеприимством.
Злобно и ехидно улыбаясь, он сел против склонившегося отца Амвросия и уставился на него. И вот то, что он так сел и так посмотрел на отца Амвросия, что так свободно развалился в своем кресле, вдруг оживило викарного. Он резко, рывком вскочил, пробежал несколько шагов до угла, где стоял посох Иннокентия, и быстро схватил его.
– Э, нет, преподобный отче! За посох не следует хвататься, – брезгливо скривил губы Иннокентий.
Он нажал на звонок. Вошел Семен.
– Дай воды. Или лучше принеси холодного вина, только не крепкого. Преподобному пастырю стало плохо.
– Можно было бы и не звать эту харю. Не стоило показывать меня в таком виде, – заметил отец Амвросий.
– Вам стало очень плохо, преподобный владыка, а я в таких случаях беспомощен. Да вы не беспокойтесь, он не понял. Подумает, что старому епископу нездоровится, вот и все. Возраст же ваш…
Отец Амвросий повернулся к нему и уже тверже посмотрел в глаза.
– Слушайте, инок.
Слушаю, ваше преосвященство, покорно слушаю, если вы будете говорить что-то дельное, а не обзывать меня пастухом.
– Бросьте, – склонив голову и тяжело дыша, выдавил из себя викарный. – Бросьте, говорю. Если я сейчас не зову исправника, значит, хочу с вами говорить.
Иннокентий сверкнул глазами.
– Напрасно бы беспокоились, отче. С исправником мы поладили давно, и от него я решительно не ожидаю никакой пакости.
– Это все глупости, инок. Вы послушайте меня. Между нами не должно быть раздоров. Я тоже буду откровенен. Мы с вами если и виновны, то одинаково. Это верно. И этого не скроешь. Но и у вас, уважаемый чудотворец, не так все обстоит, как вы считаете. Пастух – всегда пастух, хоть ты его одень в царскую мантию. Это вы себе заметьте. У вас хватит ума пасти свиней, но не обмозговать солидное дело. Слышите? Вы только грубая, неповоротливая скотина. Так и знайте, И между мной, дворянином и епископом, и вами, свинопасом и хамом, всегда будет зиять пропасть, которую сравняет только смерть. Понимаете? И поэтому я вам не соучастник, я голова,
которая вами управляет, а вы исполняете. И, если потребуется, я найду способ от вас избавиться. Ясно?
Голос его крепчал. Иннокентий пытался уже прервать эту речь, но отец Амвросий резко остановил его.
– Молчать. Я вас слушал, слушайте и вы меня до конца, потом будете угрожать. Правда, ваш ограниченный умишко не поймет этого, но вы почувствуете все же одно – страх, и он продиктует ваше поведение.
Владыка передохнул и еще увереннее продолжал:
– Над нами, чудотворец, нависла беда. Непоправимая и неумолимая, если я не возьмусь за это дело. И идет она не от исправника, а из Петербурга, из святейшего Синода и жандармского управления. Принялись за нас не кто-то там из духовенства, а большие, стоящие у власти
люди, которые могут свернуть и не такую воловью шею, как ваша. Так вот, пока не поздно, хочу вас все же предупредить. Знаю и понимаю, чего вы желаете. И откровенно скажу – мне не хочется терять вас. Поэтому и забочусь о вас. Но с условием, что вы все же не будете лезть
в мою компанию. А теперь возьмите эту бумагу и прочтите, – подал он письмо Иннокентию.
«Высокоуважаемый отец Амвросий!
Почитая за личную честь услужить вашему преосвященству, тешу себя надеждой, что вы не забудете меня в своих молитвах господу, как не забудете и моей услуги. Заранее благодарный, тороплюсь известить вас об одном очень для вас интересном деле. Только вчера, будучи в канцелярии святейшего Синода по делам своей епархии, я встретился там с преосвященным владыкой – отцом Серафимом кишиневским. Владыка был гневен, спешил и все добивался увидеть управляющего канцелярией, чтобы добиться аудиенции с оберпрокурором святейшего Синода. Я, движимый естественным любопытством, спросил сегодня кое-кого в канцелярии, зачем так срочно потребовалась отцу Серафиму аудиенция. На все вопросы я получал один ответ: «Жалоба на Балтскую обитель». Я заинтересовался всерьез и за немалую мзду мне удалось прочесть эту жалобу и выписать из нее главные пункты. Вот они:
«В обследовании синодальной комиссии сказано, что ничего противозаконного или противоцерковного в деятельности инока Иннокентия из Балтской обители нет, кроме того что он допустил в богослужении недозволенный язык – молдавский. Не смею думать, что синодальная комиссия отнеслась к делу несерьезно, но дерзаю опровергнуть это мягкое заключение комиссии, не знакомой с национальными особенностями края. Край наш – пограничная провинция Российского государства – населен инородцами-молдаванами, а границы его соприкасаются с другими землями, в которых имеются чуждые, антигосударственные элементы, настроенные враждебно к царскому престолу. Недозволенный, негосударственный молдавский язык, на коем проводит богослужение в церкви Иннокентий, дает толчок национальным течениям в Бессарабии. Уже сейчас есть сведения, что по инициативе духовенства и учителей в селах создаются молдавские школы и всякие культурные общества. А это таит в себе опасность по отношению к престолу и государству. Запрещенная в нашей державе молдавская школа будет питаться поддержкой Румынского королевства, темные силы будут раздувать это течение, и вскоре мы будем свидетелями нового движения за автономию – молдавского. К этому должен прибавить, что среди украинцев это антигосударственное движение будет пользоваться симпатией.
Доведя все это до сведения святейшего Синода я, как верный сын церкви и престола, смело выскажу еще одну мысль: боюсь, как бы мы не стали плацдармом националистической диверсии румынских и австрийских захватчиков. Особенно в такой острой политической ситуации, как современная.
К сему добавлю, что мысль моя не расходится с мыслями господ Пуришкевича и Крушевана, которые известны державе как верные сыны престола его величества. Они подтвердят мои слова и присовокупят к тому же, что Иннокентий уже и теперь есть политически опасная фигура».
Это, ваше преосвященство, самое главное в той жалобе, на что здесь обратили внимание. Атмосфера напряжена против вас очень, но из всего этого я знаю только, что Иннокентия хотят выслать из Балты. Куда – не успел узнать. Но, зная о симпатии к вам и Иннокентию преосвященного моего пастыря Серафима каменец-подольского, думаю, что вы предупредите события, если сами вышлете Иннокентия куда-либо на послух, хотя бы к нам. Епархия наша близко, разоряться вам не придется, а когда утихнет буря, он сможет снова вернуться. Совет мой вам от души, как и моя надежда: возвратите мне 2000 рублей, истраченные на взятку чиновникам за секрет, и не оставьте без внимания мою услугу вам и церкви».
– Это пишет мне управляющий каменецкой консисторией, инок. Выходит, не все так гладко, как вы думали, милый пророк. И вот, от меня и исправника зависит, отведем мы эту угрозу или позволим ей разразиться над вашей головой и разбить ее вдребезги, как стеклянного болванчика. Если вы позволите себе хотя бы слово в таком же тоне, какой допустили накануне, то… мне придется с вами распрощаться. Конечно, перед тем я кое-что скажу о вас для протокола суда и…
– Я слушаю вас, преосвященный владыка.
– А я говорю вам, инок Иннокентий! – Он посмотрел на сникшую фигуру Иннокентия и улыбнулся.
– Я говорю вам: из Петербурга на нас надвигается гроза. Кое-кто из духовных отцов так накрутил в Синоде, даже жарко стало. Пуришкевич, Крушеван – тоже не шутки. А теперь – надеюсь на вашу мудрость.
– Деньги нужны, владыка… – шепотом сказал Иннокентий.
Отец Амвросий пренебрежительно усмехнулся.
– И все же голова у вас пастушья, чудотворец. Бывают такие ситуации, если вы понимаете это слово, когда даже деньги бессильны помочь. А это как раз такая ситуация. Здесь ваши деньги будут просто неуместны. Там, где речь идет о том, носить ли митру в провинции или заседать в государственном совете, ваши деньги – ничто, тля, можно сказать… И вы… вы все же невежа.
Иннокентий будто и не слышал оскорбительных слов. Только одно занимало его: как выпутаться из этого сложного положения, в которое он внезапно попал.
– Тогда что же делать, владыка?
– Что? Уехать отсюда как можно быстрее. Это единственный выход…
– Как уехать? – воскликнул пораженный Иннокентий. – А паства? Где же тогда, отче, ваша защита?
– Хе-хе-хе! Вы не понимаете даже такой простой вещи! Если я вас сейчас не отправил к исправнику, видимо, я не хочу терять вас. Так вот, вы уедете отсюда, но не уедет монастырь, мощи, святыня; останется ваш порядок, имя ваше…
Иннокентий вспыхнул. Он понял, и в голове его уже возник план. Он не упустит удобного случая выпутаться из этой беды. Он не сдастся!
– И куда, преподобный отче, думаете вы меня запроторить? В далекую ссылку или так, как вам советуют?
– Не бойтесь. Я отправил сегодня отцу Серафиму каменец-подольскому срочное письмо, а в Петербург написал, что посылаю вас на покаяние за те проступки, которые вскрыла синодальная комиссия. Мы парализуем действия Синода, и все его выводы будут предупреждены. Понятно?
– Понятно. Я готов.
– Хорошо. Но уясните себе, что я делаю это не просто так. Мы будем придерживаться условия. От вас я смогу все-таки избавиться, если захочу. Поэтому ставлю условие – увеличить вклад в мой собор и поладить с исправником, как уж вы там сами сумеете. Это не мое дело.
Поднялся и пошел к двери, не оглядываясь. Иннокентий открыл ему дверь и крикнул отцу Кондрату:
– Проводи господина викарного вниз.
Отец Амвросий ушел, а Иннокентий стоял, задумчиво ероша бороду. Глубоко задумался балтский чудотворец над сложным планом. Но боязни или растерянности теперь не было. Он уже дерзко смеялся над своим маленьким сереньким страхом, который выпрыгнул из его души и, жалобно скуля у его ног, исчез.
Отец Кондрат до самых ворот проводил викарного, поддержал его за костлявую руку, пока тот садился в карету, закрыл за ним дверцу и низко поклонился, почти до земли. Так и стоял, согнувшись, пока не тронулась карета и не покрыла пылью его склоненную голову. Не видел, как мелькнули руки отца Амвросия, благословившие почтенного старца. Впрочем, успел приметить возле монастырских ворот гораздо более внушительную фигуру, целиком приковавшую его внимание. Человек стоял у ворот на коленях, набожно скрестив руки. Когда отъехал викарный, отец Кондрат подошел к склоненной в поклоне фигуре и спросил:
– Что привело тебя, раб грешный, в нашу обитель, чем провинился ты так перед господом?
– Срочно нужен отец Иннокентий. Будь добр, помоги увидеть его.
Отец Кондрат нахмурился.
– Проклят ты, раб лукавый. Пошто тебе нужно видеть обманываемого бога? Ты же избегал встречи с ним, а теперь пришел к нему за благостью? Иди, молись в его святом доме, а потом увидим.
И не оглядываясь, пошел в покои Иннокентия предупредить о прибытии Герасима. Иннокентий сурово и безразлично слушал. Но вдруг что-то блеснуло в его взгляде, и он резво повернулся к отцу Кондрату.
– Ты хорошо сделал, что послал его в церковь. Вели задержать его там, он мне нужен. Теперь иди и прикажи готовить в большой трапезной вечерю. Да стой… перед тем как я приду на трапезу, позовешь ко мне того вахлака. Иди. Но стой, ты ничего ему не говорил о том,
что у него случилось?
– Нет, я только намекнул ему, что он обманывал господа.
– Хорошо, иди. Но сейчас же возвращайся и созывай всех…
Иннокентий зашагал по комнате в каком-то экстазе, напряженно обдумывая предстоящую беседу. Вдруг повеселел и, улыбаясь, нажал на звонок. Вошел отец Кондрат.
– Зови ко мне того вахлака.
Отец Кондрат опрометью кинулся вниз, а Иннокентий, шагая по комнате, вернулся к прерванной мысли и еще веселее заулыбался.
Уже не видно было и следа озабоченности на его лице, а только вдохновение азартного игрока, у которого хорошая карта и возможность изрядно выиграть, выиграть все, а может, и… все проиграть, если не повезет. Но в руках масть, которая никогда ему не изменяла. Впрочем, нужно было еще поразмыслить и сделать такой ход, какого никогда не делал самый азартный и отчаянный игрок.
В дверь постучали.
– Войдите! Войдите с миром! – почти весело крикнул он. – Кто там?
Вошел отец Кондрат, а за ним жалкий Герасим, который словно принес с собой в комнату часть своего поля, неторопливую поступь быков и скрип немазаной каруцы. Вошел и стал у порога. Отец Иннокентий принял строгий вид и сурово молвил: .
– Знаю, знаю, лукавый раб, что привело тебя ко мне. Думал обмануть господа, обойти его своим жалким умом. Но бог карает строптивого за непослушание. – И приблизился к нему вплотную. – Жаль лошадей?
– Жалко, отче! И быков жалко, преосвященный владыка.
– А как же мне, подумай, жаль наших людей, целого села, которым из-за тебя, негодный раб, в дни страшного суда нечем будет смочить свои жаждущие губы? Как ты думаешь, мне не жаль тех младенцев, не познавших еще господней благости из-за твоего непослушания? Тяжкой кары заслужил ты, но господь милостив, и я прощаю тебе твою вину. Благословляю рыть колодец. Иди и копай, как велено. А сегодня еще побудешь у меня.
Иннокентий прошел по комнате, круто повернулся и, твердо шагая, подошел снова к Герасиму. Посмотрел пристально в глаза и, что-то припомнив, кликнул отца Кондрата.
– Позови мироносиц. Скажи, чтобы приготовили омовение, а потом шли сюда.
Отец Кондрат вышел, а Иннокентий сел против Герасима и, уставившись на него гипнотизирующим взглядом, жестко спросил:
– Сколько у тебя земли?
Герасим будто и не понял вопроса. Смотрел на него затуманенным взглядом и молчал. Иннокентий еще пристальнее глянул на него и снова спросил:
– Сколько земли имеешь? Или не хочешь отвечать отцу твоему?
– Пятьдесят десятин, отче, своей… Да еще десятин сто арендуем у крестьян Липецкого. Этой осенью должен был еще прикупить немного, да вот…
– Что?
– Видно, не нужно, отче… Нечем работать, да и не нужно уже. Пойду под кров твоего храма.
Пауза. Долгая. Напряженная. Пока она длилась, Мардарь успел попрощаться со своей землей, с хозяйством, обойти все поля, раскинувшиеся на равнине от хутора вплоть до села Липецкого, обошел и потрогал каждый куст винограда, дававшего ему ежегодно бочки отборного вина, ушел далеко-далеко от опустевшего подворья. И рыдала, разрывалась от жалости к своему добру душа старого собственника, заглушая страх перед тем, кто отнимал у него все это. И вот уже возвращался он из своего далекого странствия и готов был вцепиться зубами в край своей нивы, охватить ее и, придавив грудью, защищать до последней капли крови, до последнего вздоха. Уже и слово нужное нашлось, сползло на кончик языка, но… не пробралось сквозь густую нечесаную бороду и застряло в ней. Так и застыли открытые губы с замершим на них словом беспредельной жалости к себе.
Иннокентий внимательно следил за лицом Герасима. Оно было словно из гранита. Твердое, несокрушимое. Именно такое, какое бывает у закоренелого собственника, готового принять смерть за свой кусок поля, за своего быка, за свою лошадь. Именно такое лицо бывает у человека, готового за украденную курицу лишить жизни нищенку.
Или у того собственника, который, поймав карманщика, укравшего у него три копейки, набожно перекрестится, скажет: «Господи, помоги», – и спокойно, уверенно занесет над ним топор. Иннокентий знал таких. Поэтому-то посуровело его лицо, когда он углубился в свои мысли.
– Так, говоришь, пятьдесят десятин есть? Вместе или как?
– Вместе, святой отец.
– Ну, хорошо. Ты вот что… Землю пока что не продавай. Слышишь? Земля должна пойти церкви. А у тебя будет больше, чем было, добро твое приумножится, и ты вознесешься выше всех. Ты будешь, как Авраам, отцом людей и возвеличишься…
Не окончил. Отошел в сторону, сжал руки и уставился в окно. Капли пота выступили на высоком лбу, а глаза запылали, как два уголька. Не поворачиваясь, опять обратился к Герасиму:
– Так слышишь? Землю не продавай. Сиди пока что в своем хозяйстве и жди приказа. – Помолчал. – Господь имеет для тебя особое назначение, а ты будешь прославлен, как пророки, как отцы церкви. Слышал? Нехристи одолевают православную церковь, подбираются к отцам ее, поносят веру господню, и ее нужно защищать. Бог избрал тебя, раба своего, для защиты церкви. Готов ли ты?
Готов ли Мардарь? Готов ли он не продавать землю, а сидеть на ней и умножать свои богатства, как сказал господь? Разве спрашивают камень, готов ли он неподвижно лежать у дороги, если в этом его назначение? Разве спрашивают голодного, готов ли он съесть что-либо? Разве спрашивают жаждущего, готов ли он выпить холодной чистой воды?
Герасим любил свою землю. Любил не любовью труженика, наслаждающегося результатами своего труда; любил ее, как любит скряга проценты, их рост, как любит зверь кровь, пьянящую его своим теплом, азартом счастливой охоты, как любит грабитель беспомощность ограбленного. Он не совсем понял Иннокентия, он только почувствовал, что ему не нужно продавать свое добро и что он может остаться при хозяйстве, а от этого играла, бурлила кровь сытого хозяина-богача.
– Готов, отче. Говори, что потом должен делать, как услужить господу?
Иннокентий позвонил. Шустро вбежал отец Кондрат, возбужденно глянул на обоих.
– Возьми отведи его к смиренным женам, пусть очистят его сперва от грехов, а потом приведешь ко мне, когда скажу. Иди за ним, – обратился он к Герасиму, – и помни, что господь избрал тебя на защиту своей церкви и ставит тебя стражем при ней.
Как во сне, пошел Герасим за проводником. Как во сне, вступил в незнакомую пышную комнату, посреди которой был зеркальный бассейн, отражавший звезды; как во сне, смотрел он на все и… был очарован видением. Вокруг бассейна стояли со свечами в руках двенадцать женщин в белых одеждах и с белыми повязками на головах, и спокойная гладь воды отражала двенадцать пучков пылающих свечей, мерцая, как звездное небо ночью. Слух Герасима пленила мелодичная песня, лившаяся словно откуда-то издалека и тихо шелестевшая под высокими сводами. Шагнул вперед – и задохнулся от запаха смирны и ладана, который тучей надвинулся на него из самой дальней комнаты, устланной дорогими коврами. А двенадцать женщин неподвижно стояли и пели молитвы. Герасим остановился над краем бассейна и, очарованный, рассматривал обстановку. Он чувствовал, как страх, это ужасное чудовище, потихоньку выполз откуда-то из глубины души, схватил его за горло, сильно сжал и зацарапал острыми когтями по спине. Волосы зашевелились на затылке, по телу поползли мурашки, и крупные, холодные капли пота покатились по лицу. Хотел двинуть рукой, но она будто приклеилась к боку. Хотел шевельнуть языком, но он одеревенел во рту. Он должен был подвинуться вперед хотя бы на шаг, чтобы рассмотреть привидения в белом, но ноги прочно приросли к полу, покрытому коврами. Хотел повернуть голову, но его толстая шея стала твердой, как мореный граб, и голова не поворачивалась.
И отовсюду веяло на него ароматом смирны и ладана, лился неудержимый поток мелодичных звуков, а ясные зори, мерцавшие в темном спокойном плесе, привораживали взгляд.
Сзади кто-то его подтолкнул. Одеревеневшими ногами шагнул Герасим, огибая бассейн, к группе женщин в белом. Недоуменно смотрел на них и, дрожа всем телом, приближался. Вдруг от них отделилась одна – с беломраморным лицом и изогнутыми бровями. Подошла близко, передала пучок свечей отцу Кондрату и белыми гибкими руками взяла его за полу свитки.
– Приблизься к престолу господню, раб божий Герасим.
Мелодичный и проникновенный голос глубоко поразил Герасима. Он уже не сводил глаз с этого беломраморного видения. А оно тихо, плавно двигалось по пушистому полу к высокому аналою с евангелием.
– Встань на колени и поклонись господу и его святому духу Иннокентию, дарующему тебе высокую милость свою.
Покорно, словно ребенок, стал Герасим на колени и зашептал непонятные слова какой-то странной молитвы, никогда им не слыханной.
Но вот белое привидение снова берет его за плечо. Герасим поднимается и опять тихо движется вдоль комнаты по пушистому ковру, чуть переступая с ноги на ногу. И опять перед ним спокойный темный плёс. А на краю его мраморная белая скамеечка с наброшенным на нее красным бархатным покрывалом. Кто-то слегка нажал на его плечо, и Герасим сел. Белая тень нагнулась и прикоснулась белоснежными пальчиками к запыленным сапогам Герасима. Дернула раз, другой – и сапог сполз с холодной не сгибавшейся ноги. Герасим оторопело смотрел на видение и покорно подставил вторую ногу. И второй сапог сполз с ноги, и он опустил голые ноги на пушистый ковер.
В голове был туман, глаза слепил блеск свечей, пылавших вокруг него, и Герасиму трудно было видеть себя, всего голого, в темном, спокойном зеркале воды. Он только ощутил, как чьи-то дрожащие, холодные руки легли на его немытое тело, взяли за руку и повели к спокойному плёсу. Глаза на лоб полезли, когда, стоя в воде по пояс, он увидел рядом с собой это беломраморное чудо с черными косами. Женщина необыкновенной красоты стояла нагая, пригоршнями брала воду и плескала ему на голову. Тихо, покорно приседал в воде, чувствуя, как мягкие руки терли его чем-то жестким, поливая водой, сбегавшей холодными струйками с его тела.
А песня плыла, плакала, тужила над ним, умиляя слух мелодичными звуками, лившимися откуда-то сверху. Запах смирны и ладана дурманил, голова кружилась и слегка покачивалась из стороны в сторону. И не мог упираться Мардарь, не мог отстраниться от привидения, касавшегося его то пышной грудью, то голым бедром и мягко гладившего его огрубевшую кожу нежными руками.
И вдруг песня стала громче, взвилась выше, вдохновенно загремела под сводами. Звезды во взбаламученном плёсе быстро запрыгали, аромат смирны и ладана окутал еще более густым туманом. Непроизвольно поднимает Герасим голову и… глаза выкатываются из орбит: с высокого свода прямо на Герасима Мардаря тиха опускалась смуглая фигура с повязанными чем-то белым бедрами. Фигура приблизилась и погрузилась в воду рядом с ним. Оцепенел Герасим и окончательно лишился рассудка. А фигура повернула к нему свое лицо и громко, торжественно трижды промолвила:
– Ныне отпускаем раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром.
И трижды по три раза полила его голову водой.
– Яко Иоан Креститель, выкрещиваешься ты, Герасим, на службу богу. Страшной клятвой клянусь, что не отступлю от своего обета перед его престолом. Клянешься ли ты?
– Клянусь.
– Не отступишь от своей клятвы?
Не отступлю, господи.
– Повторяй за мной слова страшной присяги. Иннокентий поднял два пальца правой руки, возвел глаза и торжественно начал произносить слова клятвы.
– Клянусь господу богу, что отныне становлюсь на службу его святому престолу и навеки вечные. И не отступлю от этой моей присяги, хотя бы пришлось страдать в тюрьмах, на каторгах, хотя бы и смерть принять, разлучиться с женой, детьми, потерять все добро и умереть в неволе. Клянусь твердо, нерушимо исполнять веления сына божьего Иннокентия и поступать по воле его. И если отступлю, пусть земля подо мной разверзнется и поглотит меня, пусть огонь сожжет или вода затопит меня, пусть не будет добра мне ни на этом, ни на том свете, ни жене моей, ни детям моим, ни всему моему роду. Пусть тогда мучаются веками на страшном огне в аду у дьявола и
пусть не знают пристанища на земле до конца дней моих, а после смерти пусть земля не примет меня и выбросит на посмешище на проезжую дорогу. Клянусь на этом слове моем именем господа и его сына Иннокентия, в коего я верую твердо и непоколебимо, что он есть сын и дух божий, и за эту веру я умру, аминь.
Герасим повторял слова присяги, как в лихорадке. Произнес, будто выстонал, это страшное заклятие и словно испытал уже на себе все перечисленные беды. Иннокентий отошел от него, и фигура его тихо поплыла вверх, благословляя Мардаря. А белый голубь долго летал под сводами, бился о потолок.
Снова подошли к нему женские фигуры, вывели его из воды, вытерли, намазали миром и одели в черную блестящую рясу поверх белого чистого белья. И, подхватив одетого под руки, с тихим пением повели вверх по ступенькам.
Герасим шел сам не свой. Ему казалось, что все это происходит во сне. Наконец он очутился в какой-то комнате, где сидел в кресле отец Иннокентий – человек, которому он дал страшную клятву. Иннокентий приветливо улыбнулся, встал и поцеловал Герасима в губы.
– Отныне ты принадлежишь господу, раб божий Герасим. Садись возле меня и слушай веления бога.
Покорно сел в низенькое кресло и внимательно, молча слушал тихую речь Иннокентия, излагавшего ему великий план защиты церкви и бога.








