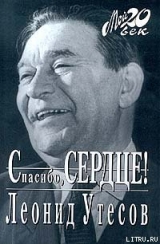
Текст книги "Спасибо, сердце!"
Автор книги: Леонид Утесов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Эти годы моей жизни отмечены и еще одним знакомством – с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.
Я приехал в Москву в странном виде – шикарный серый френч, галифе с кожаными леями, краги и кожаная фуражка. Вид мой был импозантен и поэтому первое время знакомые водили меня по разным домам и выдавали за иностранного гостя – актера или офицера, который перешел на сторону красных. Когда оказалось, что в одном доме мы увидим Мейерхольда, мне предложили выдать себя за английского режиссера.
Нас познакомили. И Мейерхольд «мной» сразу же заинтересовался. Я по-английски знал только один акцент, поэтому мы говорили по-немецки, то есть по-немецки говорил Мейерхольд, а я отвечал немецкими или русскими восклицаниями с английским произношением.
Таким странным образом мы общались с ним до пяти часов утра. Он рисовал схемы, рассказывал о своих постановках, я одобрительно кивал головой и важно произносил: «yes».
Наконец я встал и сказал:
– Хватит валять дурака! – На его лице застыл ужас. – Никакой я не режиссер и не англичанин, я актер из Одессы. Моя фамилия Утесов…
Мейерхольд на миг растерялся, услышав мою русскую речь. Потом мы весело посмеялись. Мы с ним стали добрыми знакомыми. И однажды я даже попросил его поставить мне программу с джазом.
– Хорошо, – сказал Мейерхольд, – я поставлю вам программу в цирке. Представьте себе красный бархат барьера. Желтый песок арены. На арену выходят музыканты. Сколько их у вас?
– Семнадцать.
– …Семнадцать белых клоунов. В разноцветных колпачках, вроде небольшой сахарной головы. В разного цвета костюмах с блестками. Шикарные, элегантные, красивые, самоуверенные. Они рассаживаются вокруг по барьеру и начинают играть развеселую, жизнерадостную музыку. Вдруг обрывают ее и играют что-то очень-очень грустное. И вот тут появляетесь Вы – трагический клоун. В нелепом одеянии, в широченных штанах, в огромных ботинках, несуразном сюртуке. Рыжий парик и трагическая маска лица. В юмористических вещах вы находите трагизм. В трагических – юмор. Вы трагикомический клоун. Вы это понимаете?
Я понимал… И отказался. Сказал, что я работаю на эстраде и в клоуна мне превращаться не хочется. Но, честно говоря, я побоялся той большой задачи, которую предлагал замысел Мейерхольда. Наверно, я напрасно струсил.
Может быть, кого-нибудь удивит, что в Теревсате была такая многочисленная труппа. Но, по сути дела, в ней сливались несколько театров, в нее входили актеры всех мыслимых жанров – эстрада, цирк, опера, балет, оперетта. Естественно, что таким же пестрым был и репертуар. Ставились большие, в несколько актов, «настоящие» пьесы, но шли и буффонады, вроде «У райских врат», балеты, например «Весы», выступали куплетисты и жонглеры, одним словом, номера на все вкусы и случаи жизни.
Такой стиль театра мне был привычен, и я чувствовал себя отлично. Я по-прежнему стремился везде поспеть и исполнял в одной постановке по нескольку ролей. Все роли я играл с удовольствием, но, как это обычно бывает, одна почему-то особенно запомнится публике. Так, в большом сатирико-политическом обозрении «Путешествие Бульбуса 17-21» Гутмана, Адуева и Арго я, играя и эсера Чернова, и старого спеца, и дирижера оркестра Малой Антанты, больше всего запомнился зрителям именно этим дирижером, которого я почему-то изображал румыном. А так как ни афиш, ни программ тогда не выпускали, то зрители и прозвали меня «румын из Теревсата».
Оркестр был квартетом и состоял из «грека», «чеха», «серба» под управлением «румына». Это был комический аттракцион – в оркестре не было инструментов, мы имитировали их звучание. «Оркестр» получился очень смешной, ибо участников Малой Антанты мы изображали с темпераментом. Кроме удовольствия этот оркестр имел для меня и более важное значение. Тогда, конечно, я этого не знал, но после догадался, что вслед за комическим хором он был как бы вторым этапом на подступах к моему эстрадному оркестру.
Обычно Теревсату в различных серьезных изданиях отводилось мало места и уделялось мало внимания. Порой в суждениях о нем можно уловить нотки пренебрежения и даже осуждения. «Мелкотравчатость», «развлекательность», «зубоскальство». Я всегда считал это несправедливым. Теревсат оказал большое влияние на последующее развитие многих жанров театральных представлений, и из его недр вышло много интересных актеров. И недавно я с большим удовлетворением и благодарностью прочитал в журнале «Театр» (1971, N 1) подробный рассказ Д. Золотницкого о Теревсате и теревсатчиках.
И, конечно, заслуги Гутмана в этом немалые. Он был человеком на редкость изобретательным, он всегда был полон идей и замыслов. Когда-то он начал свою деятельность режиссером драматического театра. А в годы первой мировой войны руководил московскими театрами миниатюр – Мамонтовским и Петровским. Он чувствовал стиль и потребность времени. Это-то, наверно, и сделало его мастером театра миниатюр – подвижного, живого, всегда откликающегося на события быстротечной жизни. Ведь это он, кстати сказать, изобрел для Вертинского его знаменитую маску Пьеро, так удивительно совпадающую и с манерой певца и с потребностями минуты. Не только Вертинский, но и другие наши советские актеры, в том числе и я, многим обязаны Гутману.
Тот «Эрмитаж», который известен сегодня не только москвичам, но и людям, побывавшим в Москве проездом, в командировке или во время отпуска, этот «Эрмитаж» возник в 1921 году. Именно летом двадцать первого года там был дан первый эстрадный концерт, в котором приняли участие многие московские артисты.
По своей закоренелой привычке я не мог прийти в новый театр со старым номером. И, как всегда, решил показать что-то еще неизвестное москвичам. Мне подумалось, что мой «одесский газетчик» оказался бы сейчас очень кстати. Но я о нем, кажется, еще не рассказывал.
Теперь, наверно, уже осталось мало людей, видевших газетчика своими глазами. Не того, что сидит в стеклянной коробочке и ждет, когда к нему выстроится очередь за «Вечоркой». А того паренька, что бежит по улицам с пачкой газет, на ходу выкрикивая ошеломляющие новости. Он был необходимейшей частью жизни горожан и достопримечательностью для приезжих. Одесситы, любящие, когда дело ведется с фантазией и азартом, относились к газетчику покровительственно, снисходительно, но в то же время гордились им, ибо это было настоящее дитя Одессы, нечто вроде парижского гамена.
Наш газетчик соединял в себе все особенности гамена одесского, взращенного в порту, где у причала швартуются и откуда уплывают пароходы из разных стран, увозя с собой свои звучные и непонятные названия, где на каждом шагу бывалые морские волки, иностранные моряки со своими необычными манерами и привычками. Ими надо и в меру восхищаться и себя не уронить, а для этого соленая шутка, жаргонные словечки, небрежная манера лучше всего – так вот и складывался своеобразный облик мальчишек одесской улицы.
От уличного продавца газет требовалась расторопность, сообразительность, умение заманить покупателя. Этим качествам одесских мальчишек учить не надо было. Газетчик отлично чувствовал и психологию одесской толпы и особенности своей профессии. Поэтому он всегда куда-то ужасно торопился. Он останавливался на миг, чтобы схватить монетку и кинуть газету с видом крайнего нетерпения. И вы тоже начинали невольно торопиться – грешно задерживать человека, которого ждут миллионы людей.
Все, конечно, понимали, что спешить ему некуда и никакие миллионы его не ждут, но охотно поддерживали игру. Так он и мчался по улицам, Размахивая газетой, неистово и нарочито неразборчиво крича – так можно кричать только тогда, когда в мире случается что-то невероятное. Вы невольно прислушивались, стараясь схватить то ли фамилию политического деятеля, совершившего подвиг или предательство, то ли название корабля, который, может быть, сейчас, сию минуту, тонет или, наоборот, уже спасен. И так как газетчик часто кричал о том, о чем в газете не было и в помине, ему чаще всего не верили, но газету покупали, движимые обычной человеческой слабостью и надеждой: а вдруг именно сегодня-то он и не врет. Ну а если и опять соврал – невелика беда. Зато какое представление! Какой театр! – а к этому одесситы всегда неравнодушны.
Одесский газетчик был мне понятен и близок, я чувствовал его, как себя, и однажды у меня мелькнула мысль перенести этот жизненный театр на эстраду. Так родился необычный номер, который у одесситов имел шумный успех.
Мой молодой газетчик был так нетерпелив и так сам наслаждался этим вечно меняющимся миром, битком набитым новостями и событиями, что невольно начинал пританцовывать и распевать свои новости – так органично в номер входили куплеты. В них рассказывалось о тех же городских событиях, о которых в данный момент судачили на всех улицах, а также и о мировых катаклизмах, мимо которых одесситы не могли пройти равнодушно. Помните, у Аверченко один одессит говорит другому, крутя пуговицу на его пиджаке: «Франция еще будет меня помнить».
Когда я начал выступать с этим номером, имя одесского налетчика Мишки-Япончика приводило всех в трепет – и я пел про старушку, ограбленную и обесчещенную бандитами на Дерибасовской.
"Ну, а налеты стали все заметней,
На Дерибасовской так, примерно, в шесть
У неизвестной бабушки столетней
Двое бандитов утащили честь".
Москва живет московскими новостями и событиями всего мира, поэтому газетчик, выскакивавший на подмостки «Эрмитажа», был начинен информацией глобального содержания. Он, как тумба, был весь увешан и обклеен плакатами и рекламами, заголовками иностранных газет, а на груди его красовался символ вранья – огромная утка. В то время про Советскую Россию распространялось множество нелепейших небылиц. Так что темы куплетов было сыскать нетрудно – стоило только развернуть газету. Каждый вечер куплеты менялись, и тут уж в самом прямом смысле осуществлялся боевой лозунг эстрады: утром в газете – вечером в куплете.
К моему приходу в «Эрмитаж» несколько авторов и в том числе мой друг, незабвенный Николай Эрдман уже ожидали меня с готовыми куплетами. Я вклеивал их в газету, которую обычно как рекламу держал в руках, и поэтому мог не ограничивать себя количеством «новостей» – учить их наизусть было не надо. Между куплетами я лихо отплясывал, стараясь и в танец вложить настроение куплетного сообщения.
И в Москве номер имел оглушительный успех. Собственно с этого номера некоторые зрители старшего поколения, может быть, и помнят меня как артиста.
Стиль «живых газет» оказался очень созвучным настроениям времени, стремительности его темпов, задору его энтузиазма. И подобные номера все чаще и чаще стали появляться на эстрадах. Постепенно они трансформировались, росло количество участников, менялся стиль исполнения – куплеты заменялись коллективной декламацией, а танцы – ритмическими движениями спортивного характера. Вскоре появилась и своя униформа – синие рубахи, заправленные в комбинезоны. И название «Синяя блуза» закрепилось за новым эстрадным жанром. Обрастая традициями и штампами, этот жанр просуществовал на эстраде довольно долго.
Это было начало нэпа. Одна за другой стали появляться антрепризы. В «Славянском базаре» открылся театр оперетты. А так как я еще в «Эрмитаже» вместе с замечательной опереточной актрисой Казимирой Невяровской исполнял дуэты из оперетт, то нас пригласили в этот театр.
Здесь были все особенности опереточного стиля. Ни о каких реформах, поисках нового не могло быть и речи. Да, наверно, и в голову никому не приходило, что оперетта заштамповалась и ее надо реформировать. И такая она имела успех у зрителя. А что еще надо антрепренеру?
Однако в театре работало много хороших актеров, которые силой своего таланта оживляли отмиравшие опереточные приемы, придавали им видимость жизни. Среди всех уже тогда выделялся Григорий Маркович Ярон – человек безграничного комедийного дара. Становилось смешным все, чему бы он ни прикасался. А его музыкальность и его танцевально-акробатическая техника помогали создавать неповторимые образы.
Ярон уже тогда был типичным опереточным комиком, но в самом лучшем смысле этого слова. Не углубляясь в психологические тонкости, не ища разнообразия характеров, он умел сделать неисчерпаемым один и тот же характер в довольно сходных опереточных обстоятельствах и коллизиях. Для этого надо иметь недюжинную фантазию и изобретательность. И уж в этом с ним, пожалуй, никто тягаться не мог. Смешные ситуации он умел находить во всем, а это помогало ему видеть уродливое и отмирающее – и уж с ними он расправлялся безжалостно. Знаменитые яроновские отсебятины становились потом каноническим текстом. Так и не родился на свет такой мрачный зритель, которого не мог бы рассмешить Ярон.
Являясь автором своих ролей, Ярон, по существу, переделал, переосмыслил маску комика-рамоли. Он умел, всегда оставаясь в образе, виртуозно соединять в единое целое эффектные эксцентрические трюки и танцы, неожиданные контрасты ситуаций, вставные комические номера и создавать произведение искусства неповторимое и заразительное.
Так же неожидан и интересен он был и на режиссерском поприще, а став теоретиком оперетты, сумел не притушить, не засушить ее зажигательного задора.
Я легко акклиматизировался в оперетте, потому что умел и петь, и танцевать, и не чуждался аксцентрики. После долгого пребывания в театре малых форм в оперетту я шел с надеждой. Мне казалось, что здесь я смогу создавать образы-характеры, смогу играть роли уж если не трагедийного, не драматического, то хотя бы лирического плана – все комики одержимы этой страстью.
Я играл Бони в «Сильве» и пытался оживить этот образ, найти в нем хоть что-то не от маски, а от живого человека, вернуть ему то, что было выхолощено штампами, – я наделял его чувством, находил возможность сделать по-настоящему лиричным. Но меня упрекали, что я пошляка выдаю за порядочного человека. Не за порядочного, а за живого, сказал бы я. Ведь пошляк – это еще не мертвец. Примерно так же были встречены мои «эксперименты» и в опереттах «Мадемуазель Нитуш», «Гейша», «Граф Люксембург» – все мои попытки драматизировать роли объявлялись неуместными и ненужными для данного жанра. Впрочем, может быть, мои критики были и правы – ведь я пытался оживить образы венской оперетты, давно уже ставшей развлекательным зрелищем с чисто условными характерами. И все-таки одно мне так и осталось непонятным: если в произведении есть люди, то почему возбраняется сделать их живыми?
Одним словом, мало-помалу я сам стал думать, что приукрашивание сентиментальных и недалеких героев венской оперетты – дело неблагодарное. И при всем веселье жанра мне становилось в нем скучно. По сути дела, я не нашел в оперетте того, что надеялся найти (а советских оперетт тогда еще не было), и решил поискать в другом месте.
Как раз в это время мне представилась возможность переехать в Петроград, что я и сделал с большим удовольствием.
В Петрограде было два опереточных театра: Палас-театр – товарищество без антрепренера, и антреприза Ксендзовского. Я вступил в труппу Палас-театра с мыслью оглядеться и найти что-нибудь более приемлемое, более родственное моей душе.
В Палас-театре оперетта была бы как оперетта, ничем особенным от «Славянского базара» не отличающаяся, с такими же профессионально крепкими актерами, если бы не Елизавета Ивановна Тиме, актриса бывшего Александринского театра. Дело в том, что она, великолепная драматическая актриса, обладала прекрасным голосом, три года училась пению в Петербургской консерватории и потому ее непреодолимо тянуло в музыкальный театр – вот она и совмещала Александринку и оперетту.
А для оперетты ее участие было величайшим благом. Она своим строгим стилем актрисы драматического театра, серьезным отношением к делу невольно облагораживала атмосферу театра, которая иногда начинала уж очень быть похожей на ту, что разыгрывалась в самих спектаклях. Кроме того, ее драматическое мастерство помогало актерам преодолевать мертвые штампы опереточного жанра.
Я дебютировал ролью Бони, Сильву играла Елизавета Ивановна Тиме. Я играл эту роль не менее семисот раз, со множеством разных партнерш, умел к ним быстро приноравливаться, но на первых спектаклях с Тиме мне все время было как-то непривычно. Наверно, она была не совсем опереточной Сильвой и мой Бони никак не мог к ней пристроиться.
Но Тиме была опытной актрисой и неплохим педагогом – она, словно ребенка, взяла меня за руку и повела по другой дорожке, где мне легче было сделать своего Бони умнее, лиричнее, искреннее.
Кроме «Сильвы» мы играли с ней в «Прекрасной Елене», она – Елена, я – Менелай.
Вообще репертуар в Палас-театре у меня был обширный: «Мадам Помпадур», «Вице-адмирал», «Баядерка» и множество других оперетт – не стоит их все здесь перечислять. Но о роли матроса Пунто в «Вице-адмирале» мне хочется сказать. Я играл эту роль с особенным удовольствием, наверно потому, что она напоминала мне милых сердцу одесситов. Лихой матрос, певец и острослов, честный и скромный малый – в нем было все, что составляло мечту моего детства. Особенно волновали меня слова Пунто, когда он просится на берег, в родной город Кадикс, где «его каждая собака знает». В этих словах мне слышалось что-то до боли понятное. И я не случайно наградил Пунта одесскими манерами. Он, например, лихо с характерным присвистом сплевывал сквозь стиснутые зубы. Впрочем, в этом увидели опошление образа «революционного матроса». Может же такое прийти в «критическую» голову. Пунто – революционный матрос!
Конечно, не всегда работа оставляла меня нeудовлетворенным. Я любил играть в классических опереттах, таких, как «Прекрасная Елена», «Маскотта», «Зеленый остров». А работа в двух опереттах – «Девушка-сыщик» и «Дорина и случай» – доставила мне особенно большое удовольствие.
«Девушка-сыщик» была поставлена еще до создания первой советской оперетты. Ставил этот спектакль С. Радлов и попытался отойти от опереточных штампов даже и в построении фабулы. В эту буржуазную в общем-то оперетту он включил мотив погони за революционными документами. А образы буржуазных героев решил в сатирическом стиле, придав им какой-то дурацкий налет. Но самым интересным и близким мне, по существу, было то, что Радлов уничтожил здесь слащавую красивость этого жанра, придал всему тон народного балаганного театра.
Мне досталась роль сыщика, который ищет эти документы. Мой сыщик был ловким, тренированным, физически сильным человеком. Когда надо, мог пройти по канату, натянутому под колосниками (с которого я однажды свалился, но все-таки быстро пришел в себя и довел спектакль до конца, хотя, как написали в газетах, получил «сильное сотрясение всего организма»). Но, несмотря на все эти отличные спортивные качества, мой сыщик был предельно самоуверенным дураком. Если бы тогда уже были картины о Джеймсе Бонде, этот образ мог быть воспринят как сатира на супермена.
Прелесть большой, трехактной оперетты «Дорина и случай» заключалась в том, что в ней не было ни хора, ни балета и было всего шесть действующих лиц – пять мужских и одна женская роль. Оригинальность этой оперетты заключалась и в том, что начиналась она со спора между актером, стоящим перед занавесом на сцене, и «зрителем», сидевшим в зале, – со спора на тему «закономерность и случай». Спор заканчивался тем, что артист приглашал «зрителя» на сцену. Тогда и начиналась сама оперетта – как аргумент, как цепь доказательств в этом споре. В ней все строилось на «закономерных случайностях».
Я играл две роли одновременно и был слугой четырех господ. Я был французом и русским, который все время, обращаясь в зрительный зал, комментировал действия француза с точки зрения случайностей и закономерностей. И, естественно, мне все время приходилось менять язык – то я говорил по-русски чисто, то с французским акцентом. Роль эта была сложна не только этой постоянной сменой «языка», но и тем, что требовала предельной подвижности внешней и внутренней – четыре мои хозяина, любители музыки, хотя и собирались иногда вместе, составляя квартет, но жили на разных этажах дома, а я метался между ними и старался, чтобы они не догадались, что на четверых я у них один.
Но, как я уже говорил, в оперетте я все-таки чувствовал себя гостем, которому когда-нибудь,. а придется отправиться домой. Узнать бы только, где он – мой дом. Вокруг меня такое разнообразие видов и жанров театра! Глаза разбегаются. Меня тянет в разные стороны. Какая же перетянет? Пока я все только пробую. «Все испытайте, – советует Лев Николаевич Толстой, – хорошего держитесь». И вот я ищу и испытываю, испытываю и ищу.
Не раз я уже говорил о том, как меня всегда жгла и томила жажда работы – она делала меня всеядным. И, наверно, именно поэтому я никогда не понимал людей, влюбленных только в один какой-нибудь вид искусства. Мне нравилось и нравится все – ну, конечно, хорошее. И, кажется, нет такого жанра, в котором бы я не пробовал свои силенки. В разное время, а иногда и одновременно, я был актером драматическим, комическим, опереточным, эстрадным, даже балаганным.
И вот однажды мне пришла в голову неожиданная и, может быть, даже крамольная мысль: а не попробовать ли в один вечер показать все, что я умею?! Мысль эта мне показалась заманчивой, я загорелся и тут же начал составлять программу этого необыкновенного вечера, упиваясь контрастами.
Первым номером я выйду в чем-нибудь очень драматическом, даже лучше трагическом. Ну, например, Раскольниковым. Сыграю одну-две сцены из «Преступления и наказания». Да, Достоевский – это хорошо. Никакого писателя никогда е любил и не люблю я так, как Достоевского. Возьму, пожалуй, самые тонкие и психологически напряженные сцены с Порфирием Петровичем. А партнером приглашу лучшего исполнителя этой роли – Кондрата Яковлева, он играл Порфирия с самим Орленевым.
А после этого, одного из самых сложнейших и драматических образов, я выйду… я выйду… кем бы мне выйти? – Менелаем! Соседство парадоксальное, почти ужасающее. Отлично!
Что дальше? Дальше я сыграю маленький забавный скетч «Американская дуэль», а в нем одессита, несколько трусливого, но ловкого и находящего забавный выход из трудного положения.
Потом дам дивертисмент, то есть маленький эстрадный концерт, где различные жанры, а у меня их наберется немало, будут мелькать, как в калейдоскопе, – короткие, броские номера.
Так, теперь опять надо перевести публику совсем в другое состояние, а для этого исполним что-нибудь грустное, элегическое. Что же выбрать? И как исполнить? А вот как. Трио – рояль, скрипка и виолончель – разыграет романс Глинки «Не искушай», ну и его же «Жаворонка». Себе я возьму партию скрипки.
Затем, аккомпанируя себе на гитаре, спою несколько русских романсов.
Какой бы еще придумать контраст? – Классический балет! Что может быть лучше! С профессиональной балериной, с классическими поддержками я исполню настоящий балетный вальс.
После балета прочитаю комический рассказ, спою злободневные куплеты… Кажется, хватит на один вечер? Пожалуй, не хватает эффектного, острого и неожиданного завершения. Что бы такое изобрести? Ладно. Пусть будет еще мой «хор». Каких же еще нет у меня жанров? – Трагедия, комедия, оперетта, эстрада… и цирк. Ну, конечно! Должен быть цирк – ведь в нем я начинал! Теперь я им закончу. На трапеции в маске рыжего отработаю полный ассортимент трюков, возможных на этом снаряде… И назову вечер… назову просто: «От трагедии до трапеции»!
Я понимал, конечно, что в этой программе, кроме мастерства и самоуверенности, немало и озорства. Тем лучше! Мысль о том, что я могу не справиться с таким вечером, даже не приходила мне в голову. Молодость тем и хороша, что безоглядно верит в свои силы.
Спектакль шел больше шести часов! Успех и сбор были сенсационными. Я выложился весь. Пожалуй, никогда в жизни я так не выдыхался. Еще один такой вечер, и я бы скончался от истощения в довольно раннем возрасте – двадцати восьми лет от роду. А на могиле была бы уместна такая эпитафия: «Здесь лежит обжора, объевшийся искусством». Но все сошло благополучно. Даже пресса.
Одну из рецензий написал критик Эдуард Старк (Зигфрид), известный своей монографией о Шаляпине – самом великом, что есть для меня в искусстве. Не случайно я на своем синтетическом вечере не исполнил ни одной оперной арии. Впрочем, тогда бы сразу все узнали, что у меня нет никакого голоса.
Эдуард Старк писал: "…когда афиша возвестила о его «синтетическом вечере» в «Паласе», на котором Утесов вознамерился явиться под всевозможными масками, когда рядом стали Менелай из «Прекрасной Елены» и Раскольников, то многие даже непредубежденные люди, вероятно, подумали:
– Ой! Уж нет ли тут шарлатанства какого-нибудь… Менелай и Раскольников? Наверно, здесь скрывается трюк!
И что же? Трюка не оказалось. Был уморительно смешной Менелай, без всякого шаржа в пластике и тоне. А следом за ним появился Раскольников. И едва только переступил он порог кабинета судебного следователя, как вы тотчас же почувствовали человека, живьем выхваченного со страниц романа Достоевского. Контраст с Менелаем был так велик, что произвел, на меня по крайней мере, ошеломляющее впечатление.
Самое замечательное здесь было даже не разговор, не тон речи Утесова, а нечто гораздо более трудное: его пластика. То, как он сидел и молча слушал Порфирия Петровича, причем все существо Раскольникова обнаруживало необыкновенный нервный трепет, боязливую настороженность. То, как артист сумел сконцентрировать всю смуту души Раскольникова в выражении глаз, проводя все это с поразительной выдержкой, доказало, что Утесов владеет исключительной техникой. Надо заметить еще, что отдельно выхваченный кусок большой роли сыграть труднее, чем всю роль… Несомненно, что в лице Утесова мы имеем дело с большим и притом многогранным талантом". ["Вечерняя Красная газета". П., 1923, N 26, стр. 4.]
Вторая рецензия была написана режиссером Г. Крыжицким. Я приведу из нее несколько строк: "Это был даже не успех. Скорее, какой-то бешеный фурор, необычайная сенсация. Битком набитый театр. Публика неистовствовала, аплодировала, и галерка бесновалась, как в доброе старое время. Спектакль, который, судя по всему, грозил быть очередной «гросс-халтурой», превратился в один из интереснейших вечеров. Утесов – гимнаст, танцор, певец, скрипач, трагик и, наконец, – цирковой рыжий, великолепный рыжий и эксцентрик.
Конечно, Утесов все-таки прежде всего артист эстрады. Но он изумительный работник, и потому «кто знает, что завтра его ждет впереди…». ["Музыка и театр", 1923, N 5.]
Ролей переиграно было немало. Какие-то нравились всем – и мне, и публике, и рецензентам, какие-то не нравились никому. Таких, к моему счастью, было меньше. Почему нравились? Почему не нравились? Самому актеру, наверно, все равно не рассказать, как он создал тот или иной образ и чем он трогал публику. Я ничего не хочу придумывать. И признаюсь, что мною при создании образа чаще всего владела интуиция.
Вот Эдуард Старк пишет, что я как-то особенно сидел в роли Раскольникова, но я бы не мог сказать, почему я сидел так, а не иначе. Наверно, только так и мог сидеть мой Раскольников перед Порфирием Петровичем, наверно, так ему сиделось, так ему было удобно, нужно, наконец, – он ведь тоже не думал, как он сидит перед следователем.
Может быть, с точки зрения театральных теорий это и нехорошо. Но ведь надо учесть одно обстоятельство – я никогда не учился театральному искусству, у меня не было в нем учителей. Только старшие товарищи. И всем своим существом я старался от них воспринять все, что казалось мне хорошим.
Я вовсе не хочу сказать, что театральные студии не нужны и что актерскому искусству не надо учиться. Учиться-то можно по-разному.
Как, например, раньше можно было стать актером? Допустим, так. Молодой человек, закончив гимназию, приходил в театр к антрепренеру, ну, скажем, в Харькове к Синельникову, и говорил:
– Николай Николаевич, не могу жить без театра, хочу быть актером.
Синельников, как правило, старался его отговорить от рокового шага и советовал учиться дальше, поступить в университет. Но молодой человек со свойственной юности уверенностью и упорством настаивал:
– Без театра не могу!
И Синельников соглашался:
– Ну что ж, попробуйте.
И молодой человек начинал играть бессловесные роли в массовых сценах. Если у него хоть что-то получалось, ему доверяли произнести слова: «Графиня, чай подан». Если получалось и это, давали маленькую роль, потом побольше, глядишь, к двадцати двум – двадцати трем годам он становился уже актером. Общение с мастерами, строгий взгляд старших товарищей, вовремя поданный практический совет делали свое воспитательное дело. Это была школа, но школа, если говорить языком современным, – на производстве, на практике.
Вот эту школу я и прошел.
Сейчас у нас, по моим наблюдениям, много «книжных» актеров. Все знающих о своем герое, но неспособных заразить его страстями зрителей. Мне приходилось встречать актеров, удивительно экономно награжденных умом, но когда они выходили на сцену, то интуиция делала чудо, и даже зритель говорил:
– Ну какой же умный человек этот актер X.
А актер Х не анализировал свою роль, не копался в психологии образа, а интуитивно достигал огромных результатов. Я мог бы даже назвать фамилии таких актеров (равно как и музыкантов, и даже, как ни парадоксально это прозвучит, писателей) не только из прошлого, но и из современности тоже.
Опять-таки я не хочу сказать, что ум актеру в тягость. Чем его больше, чем он гибче – тем лучше. Плохо только, когда он подавляет и охлаждает чувство, и уж совсем плохо, когда он на сцене заменяет талант.
Ах, как хорошо, когда есть и то и другое!
Одновременно с опереттой я выступаю в «Свободном театре», созданном в 1922 году. Здесь, как в любом театре миниатюр, идут маленькие пьески, скетчи, водевили и много сольных номеров. Особенность этого театра в том, что программа меняется два раза в неделю. Только уж если программа имела особенно большой успех, ее показывали более продолжительное время. Был даже случай, когда спектакль шел по два раза в вечер два месяца подряд. Правда, это была не миниатюра, а, говоря языком кино, полнометражная комедия – инсценировка рассказов американского писателя Д. Фридмана «Мендель Маранц».
Менделя Маранца играл я – и сто пятьдесят раз превращался в этого домашнего философа.
Что же это был за человек, Мендель Маранц, почему он так полюбился зрителям? Молодому поколению это имя, может быть, уже и незнакомо, поэтому скажу о нем несколько слов – он того стоит.








