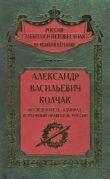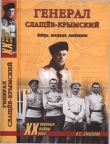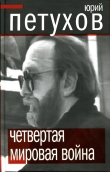Текст книги "Осажденная крепость. Нерассказанная история первой холодной войны"
Автор книги: Леонид Млечин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Потерпев сокрушительное поражение, 24 декабря 1919 года Александр Васильевич Колчак в полном отчаянии назначил Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока. Адмирал не любил и даже презирал атамана. Но к тому времени более сильной антибольшевистской фигуры здесь не осталось.
4 января 1920 года Колчак передал Семенову всю полноту гражданской и военной власти на территории российской восточной окраины. Остатки колчаковских войск пробились в Забайкалье. Семенов принял их под свое командование и повелел именовать Вооруженными силами Российской Восточной окраины.
14 февраля он приветствовал каппелевцев:
«Доблестные офицеры и солдаты армии Восточного фронта!
Вы, очутившиеся среди не поддающейся описанию общей кошмарной обстановки на Западе, окруженные со всех сторон озверевшими станами красных, не поддались общей панике, не пали духом и нашли в себе веру в святое дело возрождения Родины. Я и войска Дальнего Востока с радостью встречаем вас, братьев-героев. Я приказал, чтобы к вашему приходу было приготовлено все, в чем вы нуждаетесь…»
Численность семеновской армии составила почти тридцать тысяч человек. С февраля по октябрь двадцатого она успешно противостояла красным.
2 января 1920 года главнокомандующий войсками Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенант Семенов подписал приказ № 9:
«Приказываю окружным интендантам отпускать всем офицерским чинам, врачам, военным чиновникам, чиновникам военного времени, военному духовенству всех частей, штабов, управлений бесплатное казенное обмундирование согласно нижеприведенных норм. В год: один полушубок, одна шинель, одна фуражка, одна папаха, две пары сапог, одни суконные шаровары, один суконный мундир, два летних мундира или рубахи, двое летних шаровар и четыре смены белья…»
16 января Семенов в Чите объявил о создании правительства российской Восточной окраины во главе с кадетом Сергеем Афанасьевичем Таскиным, депутатом 4-й Госдумы от казаков Забайкальской области. Управляющим ведомством иностранных дел стал генерал-лейтенант Борис Ростиславович Хрещатицкий (впоследствии он бежал в Китай, затем во Францию, где вступил в Иностранный легион и воевал на территории нынешней Сирии).
Но, видя, что происходит, казаки уходили от атамана. Семенов злился:
«В Первом Забайкальском казачьем полку произошло печальное событие. Две сотни под влиянием агитации окончательно разложились, забыв долг перед возрождающейся Родиной, честь родного войска, запятнали себя позорным именем изменников, перебили офицеров и ушли к большевикам. Приходится отметить, что офицеры опять были не на своих местах, далеко стояли от казаков, не вели необходимых бесед, не были лучшими друзьями казаков, а стояли настолько далеко, что казаки со всеми духовными запросами не могли просто и доверчиво обращаться к ним…
Всех казаков Первого полка, перешедших к красным, как изменников Родине и родному казачеству при поимке расстреливать без суда. Вместо бежавших призвать сейчас же из их семей, из братьев и отцов, могущих носить оружие. Из семей изменников взять заложников. Объявить казакам, что в случае бегства их к красным из семей изменника будет расстреливаться старший член семьи. Все бежавшие к красным лишаются земельных наделов, вычеркиваются из списков и как изменники расстреливаются».
Судьба атамана целиком и полностью зависела от японцев. Потому Семенов наставлял своих подчиненных:
«Японское императорское командование изъявило готовность не только помочь нам материально, но и ввело свои доблестные войска в пределы боевых действий, чем оказало действительно братскую помощь русскому народу как истинный и бескорыстный союзник. Уверен, что и в дальнейшем боевое братство Японских императорских и вверенных мне войск еще больше укрепится, и казаки, войска и население поймут рыцарское отношение японского народа, проливающего кровь своих сынов за восстановление правопорядка на нашей Родине.
Приказываю: всем офицерам и солдатам при встрече с офицерами и солдатами Японской Императорской армии приветствовать их отданием чести».
Бывшие колчаковские генералы требовали прорываться в Приморье, на складах Владивостокского порта скопились большие запасы оружия и боеприпасов. Атаман не хотел покидать Читу. Но генералы его не послушались.
Уход японских войск из Забайкалья стал началом конца Семенова. Атаман искал поддержки у других союзников, но англичане и американцы считали его преступником. Семенов заметался: то предлагал восстановить монархию и возвести на трон великого князя Дмитрия Павловича, то созывал краевое народное совещание в поисках народной поддержки. Но было уже поздно – в октябре 1920 года его выбили из Читы.
Уже в эмиграции, в Китае, атаман Григорий Семенов попытается понять причины собственного поражения:
«Каждый русский генерал действовал совершенно самостоятельно, руководствуясь личными усмотрениями и провинциальными интересами. Каждая армия действовала в выбранном ею районе на свой собственный страх и риск и прекращала войну, когда находила нужным, не считаясь с общими требованиями момента.
В результате – сотни миллионов затраченных денег, море русской крови, всеобщее недоверие к возможности дальнейшей борьбы. И советская власть владеет одной седьмой суши земного шара и многомиллионным запасом рабски покорной ей живой силы».
Атаман не упомянул еще одну причину собственного поражения: невероятную жестокость его отрядов. Да, в Гражданскую войну все отличились по этой части. Но большевики, по крайней мере, обещали крестьянам землю. Семенов не сделал и этого. Он отправлял в деревню только карательные отряды.
Местные жители жаловались: «Неурожай, дороговизна, неурядицы. Главное – карательные отряды. Совсем не причастных ни к какому злодеянию поведут в баню, разденут и хлещут плетьми с завязанным в них свинцом, – до полусмерти. Иногда можно было откупиться деньгами. А иногда и деньги брали, и секли. Девушки и молодые замужние бабы прятались при посещении села карателей, действовавших именем полковника Семенова».
«Казаки предпочитали брать все, что им было нужно, не платя, – вспоминал один из колчаковских министров. – Но этого было мало. Если казак видит в огороде арбузы, он сорвет все, чтобы перепробовать; если он ночует в хате, то на прощанье поломает скамью или швырнет в колодезь ведро. Какое-то непонятное озорство, неуважение к чужому труду и праву, презрение к крестьянам, которые якобы не воюют.
Забывая, что война ведется на русской земле и с русскими людьми, военачальники подвергали население непосильным тяготам. Я сам видел домовитых, зажиточных крестьян, я ни одной минуты не допускаю мысли, что они стали большевиками. Между ними и коммунизмом ничего общего быть не может. Но они не могли не поддаться настроению «большевизма», когда через их деревни прошли казаки».
Россия была крестьянской страной. В Гражданскую войну и красные, и белые выкачивали из деревни ресурсы, необходимые для войны. Основу и красной, и белой армии составляли крестьяне, которые воевать не хотели. Поэтому обе армии начинали с вербовки по идейным мотивам, а приходили к насильственной мобилизации.
Но отчего же в таком случае крестьяне не разбегались сразу? Почему не дезертировали, а продолжали служить?
Крестьяне ценили, что в армии их кормили, одевали. Был такой мотив: надо сражаться до конца, а то поймают, замучают и убьют. Но главное было другое – в такие лихие времена оставаться без оружия и одним – страшно. Уж лучше иметь возможность защитить себя и свою семью. И вообще, быть среди своих не так опасно.
Дальневосточные крестьяне не знали, что такое помещичье землевладение, привыкли к воле, потому так возмущались произволом армий Колчака и Семенова. Кроме того, они не успели «распробовать» советскую власть, еще не знали, что такое продразверстка. Поэтому благожелательно относились к большевикам. А белые вели себя разнузданно, демонстрируя презрение к гражданскому населению.
Иногда возмущение охватывало и самого атамана Семенова. 17 июня 1919 года в Чите он подписал приказ № 196:
«Стоит собраться нескольким офицерам в одном из ресторанов, и в результате – путешествие в три часа ночи с музыкой по улице или бешеная скачка верхом по самым многолюдным улицам с угрозою раздавить все, что попадается под ноги, или стрельба в ресторане, или ненормальное распоряжение оркестром, или, наконец, езда на коне по неприспособленным для езды местам…
Приказываю:
Не допускать езды верхом вскачь и даже очень крупной рысью по улицам вообще и особенно по главным, а также там, где по какому-либо случаю более многолюдно. Всем военнослужащим, независимо от служебного положения, не нарушать обязательных положений по городским порядкам. Например, относительно закрытия ресторанов. Не появляться военнослужащим на улице в том виде, когда человек теряет обычный свой вид и перестает логически мыслить…»
Увещевания не помогали.
27 июня 1919 года он подписал еще один приказ: «На станции Карымская два офицера Сводного артиллерийского дивизиона Сводной Маньчжурской Атамана Семенова дивизии поручик Цуканов и прапорщик Гибнер выехали на перрон станции верхом и пытались заехать в зал 1-го и 2-го класса. Не въехали по не зависящим от них обстоятельствам – лошади не послушались. Ясно, что подражали примеру, данному начальником штаба той же дивизии подполковником Сергеевым, который не только ездил по перрону, но въехал даже в зал 1-го и 2-го класса. Требую, чтобы такие безобразия были прекращены…»
Военный министр в правительстве Колчака барон Будберг рассказывал, как офицеры карательных отрядов хвастались своими подвигами. Уверяли, что пойманных большевиков они закапывали живыми, предварительно распоров им животы и выпустив внутренности на дно ямы, чтобы «мягче было лежать».
Но Семенов не хотел, чтобы его считали виновным в чем-то преступном:
«В разных газетах, враждебно относящихся ко мне и подведомственным мне войскам, часто помещают заметки о противозаконных деяниях «семеновцев». В одной газете говорится, что около Читы чуть не неделю на телеграфных столбах висели два железнодорожных служащих, повешенные «семеновцами». В другой указывалось, что жители такого-то населенного пункта без разбора пола были перепороты с раздеванием догола…
Все случаи были проверены, и никто из железнодорожных служащих в Чите не мог назвать фамилии висевших на столбах в течение недели, и они даже не подозревали о столь продолжительном соседстве мертвецов. Никто не мог подтвердить факта порки всех жителей одной деревни без разбора пола и еще с раздеванием. Большая часть из возводимых на «семеновцев» преступлений совершались какими-то самозванцами…»
Гражданская война потрясла страну невероятной жестокостью. Современные методы уничтожения людей соединились со средневековым презрением к жизни. Видя, что творят карательные отряды, крестьяне брались за оружие и уходили в партизаны. Власти отвечали на это репрессиями, и война все больше и больше разгоралась. В конце концов крестьянские восстания охватили всю Сибирь и Дальний Восток.
Станцию Борзя красные вернули через два года после того, как потеряли. Бои здесь шли ожесточенные. В них участвовал молодой Александр Александрович Фадеев, будущий знаменитый прозаик и генеральный секретарь Союза советских писателей. Он вспоминал, что пришлось преодолеть восемь рядов колючей проволоки, и все равно не удавалось прорваться к вокзалу, настолько бешено сопротивлялись белые. Но удержать станцию семеновцы все равно не смогли.
Григорий Михайлович Семенов рассчитывал на симпатии монголов, бурят и других народов, населявших эти места.
Вопрос о земле в Сибири стоял не так остро, как в европейской части России, потому что не было распространено помещичье землевладение. Другая проблема была важнее: в то время почти половину населения составляли, как тогда говорили, инородцы. А национальные движения требовали автономии.
Когда в Сибири начиналась гражданская война, на первых ролях оказалась демократическая контрреволюция: эсеры и меньшевики. В национальном вопросе они занимали либеральную позицию. В январе 1918 года Временная Сибирская областная дума предоставила всем народам полную свободу выбора: отделяйтесь и создавайте новое государство или оставайтесь автономией в составе Российской республики.
Но декларации остались на бумаге! Верх в Белом движении взяли профессиональные военные. Они остроты национальных проблем не понимали и держались лозунга единой и неделимой России. Но этот лозунг сталкивал их не с большевиками, а с национальными движениями. Колчак не принимал сторонников автономии, считал их сепаратистами и такими же врагами, как и большевиков. Когда он осознал, кто представляет наибольшую для него опасность, было уже поздно.
А вот Ленин оценил силу национальных устремлений к самостоятельности и щедро обещал всем народам полное признание их прав на самоопределение. Национальные меньшинства примкнули к большевикам.
18 сентября 1919 года Семенов объявил о призыве тунгусов в свою армию. Через несколько дней Бурятская народная дума объявила о мобилизации в бурят-монгольскую конную бригаду. Она должна была подчиняться барону Унгерну. Но и монголы, и буряты довольно быстро ощутили желание бросить Семенова и перейти на другую сторону. Лишь немногие верили в белых и рассчитывали на союзников.
После падения Колчака атаман Семенов ощутил свою значимость. А тут еще съезд монголов присвоил ему княжеский титул. Он подумывал о создании монголо-бурятского государства со столицей в Даурии.
4 февраля 1920 года газета «Казачье эхо» поместила обращение лам к атаману: «Григорий Михайлович, господин атаман Семенов! Обращаемся мы, все ламы Агинского дацана с Ширетуем во главе. Сердцем сочувствуем начатому тобою делу, возложенному Богом, и приносим глубокую благодарность за твое внимание к нам, ламам. Да исполнится с Божьей помощью задуманное Тобой великое дело! Да будет свят тот великий час, когда над объединенной Великой Родиной взойдет твое солнце… В молитве не оставим мы Тебя, а на деле Ты не позабудь нас…»
25 февраля в Чите открылся панмонгольский съезд. Присутствовал Семенов. Председательствующий сказал, что когда-то, во времена Чингисхана, все монгольские племена были едины. Потом часть попала под власть Китая, часть под власть России. Сейчас настало время объединить внутреннюю и внешнюю Монголию, Бурятию, Калмыкию, а также монголов Тувы и Синьцдзяна. Съезд постановил образовать независимое, федеративное, великомонгольское государство. Столицей наметили город Хайлар в Маньчжурии. Но поскольку он был занят китайскими войсками, то решили временно обосноваться на станции Даурия во владениях барона Унгерна. Так и появилось Даурское правительство.
В апреле 1920 года Агинская аймачная дума от имени бурят Забайкалья обратилась к японскому императору: «Молим признать маленький бурятский народ как отдельную самобытную нацию; сохранить его жизнь и защитить от большевиков, отбирающих землю, поругивающих дацаны; просим остаться в пределах Забайкалья до очищения его от большевиков».
Семенов пытался убедить японцев признать Даурское правительство, намекая, что самостоятельная Монголия под его управлением станет японским протекторатом. Но японцев эта авантюра не соблазнила.
Унгерн в Даурии формировал конную дивизию. Атаман Семенов подписал приказ: «Начальника Инородческой дивизии полковника барона Унгерна за неустанную работу на пользу и восстановление армии и государственного порядка как вполне заслуживающего перевожу в генерал-майоры».
С Семеновым барон держал себя на равных. Почему-то не хотел видеть его с любовницей. Писал: «С Машкой не приезжай, если приедешь – ее прикажу выпороть, а тебя выгоню».
Сам Унгерн мало интересовался женщинами. Он, правда, 30 июля 1919 года в Харбине женился на маньчжурской принцессе Цзи. Но уже через два месяца вернулся к себе в Даурию. А еще через несколько месяцев они развелись.
Барон Унгерн был, мягко говоря, странным человеком. «В походах он, как все, промерзал до костей, и на стоянках его можно было часто видеть скорчившимся у костра. Вообще он совершенно не следил за собой. Можно с уверенностью сказать, что умывался он не более одного раза в неделю, а белье менял уже тогда, когда от него оставались одни лохмотья. Стирать же белье никогда не отдавал. Есть предпочитал руками».
Крепко пил. Спал не раздеваясь. Говорят, баловался кокаином. Перед боем ездил к бурятским шаманам и буддийским ламам, просил совета. Унгерн, вспоминал его бывший командир в царской армии, был «необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю».
Это описывал еще генерал Врангель: «Худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной. Он не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только не знает самых элементарных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против дисциплины, и против военного воспитания – это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида. Оборванный и грязный, он спит на полу, среди казаков, ест из общего котла. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешне офицерский облик».
Барон Унгерн получил удар саблей, и у него очень сильно болела голова, он почти не спал. А если еще учесть наследственность… Его отца признали умалишенным и отправили в клинику для душевнобольных.
Барон вербовал добровольцев, платил им золотом и серебром. Деньги добывал, грабя проходящие поезда. Поэтому пассажиры, которым было что терять, перед самой Даурией вылезали, пересаживались на лошадей и объезжали лагерь Унгерна. Причем он никому не давал пощады, грабил и русских, и китайцев. Когда белые стали терпеть поражение, то бежали через границу в Китай. Унгерн и у них отбирал деньги и драгоценности. Как-то ему попались аэропланы в разобранном состоянии. Он распорядился:
– К субботе собрать все аппараты. Если в воскресенье не увижу их над Даурией, в понедельник будете летать с крыши.
Заключенных держать не любил: или расстреливал, или заставлял бить палками. Барон ввел в практику порку. И не всякий выдерживал сто пятьдесят – двести ударов деревянными палками. Порол даже офицеров. Один провинившийся прапорщик получил двести ударов. Недостатка в палачах у него не было. Вокруг барона группировались какие-то прирожденные садисты и убийцы.
Получив от Семенова семь миллионов рублей золотом, Унгерн решил идти в Монголию. Приказал личному составу учить монгольский язык. Накануне похода на аэроплане полетел в дальний буддийский монастырь, где ламы благословили его на ратный подвиг. Фаталист и мистик, Унгерн считал, что, раз все предопределено, ход событий можно предугадать. Однажды проиграв бой, приказал выпороть ламу, считая, что тот назвал ему неблагоприятный день для штурма.
Барон намеревался изгнать китайские войска, которые в октябре 1919 года заняли столицу Монголии – Ургу (ныне Улан-Батор). Монгольского монарха Богдо-гэгэна заставили отречься от престола. Популярного ламу Нэйсэгэгэна пригласили на обед и там убили.
Богдо-гэгэн (в переводе с монгольского «августейший свет») – глава ламаистской церкви и теократический правитель Монголии. После смерти одного церкви выбирали следующего, и он считался перевоплотившимся «живым богом».
Унгерн послал свергнутому монгольскому монарху письмо: «Я, барон Унгерн, родственник русского царя, ставлю цель, исходя из традиционной дружбы России и Монголии, оказать Богдо-хану помощь для освобождения Монголии от китайского ига и восстановления прежней власти. Прошу согласия на вступление моих войск в Ургу».
Если Семенов хотел создать самостоятельное монгольское государство, то Унгерн ни много ни мало вознамерился восстановить империю Чингисхана. 2 октября 1920 года во главе небольшого отряда он вступил на территорию Монголии. 3 февраля 1921 года войска Унгерна взяли Ургу. И сразу начались грабежи и погромы – китайцев и иностранцев.
Но монголы встречали его восторженно. Вечером в буддийских храмах отмечали освобождение города от оккупантов. Буддийское духовенство приветствовало освободителя. Монарх произвел Унгерна в князья. И сегодня в Монголии, где высоко ценят государственную самостоятельность, с благодарностью вспоминают барона.
Унгерн был невероятным самодуром. Прогневался на своих штабистов, распорядился: «Глупее людей, сидящих в штабе дивизии, нет, приказываю никому не выдавать три дня продуктов».
Приказал: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожить вместе с семьями».
Зачем же убивать детей? «Чтобы не оставлять хвостов».
В мае 1921 года Унгерн двинулся в Россию. Барону постоянно рассказывали об антибольшевистских восстаниях в Сибири, и он решил, что люди только и ждут вождя. Стоит начать – и все к нему присоединятся.
10 июня 1921 года появилось обращение Унгерна к казакам: «Передавая привет и пожелания успеха в борьбе с большевизмом, генерал-лейтенант барон Унгерн приказал всем, имеющим возможность, бежать в Монголию и вступать в ряды его регулярной армии. Всем станичникам, оставшимся на Руси, не покладая рук и не щадя живота своего точить корни поганого дерева».
Унгерн обещал восстановить в России монархию и вернуть на престол великого князя Михаила Александровича, брата Николая II. На самом деле к тому времени великий князь уже давно был мертв, его убили большевики в Перми.
Против барона сражались кавалеристы будущего маршала Константина Константиновича Рокоссовского. В бою Рокоссовский зарубил нескольких вражеских конников, сам был ранен в ногу, лошадь под ним убило, он потерял много крови, попал в госпиталь.
8 июня 1921 года нарком по иностранным делам Чичерин писал главе правительства Дальневосточной республики Александру Михайловичу Краснощекову: «Ввиду опасности со стороны Унгерна мы должны быть в теснейшем контакте с Китаем в целях совместных действий против Унгерна. Планы Унгерна опаснее планов Меркулова. Именно теперь особенно необходимо столковаться с китайским правительством о совместных действиях в Монголии, где таким образом отвлечем Унгерна от вторжения к нам и от нападения на железную дорогу».
Унгерн был невероятным авантюристом. Он пошел войной на большевиков, имея всего несколько тысяч солдат (точную цифру и сам не знал), три десятка пулеметов и четырнадцать орудий. 30 августа 1921 года 5-ю красную армию возглавил Иероним Петрович Уборевич, один из самых ярких советских полководцев. Противостоять таким полководцам барон Унгерн, при всем его боевом опыте, не мог.
Красные активно использовали авиацию. Бомбардировки эффекта не давали. Только одна бомба, сброшенная с аэроплана, ранила двух солдат. Но разведка с воздуха позволяла следить за передвижениями Унгерна. В июне его войска были разгромлены.
Барон решил отступать в Монголию. Да только его люди стали разбегаться. Он же очень жестоко обращался с провинившимися. Офицеры решили от него избавиться: бригада взбунтовалась и вышла из подчинения. В ночь с 18 на 19 августа заговорщики бросили в его палатку две гранаты и еще обстреляли ее из револьверов. Но убили только вестовых, потому что барон ночевал в другой палатке. Услышав выстрелы, он вскочил на лошадь и ускакал. Он направился к монгольскому дивизиону, рассчитывая на его верность. Но утром 20 августа монголы его разоружили и связали. А встретив красных, передали им барона.
«Правда» писала: «В Монголии взят в плен со своим штабом и с личной охраной барон Унгерн. Наши конные и пехотные части неотступно преследовали его, не отставая от противника ни на день. Ставка Антанты на монголобелогвардейские банды бита».
26 августа 1921 года Ленин распорядился провести суд над Унгерном с максимальной скоростью. И расстрелять. Указание вождя было исполнено неукоснительно. Меньше чем через месяц барона судили в Новониколаевске в летнем театре в парке «Сосновка» и приговорили к расстрелу.
А Семенов просидел в Чите вплоть до ухода японцев.
13 августа 1920 года атаман обратился к населению: «Граждане! В связи с эвакуацией японских войск из Забайкальской области мною производится перегруппировка войск и стягивание армии, к которой я временно и выезжаю. Не верьте злым слухам, что Чита нами брошена. Еще раз призываю вас к порядку и спокойствию. Не верьте провокаторам и малодушным людям. Мною приняты все меры к вашей безопасности».
В распоряжении Семенова оказался двухместный аэроплан «Сальмсон» французского производства, сложный в пилотировании. Но у него были хорошие летчики. Один из них взялся спасти его от наступающих красных войск. Семенов перелетел в Даурию на аэроплане. Перевел туда штаб, войска, перевез золотой запас. И одновременно готовился к уходу за границу. Там создавал запасы продовольствия, вкладывал деньги в китайские и японские банки.
Атаман Семенов рассчитывал на поддержку китайского генерала Чжан Цзолиня, который управлял Маньчжурией. Но генерал был крайне осторожен. Избегал прямой конфронтации с Советской Россией.
«Харбин, – вспоминал очевидец, – осчастливлен прибытием самого атамана Григория Михайловича, конечно на трех бронированных поездах. Раскатывает по улицам с какой-то девкой, облепленной бриллиантами, владельцы которых, вероятно, там, идеже несть ни болезнь, ни воздыхание; сии бриллианты должны изображать кристаллизированную любовь к отечеству… На семеновском вагоне красовалась надпись: «Без доклада не входить, а то выпорю».
И тут в Приморье пришло к власти белое правительство братьев Меркуловых. Атаман воодушевился. Он рассчитывал занять достойное место во Владивостоке. На борту парохода «Кёдо-мару» вел переговоры с министром иностранных дел Николаем Дионисьевичем Меркуловым. Затем беседовал с главой правительства Спиридоном Дионисьевичем Меркуловым.
Но братья наотрез отказались иметь с ним дело. Во-первых, жестокость атамана считалась одной из причин поражения Колчака. Во-вторых, многие его воспринимали как японскую марионетку. В-третьих, Меркуловы не хотели больше воевать с большевиками, а пытались наладить мирную жизнь приморской окраины.
Тем более что во Владивостоке верх взяли каппелевцы, они себя так называли в память о погибшем генерале Каппеле. Шестнадцатитысячная армия каппелевцев была мощной силой. Разгромленные в Забайкалье, они по Китайско-Восточной железной дороге прибыли в Приморье. Каппелевцы не хотели делиться с семеновцами. Присутствие атамана было для них нежелательным. Разгорелась борьба за власть. А также за грузы и ценности, которые скопились в порту Владивостока.
Даже представители казаков сказали, что лишают Семенова звания походного атамана, потому что он желает продолжения гражданской войны, а нужно мириться. Меркуловское правительство назвало его государственным преступником.
«Превращение моих агентов в моих конкурентов, – вспоминал Семенов, – было совершенно неожиданно».
Главной проблемой атамана оказалась нехватка средств. Его солдаты не получали жалованья и выходили из подчинения. Считалось, что в его руках золотой запас, вывезенный из Забайкалья. Однако же в реальности все деньги Семенова оказались в руках японцев, которые заморозили счета атамана.
«Вокруг царила глубокая безнадежность, – вспоминал атаман, – и не было выхода и надежд на улучшение положения, потому что ни помощи, ни средств ожидать было неоткуда. Настал голод в буквальном смысле этого слова. Я сам питался из общего котла болтушкой из серой муки с кукурузой».
Семенов, ясное дело, рассчитывал на японцев. Пожаловался, что Меркуловы мешают ему сражаться с большевиками «во имя восстановления России и связанных с нею интересов императора Японии и его народа».
Атаман сильно переоценил себя. Японцы не захотели втягиваться в это дело. Во-первых, ощущали давление Соединенных Штатов, а во-вторых, окрепли позиции большевиков. Японцы утратили интерес к Семенову. В обмен на обещание покинуть Россию ему посулили денег.
14 сентября на пограничной станции Гродеково Семенов сел на поезд и уехал в Шанхай. Он обосновался на севере Китая, под крылышком японцев, оккупировавших Маньчжурию. Его вернут в Россию уже арестованного после окончания Второй мировой войны, в 1945 году. И как предателя повесят 30 августа 1946 года поздно вечером во внутренней тюрьме Министерства госбезопасности СССР.