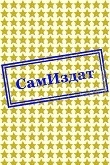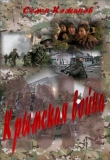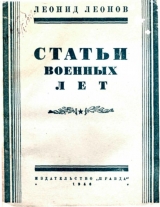
Текст книги "Статьи военных лет"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Величавая слава
Когда Европа, растоптанная и поруганная фашизмом, думает о своей судьбе, – кнут поработителя или торжество правды предстоят её потомкам, – она вспоминает о нас. Тогда в слезах отчаяния она обращает глаза к востоку, к Красной Армии. Вдовы и сироты трепетно вслушиваются в громовой голос её артиллерии и танков; по географическим обозначениям её побед они высчитывают сроки своего освобождения. Для многих это завтра наступит слишком поздно, а сегодня только она одна, Красная Армия наша, в полную силу бьётся с мрачным и подлым злодейством.
Море крови, в котором мир стоит сейчас по горло, обязывает его к справедливым оценкам людей и явлений. На своём страшном опыте он узнал, что фашизм есть смерть наций, гибель жизни и крушение культур; пропись перестаёт быть банальностью, когда она написана кровью по живому мясу. И потому всё нынче в могучей руке твоей, советский воин: смех детей и мудрые дары наук, цветенье садов и блистательные свершения искусств. Слава твоя величавей славы знаменитейших людей прошлых веков. Ибо величие состоит не только в том, чтоб создать сокровище, но и в том, чтоб грудью отстоять его в беде, не выдать его на потеху дикарю.
Множество великих имён мы подарили миру. Там были мечтатели и подвижники, люди глубочайшего социального прозренья, планировщики вселенной, разгадчики материи, строители и поэты. И слишком много полновесного зерна мы всыпали сами в закрома культуры, чтоб ставить урожай будущих веков под угрозу нового Аттилы и его вооружённых хулиганов. Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей. Единство советского народа, о котором мы так часто и с гордостью говорим, отразилось прежде всего в единой любви к этому стройному созданию двух великих отцов нашего народа. Все лучшие качества наши заключены там. Армия наша – воин с обнажённым мечом у источника жизни.
Она выросла на глазах нашего поколения, и мы по справедливости гордимся, что сами прошли её суровую школу в годы гражданской войны. Но какой громадный путь – от легендарной, рассекающей пространства, лихой конницы Ворошилова и Будённого до гвардейских танковых соединений Ротмистрова и Рыбалко. Как расширилась эта тесная вначале семья героев, полководцев и рядовых её солдат. Зигзагами, точно ходом молнии, пройдена взад и вперёд вся страна, и везде, в каждом безвестном полюшке было пролито по бесценной рабоче-крестьянской кровинке, и поэтому трижды дорога она нам, родная земля… Как выросли её подвиги, её техника, её знания! От Перекопа до Сталинграда, от тачанок до самоходных пушек и гвардейских миномётов, от разгрома косной царской реакции до побед над внуками Шлиффена и Клаузевица, этими профессорами научного империалистического грабежа! Честь такого неслыханного пути делят отвага и труд советских людей, их самоотверженность и преданность ленинско-сталинской идее.
И когда вчера шесть знаменитых наших городов салютовали в честь Красной Армии, они салютовали тем самым народу, вверившему ей свои лучшие чаяния, своё достояние и самых сильных своих сыновей.
У всякого народа есть дорогие имена прозорливых вождей и песенных героев. В них он вкладывает простое и мудрое содержание, не требующее толкований, наделяет их страстной и суровой нежностью и всеми совершенствами, накопленными в веках. Когда беда ломится в ворота нации, её дети объединяются вокруг этих имён, орлята во множестве нарождаются в народной гуще, и стаи их обрушиваются на врага. И тогда горе врагу, его матерям и обманутым его воинам, горе его убогим вожакам, обнажившим меч неразумной и неправедной войны. И светлая слава отцу наших молодых орлят, создателю мощи нашей, который смотрит за горизонты и видит то, чего не дано видеть всем!
И вот армия наша с молчаливым гневом идёт на запад. Бывалые солдаты её говорят: ты хотел нас взять напугом, Гитлер, но не вышел твой блиц-испуг. Зато вот мы тебя теперь попугаем!.. И ещё говорят ветераны, сжав зубы, что всё бывшее ранее – только присказка, а самая сказка ещё впереди, когда начнёт крошиться и лететь кусками хвалёная и перехвалёная немецкая сталь. Эти люди сдержат своё солдатское слово. И когда они ступят на почву Германии, рухнет фашистский притон, и под обломками его погибнет пруссачество. И чем чернее будет траур в Берлине, тем светлее солнце над Европой.
Близится час окончательной расплаты с гитлеровцами за все их злодеяния.
Будет день, когда Гитлер ступит на эшафот, если только не свалит его раньше, не придушит где-нибудь в бомбоубежище благоразумие германского народа. Он увидит вокруг себя ужасную, обугленную Европу и, оглядевшись, содрогнётся, как задрожала тень его, Лангхельд в Харькове, увидав из окошка петли мерзкие дела своих рук. И пусть он висит долго, на деревянном глаголе, этот прилично одетый господин, мастер кнута и душегубок, пока не насытятся взоры его жертв. Потом его сожгут и зароют в землю гадкий серый порошок и постараются забыть, как скверный сон в ночи, длившейся почти полтора десятилетия. Человек опять поднимется из праха, куда его повергла фашистская тирания, и миллионы немцев, вынужденные оставить ремесло разбоя, пусть честным трудом постараются вернуть себе место среди народов.
Мир процветёт ещё прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегла от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но уходя всё вперёд и вперёд, к звёздам, и оглядываясь назад, человечество долго ещё будет видеть в немеркнущем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!
«Правда», 24 февраля 1944 г.
Речь о Чехове
Моё литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя нашей – вот, уже не очень молодой! – советской литературы, Максима Горького. Почтительно и робко мы жали его руку, ещё сохранявшую тепло толстовского и чеховского рукопожатия. Люди до конца дней несут на себе отпечаток своих ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам суровая интонация толстовской речи, а в его взоре являлся порой проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души, чеховский юморок.
В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренником. Нам, нынешним, он представляется вовсе недоступным для, скажем условно, творческого прикосновения. Он даже и не снился никогда нам, молодым литераторам, хотя бы как Горький, который и сейчас зачастую приходит к нам, в беспокойную ночь художника, поддержать строгим отеческим наставлением. Мне думается, равным образом, что ещё не начало остывать и вещественное, телесное тепло Антона Чехова. В сущности, никто из нас не удивился бы, если бы они вошли сейчас сюда, друзья, и сели за столом президиума, перешучиваясь по поводу торжественного блеска этих огней и многолюдности такого собрания в честь одного из них. Да будет мне позволено признаться, я почти слышу, как сказал бы Алексей Максимович спутнику своему, замолкшему от смущения, – мельком и своеобычным жестом касаясь усов:
– Ишь что затеяли, черти драповые! Теперь ваша очередь, Антон Павлович. Терпите, сами виноваты… Все мы проходим через э т о дело.
Да, это он виноват в том, что, отбросив большие очередные дела, вы собрались здесь, гордые могуществом и всемирной славой нашего русского слова, вы – объединённые принадлежностью к такой красивой и грозной семье советских наций, вы – предсказанные ими в темнейшую ночь царской реакции: и те, которые пришли сюда из университетов, лабораторий и кузниц победы, и те, которые, незримо присутствуя здесь, громово стучатся сейчас в железобетонную берлогу зверя.
Приподнятость моего слова происходит от моего волнения – говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса.
Тогдашняя Россия не уберегла для нас Чехова. Он умер рано, мы даже не умели оплакать эту утрату соразмерно её значению. Мы в лошадки играли в тот день, когда перестало биться сердце Антона Чехова. На радость нам живут и творят с неслабнущей силой его друзья и близкие, к кому мы обращаем сегодня свою благодарную сыновнюю нежность. Но сами мы не испытали равного счастия непосредственного, духовного и физического прикосновенья к Антону Павловичу. Мой беглый очерк может не совпасть с действительным обликом Чехова, какой сохранился в памяти его современников. Я не исследователь литературы, а лишь старательный читатель, создающий собственное представление о великой личности в пределах доступного ему материала.
Волна, которую в мировой литературе поднял Чехов, не улеглась доныне. Было бы излишне приводить здесь цитаты из Чехова и цитаты о Чехове. Его и о нём, жившем – кажется – столько веков назад, по справедливости знают лучше и больше в нашей стране, чем по поводу любого из нынешних живых литераторов. Любовь к писателю и есть совершенное знание его искусства. Конечно, она возрастёт ещё в большей степени, по мере того, как познание самих себя и своего недавнего прошлого будет становиться потребностью всё более широких народных масс. Сколько нераскопанных кладов таится ещё в нашей земле и действительности!.. Для нынешнего читателя Чехов давно перестал быть только пессимистом или певцом сумерек и хмурых людей, как именовала его когда-то часть тогдашней критики. Она упрекала его в бесстрастии, требовала от автора точной общественной формулы, почти тезиса или, во всяком случае, социального пароля… и, нам понятно, иначе и быть не могло в ту пору накопленья боевых сил!.. но не заместимо никакими иными категориями целомудрие художника, и я затрудняюсь предсказать судьбу прекрасной прозрачной чеховской прозы, если бы этот взыскательный автор попытался в своей писательской практике внять предъявленным ему требованиям.
С Чеховым в литературе и на театре народилось понятие подтекста, как новая, спрятанная координата, как орудие дополнительного углубления и самого ёмкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. Мы имеем дело с на-редкость скупым и строгим к себе мастером – лермонтовской словесной сжатости, серовской точности рисунка. Он больше прилагает усилий не для того, чтоб родить слово, а чтоб убрать, смыть его совсем, если оно лишнее: остаётся лишь вырезанное навечно по бронзовой доске. Как в больших старых звёздах, весит тонны каждая строка такого плотного словесного вещества. Мне представляется, – операционная лампа особого высокогорного света сияет над операционным полем у этого тончайшего душевного хирурга: всё видно, и ни одной, отвлекающей, рассеивающей детали!.. Но и писательские подтексты Чехова, скрытые под этими девственной чистоты пеленами, огромны.
Сущность разногласий в оценках тогдашней критики, по моему разумению, заключалась в том, что все так называемые больные вопросы Чехов решал не в тесной прокуренной каморке, а под спокойным синим куполом родной природы. И хотя такая сдержанная манера изложения у Антона Чехова никак не походила на разящий сарказм Щедрина или горечь Успенского, нам виднее из этого места и нашего времени, что всё творчество Чехова было собранием острейших улик, представленных на вывод русскому общественному мнению, – пространным обвинительным заключением о строе прежней жизни, слегка прикрытым кое-где маской безразличной концовки – «ничего не разберёшь на этом свете!»
Но кому было нужно, те разобрались! Они поняли, почему о глухую ночь сердился почтальон и не отвечал студенту в «П о ч т е» и куда вели в конце концов о г н и в одноименном рассказе и отчего так упорно не спалось, несмотря на вполне сытую, хорошо отоваренную жизнь, профессору Николаю Степановичу в «С к у ч н о й и с т о р и и». Вот почему люди на Руси всегда становились лучше и честнее после прочтения книг Чехова. Он внушал отцам нашим презренье к мелкой обывательской суетне, он потряс основы зоологического буржуазного благополучия и понятие благородства человека, как и Горький, делал производным от его полезности обществу. Только оптимист, цельной и неколебимой нравственности человек, был способен на такое искусство, и не автор виновен, что в просторном зеркале его, чеховского, творчества так часто отражались печенеги и жабы, рожи пришибеевых и аксиний, каплуны, задыхающиеся в собственном жиру, и просто футляры от человеков. Именно такими существами, как всякий рассвет, кишели тогда предутренние сумерки России.
Это был огромной и скрытной страстности человек, почти мужицкого душевного здоровья и владевший неугасимой верой в великанскую судьбу России. Он бесконечно любил свою родину, хотя и не очень часто распространялся об этом. Истинная любовь скупа на признанья. Матросов и Гастелло также вряд ли много рассуждали на эту тему. И, может быть, сильнее всего выражена такая любовь в величавом молчании тех, которые бесстрашно и бесжалобно полегли в нынешних боях за независимость родной земли!.. Та Россия существенно отличалась от нынешней, но Чехову дорога была и та, полная народного горя и надежды на чудесную правду, которая постучится однажды в окошко России и мира. Он обожал Москву тех лет, крикливую и пыльную, со щербатыми мостовыми, и даже континентальная погодка московская представлялась вполне замечательной ему, обречённому погибнуть от туберкулёза… Но, любя родину, он никогда не льстил ей, как делают это чужие и лукавые, чтоб пригасить её настороженную бдительность. Писатель Чехов был крепко болен Россией, а такие имеют право на грустное, а порой и сердитое слово. Иногда этот врач ставил ей жестокий диагноз, но то не была лишь злая констатация факта, и в самом диагнозе заключалась, хоть и туманная порой, система леченья. Родники возрождения уже буравили снизу нашу землю, и пока уже народившиеся искатели народного счастья не отыскали эти источники живой воды для воскрешения своего народа, он жил работой и такой же действенной мечтой.
Ею, как животворящею росой, обрызганы страницы его книг Он звал на землю красивую жизнь, где справедливость и нет нужды и где труд положен в основу существованья. Знал он также безмерно трудную цену такой красоте, и никогда не усомнился, хватит ли у его народа духовных средств на её оплату. Достоевскому в дневнике писателя за 1877 год казалось, что Россия уже стоит накануне событий. Гораздо позже Антон Павлович определял расстоянье до них в двести лет. Эти равно пророческие сроки не совпадают потому лишь, что медленней всего время течёт на рассвете, и последний, самый холодный и тяжкий час перед восходом солнца тянется почти тысячелетье.
Смотрите же, как медленно наступало утро в России, в какое дальнее плаванье отправлялся тогда русский рабочий класс, на какой подвиг решался он и его ядро, впоследствии – детонатор революции, большевики! Чехов уже сознавал, что интеллигенция бессильна в одиночку, без масс бороться с животным, жестоким укладом российской жизни. Вспомните, как бьётся в истерике Катя и целует руку старому, мудрому Николаю Степановичу и молит: «Не могу я дольше, говорите же, что мне делать… Помогите мне!» И этот крайне просвещённый деятель, в полной мере разделяя её отчаянье, сам не знает выхода из тогдашней удушливой житейской мглы. Дело происходит в 1888 году. – Ровно за год перед тем петербургская ночь была ещё темнее, и виселица стояла посреди, и к ней, ёжась от утреннего холодка, шёл с откинутой головой и в последний раз глядел на майские гаснущие звёзды Александр Ульянов. Прикоснитесь же сердцем к этому медлительному континентальному времени, как если бы вы сами жили в эти годы!.. Только через пять лет младший брат его, имя которого со временем с надеждой и верой произнесут народы земли, поедет из Самары в Петербург по окончании Казанского университета. А другому великому человеку, который уж в наши дни во главе победоносных армий ступит на голову последнего пещерного зверя, фашизма, пока только девять лет. И должно пройти ещё десять лет, когда произойдёт 1-й съезд РСДРП, ещё без Ленина, съезд из девяти человек. Четырнадцать лет спустя молодой Сталин поведёт наших отцов и дедов на батумскую демонстрацию… Какая рань России и русской революции!
В зловещих сумерках, едва окрашенных полоской зари на горизонте, чёрный голод пройдёт по недородным губерниям; большой по размерам царь сменится царём помельче; в раздирающей уши тишине пробренчат стихи Надсона о разбитых жертвенниках, пока не закопает его в могилу вместе с рыдающими аккордами мракобес Буренин. В эти годы сопьётся Николай Успенский и сойдёт с ума брат его Глеб, а Гаршин, не в состоянии дышать этой тьмой, кинется в пролёт, чтобы распороть себе грудь об острое литьё чугунной печки… Как много поучительных уроков и материала для раздумий в одном этом сопоставленьи дат!..
Так вот почему не спится чеховским профессорам: в ночи раздаётся зов народа, и грозная, мучительная совесть пробуждается в русском человеке. Всё более широкие пласты родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия набатной песни – «на бой кровавый, святой и правый, марш – марш вперёд…»
Вот откуда шла жгучая тоска нашего любимого писателя. Близился рассвет в России, и было страшно не дожить до этого желанного часа. Признаемся, умереть сегодня, не дождавшись окончательного торжества правды и нашего оружия, было бы неизмеримо легче, чем в ту безутешную ночь. Мы видели индустриальное преображение наших равнин и гор, каждый из нас хотя бы по разу жал руку воистину н о в о м у человеку на земле, мы были свидетелями или участниками Сталинграда и Днепра, Орла и Витебска, мы слушали десятки раз московские салюты, мы знаем точно, наконец, как будет выглядеть завтрашний день победы… А Чехов не дожил даже до первого боевого крещения России революцией. С кем более жестоко поступила судьба – закопать в землю ровно за год до осуществления того, чему служил, во что верил, над чем столько трудился!
Сорок лет нет Чехова между нами, а чеховское имя всё выше поднимается к звёздам. И даже грохот этой страшной и прекрасной по своим целям войны не может заглушить ровного, явственно слышимого всеми нами сегодня, милого чеховского голоса. Верный сын и спутник России, Чехов идёт и нынче в ногу с нею. Он свой везде, желанный всюду; он запросто входит в дом стахановца, присаживается к столу академика, перед атакой беседует в землянке с офицером и бойцом, которым мы обязаны сегодня чудесной возможностью собраться здесь, под уверенным, безгрозным небом Москвы. Народ отразился в Чехове, и Чехов отразился в духовном облике своего народа. Героиня Зоя сделала тезисом своего житейского поведения слова его героя Астрова. Какая честь для литератора, даже для гения!.. По существу, не день смерти, а день его нового рождения для широчайшей народной массы мы собрались отметить здесь. Да, Чехов жив, он работает вместе с нами и, порою, больше иных живых литераторов нашего времени. Чехов дожил до торжества и расцвета правды.
Счастлива литература, имеющая таких предков. И тем большие ответственность и обязанность ложатся на нас, нынешних литераторов, наследников чеховской и горьковской славы. Они заключаются прежде всего в том, чтобы передать тем, которые ещё моложе нас, – неистраченное, неостылое, полученное нами от Горького человечное тепло чеховского рукопожатья.
Произнесено на торжественном заседании в Большом театре, в Москве.
16 июля 1944 года.
Немцы в Москве
Сей беглый очерк о поучительном московском происшествии станет достоянием не только моих соплеменников. С понятной тоской и проникновенной злобой его прочтут блатаки из берлинского шалмана. Им тоже захочется узнать о судьбе громил, пущенных на поиск чужого добра, и, таким образом, заглянуть в собственное будущее. Поэтому я и взял на себя труд расширить как географические, так и чисто описательные координаты помянутого события.
Это произошло в Москве, красивейшем из городов нашей эпохи, одетом в мечту героического поколения. Все дороги в его будущее ведут через Москву, и потому все взоры обращены к её Кремлю, видному сейчас из самых отдалённых захолустий мира.
Прекрасна Москва даже в знойном июле, когда пьянят сердце приезжего такие хмельные – аромат лип и тишина её вечерних улиц, точно поезда в вечность проносятся мимо, и сама она лишь скромный полустанок но дорого к счастью… Незабываема она теперь, в июле четвёртого года войны, старшая сестра фронта, забывшая боль и усталость, – город внушительного и непоказного величия, у подножья которого прокатилось и потаяло столько завоевательских волн!
В особенности же хороша была Москва 17 июля 1944 года. Почему-то Геббельс и его речистые канальи не раскричали на весь мир про эту знаменательную дату. А именно в этот самый день прибыла сюда, хотя в несколько облегчённом виде, ещё одна армия, отправленная Гитлером на завоевание Востока. Её громоздкий багаж остался позади, на полях сражений. По этой причине немцы более походили на экскурсантов, нежели на покорителей вселенной, и, надо признаться, за восемьсот лет существования Москва ещё не видала такого наплыва интуристов.
Представительные верховые «гиды» на отличных конях и с обнажёнными шашками сопровождали эту экскурсию. Пятьдесят семь тысяч немецких мужчин, по двадцать штук в шеренге, проходили мимо нас около трёх часов, и жители Москвы вдоволь нагляделись, что за сброд Гитлер пытался посадить им на шею в качестве устроителей всеновейшего порядка. Как бы отвратная зелёная плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пёстрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия.
Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества, и женщины Москвы присаживались где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от однообразия зрелища. Несостоявшиеся хозяева планеты, они плелись мимо нас – долговязые и зобатые, с волосами, вздыбленными, как у чертей в летописных сказаниях, – в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока ещё не на четвереньках, – в трусиках и босиком, а иные в прочных, на медном гвозде, ботинках, которых и до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути!.. Шли с ночлежными рогожками подмышкой, имея на головах фуражки без дна или походные котелки с дырками, пробитыми для проветривания этой части тела, – грязные даже изнутри, словно нарочно подбирал их Гитлер, чтобы ужаснуть мир этим стыдным исподним лицом нынешней Германии. Они шли очень разные, но было и что-то общее в чих, будто всех их отштамповала пьяная машина из какого-то протухлого животного утиля.
Эти живые механизмы с пружинками вместо душ не раз топали под музыку по столицам распластанной Европы. Старые облезлые вороны с генеральскими погонами принимали завоевательский парад на парижской Плас-Этуаль, и радио послушно разносило по всей планете эхо чугунной германской поступи. Эти же проходили по Москве уже далеко не церемониальным маршем, и в растерянной улыбке у иных, ожидавших встретить разрушенную Геббельсом Москву или шаманов со стеариновой свечкой в зубах на улице Максима Горького, был приметен проблеск ещё неуверенной, неоформившейся мысли. Другие откровенно улыбались, не скрывая животную радость, что удалось вовремя и невредимым вывернуться из-под берёзового гитлеровского креста: нет ничего глупее, как умереть летом 44-го года за обречённого барина Адольфа, защищающего ныне лишь собственную шею от смолёной надёжной удавки…
Прищурясь и молча, глядела Москва на этот наглядный пример бесконечного политического паденья. Только из гнилой сукровицы первой мировой войны могла зародиться инфекция фашизма – этого гнуснейшего из заболеваний человеческого общества. До какого же непотребства и скотства фашизм довёл тебя, Германия, которую мы знавали и в твои лучшие годы?
Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые, числом около двадцати. Стратеги шли с золотыми лаврами на выпушках воротников и в высоких офицерских картузах, с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди и рукавах, чтоб никто не смешал степеней их превосходительного зверства: они были в больших и малых крестах за людоедство, юдоедство и прочее едство, с орденами Большого Каина или Ирода 1-й степени, и с теми дубовыми листками, которые Гитлер раздаёт своим полководцам для прикрытия воинского срама.
У передних, кроме того, мы отчётливо разглядели большую чёрно-белую свастику, прикреплённую к кителю близ подвздошной области, – признак принадлежности к уголовно-политической организации, провозгласившей тунеядство и паразитизм основной из национальных добродетелей. Даже не смирение волка, у которого перебит шейный позвонок, читалось в этих щеголеватых фигурах, ибо есть и у волка своя смертная гордая стать: тупое равнодушие прочла Москва во всём облике этих всемирных бесстыдников.
Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова брани или скалозубства против вражеского воина, пленённого в бою. Мы знаем, что такое военнопленный, и понимаем цену жизни, когда отчаянье соглашается выменять её на позор. Мы не жжём пленных, не уродуем их: мы не немцы!.. Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в сторону вражеской орды, переправляемой с вокзала на вокзал, хотя вдовы, сироты и матери замученных ими стояли на тротуарах во всю длину шествия. Но даже русское благородство не может уберечь от ядовитого слова презренья эту попавшуюся шпану: убивающий ребёнка лишается высокого звания солдата… Это они травили и стреляли наших маленьких десятками тысяч. Ещё не истлели детские тельца в киевских, харьковских и витебских ямах, – маловерам Африки, Австралии и обеих Америк ещё не поздно удостовериться в этих одинаково незаживляемых ранах на теле России, Украины и Белоруссии.
Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста слишком тысяч ног. Изредка спокойные, ровные голоса, раздумье вслух, доносились до нашего уха:
– Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!
Но лишь одно, совсем тихое слово, сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:
– Запомни, Наточка… это те, которые тётю Полю вешали. Смотри на них!
Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке, девочке лет пяти. Ещё трое ребят лесенкой стояли возле неё. Соседка пояснила мне, что отца их Гитлер убил в первый год войны. Я пропустил их вперёд. Склонив голову, большими, не женскими руками придерживая крайних двух худеньких девочек постарше, мать глядела на пёструю, текучую ленту пленных. Громадный битюг из немецких мясников, в резиновых сапогах и зелёной маскировочной вуальке поверх жёсткой, пропылённой гривы, переваливаясь, поровнялся с нами и вдруг, напоровшись глазами на эту женщину, отшатнулся, как от улики. Значит, была какая-то непонятная сила во взгляде этой труженицы и героини, заставившая содрогнуться даже такое животное.
– Поизносились немцы в России, – сказал я ей лишь затем, чтобы она обернулась в мою сторону.
На меня глянули умные, чуть прищуренные и очень строгие глаза, много видевшие и ничему не удивляющиеся… а мне показалось, что я заглянул в самую душу столицы моей, Москвы.
«Правда», 19 июля 1944 года