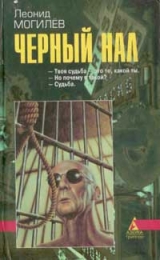
Текст книги "Черный нал"
Автор книги: Леонид Могилев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
– Летим, – орет полковник из вертолета, и лопасти уже раскручиваются, рычит машина, хочет убраться с поганого места. Тело уже без бронежилета, жалкое и неуклюжее, полковник сбрасывает вниз. Я бегу туда, где лежат штабелем романтики невидимых фронтов, и начинаю раскручивать спираль, все шире и шире, опять орет Левашов, бесится, но вот он, рюкзачок, скатился под горку, почти неразличим на мху, как будто кочка рыжая и никчемная. Каприз природы.
Мы поднимаемся резко, отчаянно, внизу последний приют наш на этой территории, а вот и объект, городок, часть…
… – Может, вернешься, полковник? У тебя же жена там есть?
– А как же? Потому и не вернусь…
А объект все же бомбят. Заходят раз за разом два звена и сносят красивые домики со всем скопившимся добром и злом. Это так неправдоподобно и неожиданно, что мы не верим, но видно отчетливо, как взлетают балки, кирпичи и прочее, такое надежное и комфортабельное, но уже выходит наша машина на курс и теперь видна по другую сторону бетонка, по которой движется колонна машин, а впереди БТРы. Мы уже не увидим, как несколькими часами позже расцветет над пожаром и суетой прекрасный и злой цветок плазмоида, устраняя свидетелей происшедшего. И только колонна мертвой техники останется на бетонке.
Мы садимся у дороги на Якутск. До города семьдесят километров.
– Живи, парень, – разрешает Левашов летуну. Только разбивает рацию, а радиобуй он выбросил еще у зимовья. Левашов человек основательный. Сам не пропадет и другим не даст. А главное, материальную часть знает. Настоящий полковник.
Мы останавливаем серую “Ниву”. Я забираю сумку со снайперской винтовкой, автомат, хочу взять гранатомет, но Левашов не разрешает:
– На кой он тебе? Ты из него и стрелять-то не умеешь. Еще в меня попадешь… Тебе гарпуном сподручнее… Мемуары не забудь.
– Левашов. Я еще деньги взял. Много денег. Может, заплатим летчику?
– Ты все равно своей смертью не умрешь, пацан, – говорит Левашов, – Бог ему подаст. В аэропорт, – командует он. Оставляем машину в семистах примерно метрах, выбрасываем автоматы, снимаем камуфляж. Левашов связывает водителя, заталкивает ему в рот ветошь, оттаскивает от дороги. Не хватало, чтобы все рухнуло в последний миг.
Между тем мы в графике. Спецрейс прилетел сегодня в полдень. Это ЯК-40. Вот он стоит себе, прямо напротив здания аэровокзала. Летное поле почти пустое. Два ТУ и даже АН-2. Здесь ждут Грибанова, и мы долго ищем хозяина борта. Это очередной типаж из “Цели”, и я долго объясняю ему, почему начальник задерживается. Показываю свое удостоверение, командировку, потом следуют звонки в Иркутск, в Москву, потом опять в Иркутск.
– Да нас сейчас возьмут тут. Пора бы уже, – говорит Левашов.
Все же мы идем в самолет. Смертельный холод сквозь пакет, мешковину проникает в меня, овладевает позвоночником, отчего ноги приходится передвигать запредельным усилием.
Никакого контроля спецрейса. Идем себе через летное поле, поднимаемся в салон.
Нам дают минеральную воду. Левашов отвык от цивилизации. Он вертит головой, удивляется, потом откидывается в кресле, закрывает глаза.
А под нами облака. Солнце совсем рядом, приходится закрыть занавеску и на облака глядеть в щелочку.
Амбарцумов был аналитиком. Финансовые риски обсчитывал. А уж простую ситуацию видел насквозь. Не ввел только одну составляющую. Человеческий фактор.
В Иркутске нас встречают прямо на посадочной полосе. Господин Крафт – глава “канадской” делегации. С ним два “референта”. Высшее звание на Кубе – полковник. Эти выглядят майорами. Они только что пережили взлет и падение. Коменданте был так близок к спасению, коменданте принял бой, коменданте пал. Вот его руки. Вот его дневники. Один из майоров опускает свою руку в колотый лед, прикасается к тому, что лежит в нем, бледнеет. На глаза другого майора накатываются слезы. Наконец они забирают рюкзачок, мешок полиэтиленовый, с улицей Тверской на боку, выходят, идут по летному полю, мимо рабочих с тележкой, летчиков в фуражках и без, мимо автобуса с пассажирами. Там нельзя ходить посторонним, но их никто не останавливает.
Идут они к огромной машине, “боингу”, который мечтает об огнях Анкориджа или Монреаля, пролететь над материками и океанами. А может быть, это будет Другой самолет. А может, и не самолет вовсе.
– Конференцию пришлось свернуть. Хотя вы можете успеть выступить на “круглом столе”, господин Зимин. Или как вас там?
– Как-то звали. Забыл напрочь.
– Вы с господином полковником единственные очевидцы…
– Вот его следует называть товарищем. Товарищ полковник. Без него очевидцев не было бы вовсе.
– От имени кубинского правительства предлагаю вам лететь с нами. Тем более пока не проведена экспертиза, вы должны быть под рукой. Коменданте уже погибал однажды. Сейчас просто перейдете летное поле, подниметесь в “боинг”. С местными органами контроля у нас полное взаимопонимание. Можно считать самолет экстерриториальным.
– Зачем мы понадобились кубинскому правительству?
– Вы должны рассказать, как все было. Мы соберем грандиозную пресс-конференцию. Потом вы получите политическое убежище.
– Полетишь, полковник? Дадут тебе еще какую-нибудь звезду на погоны.
– А ты?
– У меня дело одно осталось. Потом прилечу к вам по туристической путевке.
Полковник задумывается надолго.
– Решайте скорее. Мы не можем тут вечно сидеть, – прерывает его размышления господин Крафт. – А что господин Самошкин?
– Господин Самошкин пропал без вести. Он не сможет выступить на семинаре.
– Передайте глубокую благодарность его родственникам. Естественно, без некоторых фактов. Им нужна материальная помощь?
– У господина Самошкина нет родственников. Он один как перст. Как мент на Бродвее.
– Мне трудно понимать вас, господин Зимин.
– Русский язык сложен. Вы-то где учили?
– В Ленинграде, в Технологическом институте.
– Так мы еще и земляки.
– Возьмите, господин Зимин. Вам наверняка понадобятся сейчас деньги.
– У меня достаточно денег, господин Крафт. Мне очень жаль, что все так получилось.
– Вот телефон в Москве. Постарайтесь его запомнить. Позвоните через некоторое время. Ну, полковник, решаетесь?
– Летим.
– Рюкзачок с собой берешь? – поворачиваюсь я к Левашову.
– Я думаю, там достаточно надежное место для этого мешка.
– Что там у вас, полковник?
– А вот это я передам лично товарищу Фиделю Кастро.
– Ну прощай, Левашов. Жди меня. Путевок теперь – что грязи. А документы в “Цели” любые сделают. Вот они, эти ребята, стоят на бетоне, маются. Прощай!
В мою одежду переодевается кто-то из “Цели”, примерно такого же телосложения и роста, надевает рюкзачок, черные очки, кепку на глаза, слева и справа люди Крафта, полковник Левашов рядом. Они подходят к трапу, поднимаются на борт. Мой путь несколько нетрадиционен – в грузовой контейнер, потом на борт грузовика, в терминал. Там выйти, перейти в другой контейнер, открывается дверь в ангаре, погрузчик, “КАМАЗ” и только в городе, в глухом доме на окраине, заканчивается путь с небес.
Мой старый паспорт засвечен. По новым документам я – Ширнин, имя и отчество то же. Так легче. До Москвы мы добираемся поездом. Правда в вагоне СВ и с попутчиком. Прописка московская. Ключи от квартиры ждут меня в офисе “Цели”. Можно начать новую жизнь. Написать отчет-протокол – служебную записку о славной кончине товарища Грибанова, подождать подтверждения, сдать винтовку, получить работу. Работать на будущее. А значит, на себя. И никогда больше не бывать в поселке. Катя – женщина видная. Найдет себе дружка. Амбарцумов больше не потревожит ее. А можно поехать туда, где камни и небо, смешной язык и знакомые бармены. Можно как-то все решить и устроить.
Я люблю читать газеты, стараюсь не замечать больше статеек про недвижимость. С остальным можно как-то смириться. Наш поезд мчит по тому, что осталось от страны, по осколку ее, как будто льдина распалась и на центральной ее части застряли бедолаги, а льдина плывет по огромному Мертвому озеру и на ней горят огоньки папирос, рыба идет дуром, на голую мормышку, и нет больше дела ни до чего. А у озера вдруг расступаются берега, и не озеро это уже, а океан и теплые воды Гольфстрима сожрут сначала маленькие осколки, а потом источат белый материк, разверзнутся лунки, а под ними уже не вода, а адское пламя чистилища…
О катастрофе “боинга” я узнаю в Екатеринбурге. Все газеты с интересом относятся к тому, что борт, чартерным рейсом вылетевший недавно из Иркутска и пропавший без вести, найден. Обломки на океанском шельфе, поиски черного ящика продолжаются.
Я ухожу от своего попутчика совершенно просто. На Казанском же вокзале. И потом долго жду, пока он вертит головой, мечется, звонит по телефону, наконец уезжает.
Снять квартиру в доме напротив того, в котором живет Политик, стоит очень много времени и очень много денег. Он еще не поднялся высоко. У него еще нет дачи на Рублевском шоссе и абсолютно надежной охраны в правительственном доме. Но осенью он это все получит. А до осени еще дожить надо. Нас разделяет Москва-река. Политик живет на Кропоткинской набережной, я – на Якиманской. Этаж у него пятый, у меня седьмой. Я провожу за занавесками день за днем, с биноклем, пивом и колбасой. Нет у Политика четкого распорядка. День, как говорится, ненормированный, выходные не определены. Может ночью уехать на служебной “Волге” решать вопросы, может днями не выходить из дома. Комната его, к сожалению, выходит окнами на противоположную сторону, во внутренний двор. А вся немногочисленная семья регулярно показывается в окнах.
Сегодня в девять у него политсовет. Вчера комментатор вкрадчиво спрашивал о том, какие решения ожидаются. Политик ничего определенного не сказал, пообещал завтра ответить на пресс-конференции в пятнадцать часов. Значит, в восемь он отправится на политсовет. Из дома. Нужно быть в форме. Отдохнуть. Часов с шести я буду ждать его у окна. Всегда нужно иметь запас времени.
Я пристрелял винтовку в пригороде, в глухом лесу. Она почти не дает отдачи. Голос у нее вкрадчивый, тихий. Жарко, и многие квартиры открыты. Потом быстро выйти из квартиры, подъезд проходной. Во внутренний двор, на улицу, спокойно, на Волхонку, в метро.
Он выходит в семь пятнадцать. Каждый раз, выйдя из подъезда, он на миг замирает, смотрит на реку. Машина ставится грамотно, так, чтобы перекрыть подъезд по максимуму. Один человек на тротуаре и один справа отслеживают свои сектора. Я только что расслаблял руку, потряхивал пальцами и снова поймал подъезд в перекрестие. Грибанов был прав. Мне везет. Мне кажется, что я промахнулся, потому что не вижу попадания. Но вот брызгает мозг из развороченной черепной коробки, когда Политик падает, оседая, а значит, я попал в левый глаз…
Некоторое время спустя
В Петербурге уже не стреляли, но кооперативные ларьки еще не работали по ночам. Когда темнота и тщета опускали свои длани на город, жители старались не покидать квартир – лишь редкие автомобили спешили проползти по своей специальной надобности. И только милицейские БТРы осторожно трогали дома, перекрестки и переулки, ограды, подворотни и монументы мертвыми пальцами фар. В сущности, стрельба прекратилась после нескольких расстрельных рейдов власти по многочисленным норам и подвалам, где произрастали кафе и ресторанчики. Но прекратилась мирная стрельба, то есть стрельба воровских разборок и пьяных гулянок временных хозяев жизни. Наступало время других выстрелов.
Эстонский консул – рыжий, конопатый, носит очки. Я смеюсь.
– Смешного тут мало. Вы циферки подчистили и многое другое… Вы вызов за сколько купили?
– Где?
– Подчистили, подчистили.
– Не. Это мой. Прислали.
– Так пусть другой пришлют.
– Вы же государственный человек! – начинаю я безобразно льстить ему. – Вы же знаете, что прислать никак нельзя. Поскольку почта не работает.
– Но почему же? Вот свежая газета из Таллина. Хотите почитать? На русском, кстати, языке.
– Это дипломатическая почта. Вам газеты на аэроплане возят.
– Обижаешь. – Теперь уже он смеется. – Зачем тебе в Таллин? Нашел время.
– Мне очень нужно. Там женщина.
– Хочешь поменять родину на свободу?
– Слушай. Как тебя звать?
– Меня звать Калев.
– Отличное имя. Главное, редкое.
Теперь мы смеемся оба. И совершенно напрасно.
– Я не дам тебе визу. Я делаю как лучше…
– Калев. Дай мне визу. Если бы была зима, я бы перешел границу по льду.
– Нет. Не перешел бы. Я хорошо разбираюсь в людях. А циферки ты подчистил. Так хороший русский не делает. И фамилия была другая. Или вообще не было фамилии? Сколько теперь стоит вызов?
– Калев. Хороший русский сейчас никуда не поедет. Но я плохой. Дай мне визу.
– Ты еще грубишь? Сейчас я позову сотрудника! – И он смотрит проникновенно.
– Калев. Когда начнется война с Эстонией, я тебе камнем окна перебью.
Мы примерно одного возраста с консулом. Он вот большой чиновник, а я никчемный человек, у меня нет ничего, кроме фальшивого паспорта и вызова, купленного здесь же, у консульства. Бланк без фамилии, только циферки подкачали.
Я открываю сумку и достаю все, что у меня осталось самого дорогого: батон колбасы, бутылку джина “Гордон” и банку икры лососевых рыб. Все это осталось у меня со времен демократии. Я берег это на черный день, но как понять, который из них чернее?
– Позвать, что ли, сотрудника? – размышляет Калев и глядит на взятку алчными от голода глазами.
– Калев. Будь человеком.
– Ты думаешь, все можно купить?
– Я не покупаю. Я прошу! Я отдаю тебе все, что у меня есть. Я тебе верю.
Я двигаю паспорт по гладкому столу, к нему, к консулу. Он вертит его и возвращает назад.
– Как думаешь, Эстонию опять аннексируют?
– Ну что мне сказать? Скажу “да”, и ты позовешь сотрудника. Скажу “нет”, и слукавлю. Я не знаю. Вы продержитесь. Поставь мне штампик.
Он надувает щеки, пыжится, смотрит на колбасу, на этикетку на штофе. По нынешним временам это богатство. Не консульское даже, а посольское.
– А ты вернешься?
– Какое тебе дело до моей личной жизни? – вскипаю я. – Кончай придуриваться. Ставь штампик.
– Ну ты и нахал. Ладно. Я тоже могу быть человеком. Посмотрим, нет ли тебя в списке опасных для республики людей. Как, говоришь, твоя фамилия?
– Если бы я помнил.
– Ну ты и шутник. – Он открывает ящик стола, достает штампик, вдавливает его в чистую страницу моего паспорта, пишет что-то.
– Десяти дней хватит?
– А если бы я знал.
– Значит, хватит. – Потом он делает героический жест. Разламывает колбасу пополам и отдает мне ту часть, которая меньше. – Еще оголодаешь. Жрать-то хочешь?
– Еще бы. А может, по рюмке нальешь?
– А вот этого не могу. Она нужна мне в целости. Ну, заходи когда еще.
– Здорово ты по-русски говоришь. Проси убежища, пока не поздно.
– Марш отсюда. Аде то сотрудника позову. Арестую… Я выхожу в коридор. За окнами тьма, густая и грязная.
Электроэнергии нет, свечей нет. Есть энергия духа. У выхода омоновец, рядом другой, шипит рация. У меня в руках колбаса. Я кладу ее в сумку и ухожу не оглядываясь.
Поезд в Эстонию теперь ходит два раза в неделю. Я могу уехать сегодня, могу в воскресенье. На Варшавском вокзале тишина. Нет больше игровых автоматов, нет очередей у кассы. Почти нет пассажиров, и я моментально получаю плацкартный билет, просунув в окошко груду денег возрождающейся державы. Я уложил рубашки, бритву и прочее, словно заранее зная, что удастся трюк с визой. Кот Байконур в сумке спит, наевшись консульской колбасы. Я искал его полночи, тайно приехав в поселок, обходя дом за домом, наклоняясь к подвальным проемам, поднимаясь к чердакам, на девятые этажи. И он вышел ко мне грязный и безумный от счастья. Я не могу пока вернуться к себе. В поселке блокпост и мотострелки. Есть и нечто вроде СМЕРШа. Меня просто расстреляют на опушке. Должна осесть пена на хмельном напитке переворота. Того, который ждал своего часа, верного и убийственно точного.
Можно спокойно часа три посидеть в зале ожидания. Буфет, естественно, не работает, лампы едва живы, но в зале сидят автоматчики и снаружи прохаживаются милицейские. Тишина и покой. Я достаю из сумки книгу. Это то немногое, что я захватил во время своего краткого визита домой. Дверь там опечатана, и, уходя, я аккуратно соорудил из пластилина подобие законного оттиска.
Вея всю ночь,
На рассвете ветер притих.
И расцвели абрикосовые сады.
Деревья, деревья
В бледных оттенках густых
Отразились в волнах
Речной зеленой воды.
Здесь тепло.
Вагон выстужен и не убран, и, когда поезд трогается, выясняется, что нас в вагоне всего трое. Я и еще два мужика. А также проводник, запуганная обстоятельствами женщина.
– А ну его все, к лешему, – выносят нам приговор и уводят в другой вагон. Этот отапливается. У одного из попутчиков оказывается самогон в литровой банке. Я достаю остатки колбасы. Находятся хлеб и луковица. Мы пьем в полном молчании. Постельного белья нет и в помине, и часа в два я засыпаю на засаленном матрасе, укрывшись своей синтетической курткой, положив голову на сумку, а в пять уже разбужен людьми в сапогах. Нас только что не заставляют снять одежду, так суров и злобен таможенный режим времен конца демократических иллюзий. Вещи обыскивают так, как, должно быть, передачи в тюрьмах. В коте не видят врага нации, не требуют справки саннадзора. Не до того. И Байконур пересекает государственную границу. Я выглядываю на перрон. Там ходят автоматчики, хрипят овчарки, буравят вагоны мощные фонари.
– Веселый город Нарва.
– Не веселей прочих.
– Говорят, Кренгольм восстал и литейно-механический.
– Чего хотят?
– В братскую семью народов. Обрыдли им ветчина и кроны.
Поезд трогается. Нарва освещена везде и повсюду. Она сочится белым липким светом. Минут через двадцать я засыпаю и просыпаюсь, когда поезд тыкается своей мирной мордой в означенное место Балтийского вокзала эстонской столицы.
Прежде чем мы покидаем вагон, нас опять обыскивают, на этот раз полицейские в синих форменках.
Окошечко обмена валюты закрыто, и фарцовщиков, толкавшихся здесь сутками, тоже нет. Я поднимаюсь наверх, в бар. Нет и моего знакомого.
– Где он? Сменщик твой, веселый такой?
– Сменился насовсем. Уехал в Швецию. Пить что будешь? Выбор небольшой.
– Мне нужно купить сто крон.
– Теперь только в банке, на почтамте.
– А у тебя нет, что ли?
Он задвигает такой курс, что я решаю идти на почтамт. Не лучшие времена.
Прикинув, как лучше добраться – то ли через весь старый город, то ли на трамвае, – выбираю трамвай. Минут сорок приходится стоять, пока не появляется “четверочка”. Но спешить, оказалось, не стоило. Можно было на почтамте купить какую-то банановую валюту, но крон страны пребывания нет. А они нужны позарез. Как явиться к женщине без цветов и как покупать их после? Я выпускаю кота ненадолго из сумки на газон, а сам присаживаюсь на лавочку. Байконур мочится, подобно собаке, ходит по траве, остается недовольным, возвращается к сумке, ложится рядом…
После сквозных ветров Питера, сметающих пыль времен, Таллин греет, сохраняя остатки тепла в непостижимых местах. Я кручусь возле почтамта и наконец получаю то, что нужно. Теперь у меня остается кроме пачки красных купюр еще немного российских денег. То, что припас для меня господин Амбарцумов, ушло на подготовку встречи с Политиком, и я уже жалею, что не взял доллары от кубинцев. Все равно они на дне океана.
Цветочный магазин совсем неподалеку, и там есть совершенно все, в любое время дня и ночи, в начале эпохи и при ее исходе. Я выбираю розы, и мне упаковывает их в целлофан улыбчивая цветочница. Потом она 41 связывает красивую ленту с бантиком, а до Катиной конторки рукой подать, вот она, за тем домом с красивым портиком. И тут я вспоминаю, что не побрился. Ну да ладно. Не беда. Я раскрываю Катину служебную дверь.
Я вхожу в конторку, как фатальный герой, и все девицы перестают стучать на машинках и перекладывать бумаги. Катя обхватывает голову руками, шлепает ладошками о стол, вскакивает, садится, вскакивает снова, выбирается из-за барьера, надевает пальто, тащит меня на улицу за руку, потом вспоминает, что не отпросилась, “конечно, конечно, вы можете и завтра, конечно, а в принципе, и до выходных”, и вот мы уходим, но она оказывается в тапочках и возвращается опять в конторку, а там смех, и вот мы в автобусе, прижавшись друг к другу, а розы все в пакете, и вот мы приезжаем и идем в знакомый подъезд и наконец наверх. Там упаковка падает на пол, и надо бы побриться и переменить одежду, но это уже невозможно, и мы лежим на полу, на ковре, и, отдышавшись, она спрашивает, что это там ворочается в сумке. “Это Байконур”, – говорю я и выпускаю кота. А потом я иду в ванную и долго моюсь холодной водой, потому что горячей нет давно, и бреюсь, и надеваю чистую рубаху, и выхожу.
Многое изменилось в Эстонии. Все ближе конец республики, и все ласковее и внимательнее коренное население к тем, кто столько лет был неприятной, но необходимой реальностью. И работа есть, и говорить можно на любом языке. Тебя поймут и ответят.
Ночью я лежу и объясняю Создателю свою печаль, а потом начинаю вспоминать имена тех, с кем бы хотел говорить сейчас. Я вспоминаю китайские стихи.
Колокол дальний звучит в опустелом саду… Гуси крича улетают в дождливую тьму… Лампа осенняя – палые листья видней… Только простились – печаль…
– Их дорогие имена, – говорю я вдруг.
Круг замкнулся. Я должен снова вернуться к своему ремеслу. Я художник.
Я не все выложил тогда на консульский стол, кое-какие свертки и банки попридержал, и вот теперь, оглядев все, что есть у нас в совместном хозяйстве, мы справедливо решаем, что хватить должно на неделю, а мешок картошки, что в подвале, и вовсе продлевает праздник на бесконечное количество дней. За деньги купить уже почти ничего невозможно.
– Давай включим радио.
– Ну его к черту.
– Не хочешь – не надо. Но что-то происходит в Нарве. Там на вокзале иллюминация и шмон. Овчарки. Шпионов опознают.
– Тебя-то как не опознали?
– У меня совершенно надежные документы. А в лицо кто меня знает? Я же не государственный преступник.
– Кот твой похож на преступника. Его-то как пропустили?
– Кот – это ценный мех и деликатесное мясо. Килограмма три.
– Включай радио, резидент.
Я не стал рассказывать ей о том, что завалил Амбарцумова и Политика. Я сказал, что это сделали другие.
Выпить почти нечего. Так. Одна бутылочка какого-то ликера. Мы отпиваем по глотку, редко-редко. Под утро, когда просыпаемся и в который раз отыскиваем друг друга, она все же включает голоса этого злобного мира. И вовремя. В Нарве уже Советская республика. Красные флаги, бои на окраинах и кое-где в центре, шоссе и железная дорога перекрыты, и дикторы захлебываются от крика.
– Говорил, не надо включать.
– Слушай, а как ты теперь вернешься? Самолетом?
– На самолет денег не хватит, как, впрочем, и на общий вагон, а латыши наверняка перекрыли границу. И я остаюсь надолго. А может быть, навсегда.
– Рассказывай сказки, товарищ. Скорее кот останется.
– Кот и пес. Устроишь нас на работу?
– А что ты умеешь делать?
– Путешествовать по поддельным документам, стрелять, ориентироваться на местности, чинить автомобили. Ну и еще писать маслом и гуашью. Акварелью хуже. Могу портреты делать на Ратушной площади. “Товарищ лейтенант, тот, что с красивой дамой, разрешите портретик”.
– Приготовлю-ка я завтрак.
– Отлично. А что будем делать потом?
– Будем менять вещи на рынке.
– Отличная мысль.
– Зарплату нам не платят второй месяц.
– Отличная мысль. Пойду прогуляюсь и обдумаю ее.
– Куда ты? Там патрули. Тебя поймают и опознают. Наверняка в твоих документах какая-нибудь жуть.
– Ну да…
Тут недалеко от дома, кварталах в двух, всегда был пятачок, где торговали всем, в том числе и цветами. Это поразительно. Не было сегодня ничего, только аквариум со свечкой, и в аквариуме гвоздики, и рядом старушка.
– А нет ли у вас чего-нибудь выпить, бабушка?
– У меня сейчас цветы, но приходите вечером, часам к шести. Будет что выпить для вас и вашей дамы.
– А нет ли чего-нибудь для кода?
– Он сам о себе позаботится.
– Тоже верно. Сколько вы хотите за двенадцать гвоздик?
– За двенадцать гвоздик я бы хотела двадцать четыре кроны.
– Я могу дать вам двадцать.
– Но тогда обязательно приходите вечером. Или платите двадцать четыре кроны.
– Я могу дать аванс.
– Нет. Приходите в шесть. И вот возьмите тринадцатый цветок.
– Вы думаете, это счастливое число?
– Э, мы давно уже не живем в счастье, но и в несчастье еще не живем. Мы где-то там, где нет ничего.
– Я передам привет от вас моей подруге.
– Какое плохое слово. Зовите ее дамой.
– Хорошо.
Я возвращаюсь в квартиру, обнаруживаю свою даму в ванне и вспоминаю, что горячую воду теперь дают совершенно случайно и в непредсказуемое время. Я укрываю ее цветами, и она, смеясь, протягивает ко мне Руки, я роняю свои одежды на кафельный пол и нахожу ее под красными гвоздиками в горячей воде. Ванна большая. Потом мы опять укрываемся цветами, и я не знал, что это так здорово, но потом вода начинает остывать, и мы возвращаемся в мир, забрав букет с собой, только подержав его немного под холодным краном.
Вчерашние розы держатся отлично, и комната начинает походить на банкетный зал. Мы устраиваем большой завтрак, а после ложимся в постель и засыпаем надолго. Я опять просыпаюсь первым и уже сам включаю радио. Советская республика смяла кордоны и баррикады и уже укрепилась на границах соседних районов. Из Палдиски русская морская пехота движется к Таллину. Туда же сбегается и съезжается все живое из округи. Корабли НАТО пробуют приблизиться к нам, но граница уже на замке. Потом я ловлю радио Нарвы. Войска Ленинградского военного округа входят на Северо-Запад. Я выключаю приемник.
Предвечерние часы проходят кое-как, но нас уже подхватывает тревога, да и исход близок. Мы пробуем поесть, потом садимся в кресла слушать пластинки. Это та еще коллекция. Группы каких-то металлистов, Бах, блюзы и даже отрывки московских спектаклей с Ростиславом Пляттом и старыми заслуженными актерами.
– Куда ты?
– У меня тут встреча. Интрижка маленькая. Рандеву. Приду сейчас.
– Ты что? Сиди уж. Там революция, оккупация, аннексия.
– Тут совсем не то, что ты сказала. Не пускай никого, кроме меня. Ключа не беру. Два длинных, девять коротких.
– Не ходи.
– Ну что ты? Я до угла и обратно.
Ровно шесть часов, и бабулька как из-под земли возникает в революционном воздухе.
– Слыхали? Ваши уже в Кейла и на островах.
– Надеюсь, это не причина, чтобы расторгнуть наш контракт?
– Торговля выше политики.
– Что у вас, и сколько с меня?
– Бутылочка “Виру Канге”. Сорок крон.
Я пересчитываю наличность.
– А тридцать пять не устроит?
– Не устроит. Если нет денег, возьмите портвейн.
– Нет, давайте. Я вам рублями добавлю. Зачем вам теперь кроны?
– Вы думаете?
– Я знаю. Вот тридцать пять и рубли. Тут даже больше будет.
– А что с нами будет?
– Ну, мы же только торгуем. Я покупаю, вы продаете.
– За цветами утром придете?
– Если доживем.
– Смотрите.
– Спасибо вам.
– Не за что.
В этой водке пятьдесят восемь градусов, и она нас валит с ног. Мы выпиваем ровно половину, потом сидим в кресле, и мне кажется, что это все же сон и он вот-вот прервется.
Ночью наш квартал обстреливают вертолеты, а потом падают бомбы, а может, это и не бомбы вовсе. Но горят жилой дом в полукилометре от нас и фанерная фабрика. Часа в четыре ночи проходят танки, а затем начинается стрельба. Одиночными, очередями, простыми, трассирующими. Мы закрываем окна шторами, выключаем свет и обнимаемся крепко-крепко. Таллинское радио молчит, в приемнике нет диапазона коротких волн, а затем начинается скрежет в эфире. Но еще прорывается Хельсинки, потом Вильнюс, а потом, видимо, взрывается подстанция. Электричества больше нет. Батареек нет и в помине. Иногда мы выглядываем в щелку. За окном горит и продолжает гореть, даже когда перестают стрелять.
Я давно прикидываю, что мне отдать за цветы. Нет больше ни рублей, ни крон, и не занимать же у дамы. Когда рассвело и мы попили холодного чая, так как нет больше и газа, я сверяю часы и с пакетом выхожу из дома.
Это так неожиданно и страшно, что я даже не слышу слов предостережения, а только всхлипы.
Старушка на месте. Под ее ногами поблескивают автоматные гильзы, и дым близкого пожарища стелется рядом, льстиво и добротно.
– Я вижу, вы человек слова.
– Конечно. Вот отличные цветы. У них эстонское название, а как по-русски, я не совсем знаю. Спросите у своей дамы. Чем платить будете?
– Вот здесь рубашка. Совсем новая. Сорок восьмой размер. Румынская. С накладным карманом.
– О! Это стоит больше, чем цветы.
Да ладно. Какие теперь счеты. – Нет, я в долгу. Пока.
– Пока.
Я вернулся и спросил Катю, как называются цветы. Она не знает. Она ставит их в самую красивую вазу, подходит ко мне и кладет руки мне на плечи, я обнимаю ее, и мы стоим так долго-долго, словно надеемся пережить все плохие времена.








