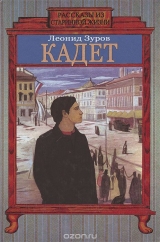
Текст книги "Кадет"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
– Та-рай, та-рай, та-та-та… – напевал под корнет молодой худенький доброволец, помахивая рукой.
– Здравствуй ты, здравствуй я, здравствуй, милая моя!
– Та-рай, та-рай… – звонко пел корнет.
– Урр-ра! – кричала толпа и бросала вверх шапки. – Здравствуйте, русские!
Худощавый оборванный человек в обтрепанной офицерской фуражке стоял в толпе, отдавая отряду честь, и по его щекам катились слезы. Два мальчика бежали около коня князя, размахивая фуражками, и кричали звонкими молодыми голосами. Это были Степа и Митя.
Простоволосый горожанин дрожащими руками отрезал от фунтового куска хлеба ломти и подавал их солдатам.
25
На другой день русская батарея шла по бульварам. Гремели щиты. Офицеры ехали, пересмеиваясь, читая подобранные на улицах большевицкие газеты. В церквах звонили. Звон был жидкий, но праздничный. Пасха уже прошла, но церкви были открыты: в них служили молебны, панихиды и исповедовали.
Митю в этот день словно лихорадило. Он боялся, что они опоздают записаться добровольцами в русскую часть, боялся, что они запишутся последними.
– А вот куда, в какую часть? – спрашивал он Степу.
– В пехоту – это очень просто: винтовка, и все, в команду связи попадешь, – пожалуй, и огня настоящего не увидишь, – говорил Степа.
– Вот что, Степа, – сказал Митя, – махнем в пулеметчики, я уже, братко, из пулемета на Волге стрелял.
– Вместе в одну роту, в один взвод, на один пулемет? – спросил быстро с разгоревшимися глазами Степа.
– Идет, – ответил Митя, пожимая руку друга. – Так, значит, вместе! Ты, брат, хоть и лицеист, но душа у тебя кадетская. Кадет ты! Ошибочка вышла!
Степа слегка покраснел.
Перед поступлением они решили говеть. Мите были памятны с детства робкие огни четверговых свеч, розовые отсветы предпасхальных песен, и алостволая верба с теплыми пушками, и чтение Евангелий, когда в перерывах вздыхал хор о славе и долготерпении и с колоколен в ночь падали редкие звоны. Он вспомнил огни, освещавшие девичьи лица, и горячий воск, что, срываясь, обливал пальцы. После службы толпа несла к выходу робкие огни, прикрывая их розовевшими ладонями и бумажными колпачками. Тогда вода далеко уносила звон колоколов, от четвергового огня дорога казалась темной, бумага часто вспыхивала, а он шел простоволосый, прикрывал свечу фуражкой и слушал смех Ани. И было тогда в этом хранении огня много радости.
Утром, готовясь к исповеди, они усердно молились. В церковном полумраке мерцали редкие огни. С купола падал острый тонкий луч, а у аналоя стояли люди, безмолвно опускались на колени, крестились, клали земные поклоны и робко подходили к священнику. Учащенно билось Митино сердце, и ему казалось, что много накопилось грехов, и страстно хотелось стать чистым и хорошим на всю жизнь. Они со Степой разом крестились, разом опускались на колени.
Когда епитрахиль, прошелестев, накрыла Митину голову и благословляющие пальцы священника тихо коснулись ее, Митя успокоился. Из Царских врат выносили Святые Дары, и хор тихо пел. Приближался тот волнующий, исполненный смирения час приобщения к чистоте, и Мите этот час казался нездешним, обвеянным тихим светом. Они, сложив руки крестом на груди, стояли перед поблескивавшей золотом Чашей.
– Димитрий.
– Степан.
После Причастия то злое и тяжелое, что мучило Митю целый год, отлегло. Светлая звезда его молодости победила. И так было легко, радостно и чисто в те дни в обновленном для него миру.
26
Еще не поздно!
Запись добровольцев в отряд св. князя Ливена
Производится на Выгонной дамбе № 10 ежедневно
от 10-12 и 4-5 час. вечера.
Отряд имеет целью борьбу с коммунистами
(большевиками), не вмешиваясь в политику.
Добровольцы, вперед!
Степа лихорадочно мял газету.
– Еще не поздно, Митяй?
– Который час, Степа?
– Только еще два часа, Митяй.
– Господи, вот время-то тянется! Вот мы подождем еще один день… и не примут…
– А вдруг не примут? – сказал испуганно Митя. – Ведь мне только семнадцатый год.
– Примут, не унывай.
В газете, отпечатанной на желтоватой грубой бумаге, рядом с призывом о вступлении в отряд были напечатаны другие объявления: «Интимная сцена в кафе А.Т. Ежедневно в 3 часа». «Молодая блондинка желает завести переписку с целью знакомства с интеллигентным офицером. Предпочтение – высоким брюнетам».
Но они этого не читали.
Представительный горбоносый полковник, подняв голову, спросил:
– Вы хотите служить?
– Так точно, – оробев, ответили они и вытянулись.
– Завтра можете на фронт выступить?
– Можем.
– Пожалуйста, заполните анкету.
На другой день добровольцев принял под свою команду другой полковник и повел их по шоссе за Александровские ворота, где на одной из дач квартировал штаб заместителя раненого в бою князя.
Небо было голубое. Слегка пылила дорога. Все старались идти возможно лучше. Молодые добровольцы и бывшие офицеры робели. Говорили, что капитан, принявший отряд, ходит в русской гимнастерке, усы распущены и ругается. Больше всех робел Митя. «Возьмет и скажет, – думал он, – зачем пожаловал? На казенные хлеба захотел, по тыловой части? Нам таких не надо». И Митя поглядывал на Степу, который шел, беспечно улыбаясь. Митя знал, что плохих солдат капитан таскал из строя за воротники шинелей и выбрасывал вон из отряда.
Перед дачей отряд выстроился. Все замерли, подтянулись и выпрямили спины. Вышел капитан в зеленой гимнастерке – про усы правду офицер сказал, – плотный, коренастый, глазами всех проколол и пронзительно крикнул:
– Здорово, друзья!
Добровольцы ответили и сами поняли, что недружно. Митя тянулся, как в корпусе: руки по уставу, грудь вперед, глаза в глаза.
– Ну, прежде чем принять вас в отряд, я должен обрисовать вам картину, и после моих
слов кто желает служить – тот пожалуйста, а запись в бюро ничего не значит, – сказал капитан, и нельзя было понять, строго ли он это сказал или с усмешкой. Он замолчал и посмотрел испытующе.
– Поступивший в отряд может по трем причинам выбыть из строя. По двум легальным и одной нелегальной. Нелегальная – дезертирство и карается смертной казнью, о ней распространяться не приходится. Первая легальная – по ранению или болезни, если начальство отпустит, а вторая легальная если убьют человека.
Капитан переступил с ноги на ногу.
– Срок службы не ограничен. Разговоров быть не может. Тяжело служить, – помолчав, наставительно сказал капитан. – Нет ничего, ни комфорта, ни удобств. Сегодня сорок верст прошли, а завтра бой, и никаких штабов, и никаких теплых мест… Я понимаю ваш порыв, но, может быть, вы скороспело решили. Отказывайтесь, господа, еще не поздно. – Капитан выжидательно замолчал.
Многие вышли из строя. Среди них было несколько офицеров и часть молодежи.
– Да, господин капитан, мы не представляли…
– Напрасно беспокоились. Таких нам не надо. С Богом.
Капитан внимательно присматривался к строю. На левом фланге, где находились Митя и Степа, стояли мальчики-добровольцы.
– Да вы юнцы совсем, – сказал капитан левому фронту. – Вам дома с книжками сидеть, вы винтовку не понесете.
Стоявший среди них Митя покраснел. «Возьмет и выкинет, – подумал он, – я документов не предъявил, а в условиях написано, что не моложе семнадцати лет. Вдруг узнают?… Если спросят, сбрехну, что семнадцать».
– Ну? – вопросительно сказал капитан и улыбнулся.
Добровольцам от его взгляда стало тяжело и стыдно, но никто из них строя не вышел.
Началась разбивка по ротам. Митя подошел к капитану и, не доходя до него четырех шагов, козырнул и сказал:
– Господин капитан, разрешите мне и моему двоюродному брату зачислиться в пулеметную роту.
– Обратитесь к капитану Эголину, примет ли он.
Эголин, офицер высокого роста, подозрительно посмотрел на мальчиков, одетых в рванье.
– Вы кто?
– Кадет… Лицеист…
«Не поверил», – подумал Митя и покраснел. Но капитан принял их в пулеметную роту.
27
Ротные щи казались удивительно вкусными. Отряд по дисциплине напоминал Мите корпус, и он легко в нем освоился. Полюбил он выданную ему каску, немецкий карабинчик и неуклюжий пулемет, на котором он работал. Их командир, прапорщик Фогель, рыжий, как Иуда, – таких рыжих Митя за всю свою жизнь не встречал, – был педант до глубины своей немецкой души и имел маленькую слабость – не терпел песка. Если в сало или в хлеб песок попадал, он морщился, выбрасывал куски вон и долго полоскал рот водой.
Он ощупывал пулемет после стрельбы, и если находил в нем твердые соринки, то разносил всех номеров и грозил поставить их под винтовку. Но был прапорщик Фогель сердечным человеком и своих пулеметчиков полюбил, как детей.
Рядом с Митей спали Степа и вольноопределяющийся фон Ден.
Ден, бывший правовед, худощавый, долговязый, слегка женоподобный немчик с мелкими чертами лица, принес в казарму подушку-думку, полисуар для ногтей, лунный камень, ножницы прямые, ножницы кривые – целый женский туалет. Ходил он со стэком, держался прямо, подражая прусским юнкерам, краснел от грубых слов, любил пиво, говорил, слегка растягивая слова, но был, в сущности, хорошим другом и солдатом.
Степа же был влюблен в пулемет. Когда он уходил в город, то даже в самые жаркие дни навешивал на себя гранаты, набивал патронами не только подсумки, но и карманы. В казарме он признавал единственным полезным чтением французские романы и пулеметные уставы. Жили они очень дружно. Гордились нашитыми на мундиры трехцветными шевронами и серебряными крестами; купив медные трафареты, нацепили их, куда только было можно.
***
Перед отправкой на фронт в городском парке был устроен вечер. Понаехали отрядные кухни, киоски разукрасили цветами. Пришло много дам и девушек. Гремел оркестр. Добровольцы веселой шумной толпой гуляли по аллеям. Когда начало вечереть, вольноопределяющиеся познакомились с пехотным прапорщиком, очень добродушным человеком.
– Э, знаете, господа, – сказал он мальчикам, – прощанье надо вспрыснуть. Аида, за мной, вольноперы, в павильон!
В павильоне русские дамы делали бутерброды с ветчиной и эрзац-медом. Они отвели для молодежи столик. Фон Ден заказал себе пиво, посмотрел на свои ноги и застыл. Прапорщик раздобыл бутылку коньяку, пощелкал по ней пальцами и подмигнул Мите:
– За отряд.
Крепкий немецкий коньяк обжигал горло. Прапорщик после каждой рюмки потирал руки, покрякивал и говорил:
– Здорово, питухи!
Хмель быстро ударил в голову. Митя уже смеялся. Степа, сняв фуражку, толковал с прапорщиком о пулеметах, а фон Ден изредка в разговор вставлял слово и вертел головой, разглядывая проходивших мимо него дам. Прапорщик незаметно подменил рюмки стеклянными стопками. Мите казалось, что под звуки музыки медленно кружится парк, сильнее пахнет листвой и вечерней прохладой, а огни забавно дрожат, и если прищурить глаза, то они разбегаются во все стороны острыми мелкими стрелками. Он чувствовал себя безмерно счастливым, порывался что-то сделать хорошее, дружелюбное. Руку, что ли, всем протянуть или сказать, что в бой идти весело, и что Таубе хотя держится прямо, но он славный парень. Они говорили, перебивая друг друга и беспрестанно чокаясь.
– Я лицеист, но обожаю военное! – крикнул Степа.
– Знаешь, Степушка, я тебя люблю! Ведь вместе пойдем на одно поле.
– Руку, Митя!
– Только сердце у меня, Степа, болит, – продолжал тихо Митя, – ведь Ярославль-то, Степа… Степушка, ты не знал Куньего Меха…
– За Ярославский корпус, – сказал прапорщик, – выпьем!
Все обнялись и поцеловались, Митя запьянел. Ему казалось, что у него должен быть монокль. Правда, монокля нет, но он его купит. И он двигал бровью и кривил рот.
– Выпьем, – сказал снова прапорщик и добавил, хлопнув Митю по плечу: – Эх, пулеметчик, теперь мы с вами никаких задержек не боимся!
Митя от неожиданности растерялся, пошатнулся и сел на пол, прямо на глиняный горшок с медом. Все хохотали. Потом Митю подняли. Дамы его окружили, повернули спиной к свету, начали ножами счищать мед с его бридж, а прапорщик поил его из рук коньяком.
Вечер прошел как в тумане. Митя помнил, что он целовал руки какой-то девушке и рассказывал ей о своем больном сердце. Вернулись они домой, когда рассвело. Митя держал в руках каску, а в ней лежал подаренный незнакомой девушкой букет незабудок.
28
Транспорт легко вздрагивал от вечерней волны. Под бортовой приплеск скрипели сходни. Море казалось черным. Оно сливалось с небом, и лишь там, где стояли расцвеченные огнями иностранные корабли, дробясь, бежали золотые дорожки. Ветер доносил тихую медь английского гимна. Изумрудные и рубиновые огни ракет чертили небо и, развернувшись сверкающими самоцветными снопами, текли влажными каплями в море. Матросы, имевшие Англию и сытых матерей, встречали Праздник мира.
На кораблях задрожали крики. Гимн раздался снова, и один из миноносцев, снявшись с якоря, полным ходом пошел в море.
Митя вспомнил Россию, мать, Ярославль, разбитый железнодорожный полустанок и шумевший в березах ветер, – в тех березах со скворечницами, что стоят у проселочных знакомых дорог. Он вздохнул и снял руки с перил.
На корме пулеметчики пели:
Смело мы в бой пойдем
За Русь Святую,
И как один прольем
Кровь молодую…
– Смело мы в бой пойдем, – тряхнув головой, подхватил Митя, и сердце его дрогнуло.
С моря веял ветер. Он был крепок и свеж, и Мите хотелось, вскинув голову, отважно пойти ему навстречу.
МОЛЕБЕН НА ПЕРЕДОВОЙ
Тогда, перед выносом к солдатским рядам из собора иконы, шел перезвон. Сперва звучали слабые колокола тонкими голосами, потом звуки, нарастая, делались крепче, сильней, слышен был каждый колокол, надтреснутый или серебристый. Ударили в средний – глуховатый, торжественный звук, и снова переход, а над собором, в голубом небе, безвольно идут белые русские облака. Но вот тяжелая дрожь, сливаясь, течет с широких колокольных краев на головы, площадь, из соборных дверей повалила толпа, выносят хоругви, вот медленное и сладостное дыхание соборного хора, бородатые священники в бархатных камилавках, дьякона, мальчики в ангельских золотых стихарях медленно сходят, приподнимая длинные полы, и все течет из собора на площадь, где жарко дышит толпа, где, не теряясь в толпе, стоит готовый к отправке запасной батальон, солдаты с обнаженными головами.
Молчание лета. Войска. Строй, двинув ружьями, замер, и солнце ударило в вынесенную из собора икону. В молчании неба родился хорал – сладостное, медленно повышающееся в своем течении пение западных труб, при звуках которых все замирает – люди, небо, река, смертелен ветер, смертельно солнце, бесконечная пустыня вокруг, на дорогах ветер гонит сухую летнюю пыль, над толпой вздымает тонкие волосы. А потом – молитвенный возглас, слова священника чуть слышно продолжает вздох хора, небо принимает ладанный дым, и все моления и просьбы обращены к отлого возлежащей иконе, приявшей много молитв и человеческих слез во время войн, неурожаев и мора. Ей кланяются и поют священники в праздничных ризах, обращая просьбы о здравии и победе выстроенных по росту солдат, стриженных как один, отмеченных единым дыханием, в скатанных шинелях через плечо, с подсумками на поясах, отвисающих от тяжести боевых патронов.
Молебен кончился, гимн заиграл оркестр, и вот раскатившиеся по всей линии голоса, исступленно радостный, несмолкаемым перекатом рвущийся крик, от которого исчезает слабое слово молитв, бьется сердце, деревенеет лицо, жесткий холод течет по голой спине, а он идет, замирая, рождаясь на фланге опять, и в крике – веяние темных взволнованных крыл (из каких жестоких и страшных он родился глубин) над знакомым городом, светлой рекою, и черные торжественные взмахи связаны с солнцем, с криком людских голосов, с людьми, которые от своего крика бледнеют.
Икону унесли, поставили на обычное место, священники переоделись в алтаре, на станции ждет тупой, из красных вагонов, состав. Напутствие кончилось, все принимает будничный вид: надеты фуражки, у офицеров суровые лица, звучит жестоко и твердо команда. И вот повели. Слышно, как бьет барабан, а уже за плечами – винтовки, мешки, лица бледны, солдат окружает народ, бегут женщины, сбоку за колонной гремит обоз крестьянских телег, у последних калиток горожанки крестятся и крестят вслед уходящих. Оркестр не слышен. За городом ветер, густая тяжелая пыль, здесь по дороге к вокзалу у каждого солдата свое лицо – все постарели, бабы воют, как на выносе, высокими голосами, под руки ведут молодую – платок на плечах, волосы разбились, глаза запухли от слез, она без голоса, но причитает.
А что творилось там, на вокзале? Он был потерян в толпе, среди криков, горячих человеческих тел, его захватывала толпа, относила. Такого открытого всенародного отчаяния, горя он никогда в жизни не видел. В льняной рубашке он был не нужен, затерян. Его толкали крепкие мужики, мимо него продирались, тесня его мягкими грудями, бабы, он видел искаженные горем лица крестьян, он чувствовал их горячую плоть, он был среди них пришедший из другого чуждого мира, он видел взволнованные, заросшие бородами лица, безумные от горя глаза, через него к вагонам кричали.
А на перроне оркестр играл с медными тарелками марш, в вагонах заливались гармоники, из вагонов махали фуражками, в вагонах, надрываясь на показ всему миру, кричали и пели горькими, удалыми и отчаянными голосами с вызовом, удалью, горем; народ плакал, горожанки плакали с бабами наравне.
На перрон не пускали. Унтер-офицеры отжимали толпу, по рукам, как в церкви, над головами передавали узелки, связки баранок, как-то зло морщась, плакали пожилые мужики, и страшно было видеть их размякшие, заросшие волосами, залитые слезами лица, а из вагонов кричали еще пуще, в вагонах так отчаянно пели, что сжималось сердце:
Еду, еду,
Едем, братцы, едем.
Оставляем навсегда.
И в ответ в толпе горячей волной рождался вой, вопли и слезы, крики к ним, а там за песнею отчаянно гремело «ура», и узелки снова плыли по горячим, взволнованным рукам, над головами, к вагонам.
– Ироды, – кричала одна, – дайте с родной кровью-то попрощаться!
У него похолодели щеки. Всем сердцем он чувствовал тепло и жизнь их тел, видел изрубцованные морщинами шеи, рыжие бороды, белые от горя и потери глаза.
– Тронулся, – сказал простоволосый, с прилипшими к потному лбу волосами парень, – ишь, как закричали.
– А что делать, – сказал мужик, – кричи, больше ничего не осталось.
Оркестр вернулся, они уехали без него, где-то далеко шел поезд, и в первый раз перед ними проходила Россия по пути к месту боев, к земле, в которой большинству из них суждено было лежать, к земле, не видя которую, но тайно предчувствуя, оплакивали их матери, жены в солнечный день, отпевали живых, тайно видя мертвым дорогое лицо, рожденное тело.
Истощенные слезами, они возвращались домой, как возвращаются с казни, зная, что впереди пустое за столом место, его праздничная одежда лежит в сундуке. В зной по проселкам, по белому, с телеграфными, уходящими на далекие версты столбами шоссе, тянулись шагом телеги, – отец с горя пьян, женщины тупы и безучастны от пролитых слез, и к пустой, стоящей на солнце избе идет, поматывая головой, съевший в городе все запасенное сено темногривый конь, а поле ждет, перезревая под солнцем.
И потом, работая близ железнодорожной насыпи в поле, разгибаясь, прикрывая рукой с серпом от солнца глаза, она видит – вагоны, вагоны, а в них новые солдатские головы. Слезы обжигают глаза, жгут щеки, и, снова сгибаясь, она жнет, вяжет снопы, кладет их на жнивье, знойный ветер сушит темное немолодое лицо, и в солнце, в отягченных хлебах женское лицо скорбно, как лик провожавшей Сына на смерть Богородицы. Над лбом повязан белый платок – темное в морщинах лицо, глаза заплаканы, но покорны, – постаревшее в горе лицо, а руки послушно вьют жгуты из соломы, спина болит от работы, и, разогнувшись, не видя ничего, она смотрит пустым взором на знойное небо, на поле, залитое солнцем.
1934
This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
13.01.2013
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru: http://royallib.ru
Оставить отзыв о книге: http://royallib.ru/comment/zurov_leonid/kadet.html
Все книги автора: http://royallib.ru/author/zurov_leonid.html








![Книга Космический патруль [=Космический кадет] автора Роберт Энсон Хайнлайн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kosmicheskiy-patrul-kosmicheskiy-kadet-112003.jpg)