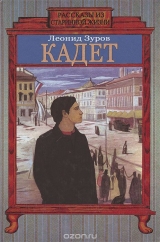
Текст книги "Кадет"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Кто-то из толпы бросил в окно корпуса кирпич. Кадеты схватили штыки и поленья и хотели броситься на толпу, но офицеры удержали их, закрыв все двери.
Быстро вставили новое стекло. Маленькие кадеты растащили замазку и, сделав из нее шарики, стреляли ими из бумажных трубок.
Корпус зажил ночной, нервной жизнью. На крыше был выставлен пост, ночью шли нескончаемые разговоры, кадеты занимались спиритизмом, в темноте гоняя блюдечко, расспрашивали про своих близких. Связь с городом, офицерами и дядьками окончательно порвалась.
Прибежавший из Петрограда юнкер Владимирского училища Вилинов, нервно вскидывая кисть руки, рассказывал мальчишкам о тех жутких днях, когда восставшие били по училищу из орудий, ревела толпа, а юнкера, слушая визг пуль, пустые грохоты пушек и крики «Бей юнкарей», лежа отстреливались. Он рассказал про жуткую обреченность и бесславные смерти, как рвали погоны, вышибали прикладами зубы и отрубленные драгунскими шашками головы насаживали на копья железной решетки, что по Гребецкой; как томительно было ожидание смерти, как скучно в те дни по петроградской мостовой мела подхваченная ветром сухая поземка.
Мальчики, замирая от надтреснутого голоса
Юнкера, взволнованно следили за жуткими взлетами его белых тонких рук.
Когда Вилинов кончил, Митя вполголоса спросил юнкера артиллериста Агафьева, который все время сидел молча:
– А вы как?
Агафьев вернулся из Петропавловской крепости. Тик часто дергал его лицо и резко сводил черные, сросшиеся над переносицей брови. Он явился в корпус в обтрепанной солдатской шинели, обросший клочковатой бородой.
– Я, – ответил, посмотрев на Митю пустыми глазами, Агафьев, – я у стенки стоял, а матрос наганом перед глазами водил… Я ему крикнул: «Расстреливай! Я вас терпеть не могу! Вы сволочь!» А он наган опустил и сказал: «Я тебя отпущу. Ты, молокосос, не выказал страха…»
Когда манифестация рабочих проходила мимо корпуса, в ясный, сверкавший снегами солнечный день кадеты открыли окна настежь, и духовой оркестр грянул и понес отважно и вольно русский гимн, и в медные торжественные звуки труб вплелись сотни молодых голосов.
– Боо-о-оже, Царя храни…
Митя, стоя у окна, обняв Лагина за пояс, пел до хрипоты. В их глазах были видны слезы, и соприкасавшиеся руки дрожали.
– Царствуй на славу, на славу нам…
– Там-там, там-там, – пели, звеня, трубы…
Толпа текла мимо, словно затканная черным туманом. Ее многоликая вражда была обращена на корпус.
***
В начале ноября знакомый офицер из автомобильной роты позвонил по телефону в корпус. Его голос был тих и часто рвался.
– На Корзинкинской фабрике… Вы меня слушаете?… да-да. Собирается карательный отряд… на корпус… Весь гарнизон против вас… Дело серьезное…
Перепуганные офицеры быстро выдали кадетам отпускные билеты.
Вечером Митя и Лагин добрались до знакомого деревянного дома. Снег, мягкий и пушистый, ложился на их фуражки и плечи. Аня вышла, кутаясь в платок.
– Здравствуйте, раздевайтесь, – сказала Она. – Только, ради Бога, тише, отец спит.
– Анечка, из Ярославля мы уже… – сказал ей Митя. – Пришли проститься.
Снег таял на ковре. Они стояли, держа в руках фуражки. Ее лицо, такое детское и милое, стало серьезным.
Уходя, Митя чуть не зацепился за поло-кик и, оглянувшись, увил ее напряженную улыбку.
– Ничего, я писать буду, Аня, – сказал Митя.
Она посмотрела им вслед, накинула цепочку, села на край ступенек и, прижав к глазам платок, склонив голову на колени, заплакала. А потом, тряхнув головой, по-детски начала подниматься наверх через две ступеньки.
10
В Вологде Митя расстался с друзьями и залез спать на верхнюю полку. За окном шумел ветер, снежная крупа, дребезжа, била стекла. Слипались глаза. Покачивало.
Во сне он увидел солнечный Ярославль, зеленеющую набережную, странные пароходы с громадными трубами, что весело гудели, выплескивая белый пар, и гонялись по Волге взапуски. А он с Аней рука об руку. Стоят и хохочут. Как посмотрят друг другу в глаза, так сразу и смешно. На нем белая короткая гимнастерка и фуражка драгунского образца, тульей вверх. А по набережной идет хор, и все в нем кадеты и гимназистки. А голоса мужские – что колокол с медью, а женские – медь с серебром. Окружили, поют и смеются. А Мите стыдно, и чего стыдно – сам не знает. Видит, показывают все на его фуражку. Он на нее – нельзя снять. Высохла на голове и обручем села. И стыдно перед Аней, и нехорошо, и голову давит.
Митя проснулся. Фуражка налезла на лоб. Он ее сдвинул на затылок и улыбнулся глупому сну.
Было тепло. Из соседнего отделения несся женский визг, хохот и звуки гармони. Митя, зевнув, приподнялся на локте, подумал – хорошо бы воды попить, и посмотрел вниз. При свете огарка он увидел, как толстошеий матрос в расстегнутой черной куртке крутил цигарку и рассказывал что-то солдатам. Те слушали его, навалившись друг на друга. На краю скамейки сидел мужик и резал ножом хлеб.
– …А ты думал что, – сказал матрос, – шутить будем?
Мужик отломил хлеб и перекрестился.
– Эй, ты… святой! – крикнул ему матрос с усмешкой. – Святые теперь в вагонах не ездят, святые в поле за кустом сидят. Против такой штуки, – он приподнял рукой кобуру револьвера, – никакой святой, никакая трава не поможет.
Солдаты засмеялись.
Мужик не донес хлеба до рта, испуганно на них поглядел и что-то зашептал.
Жажда пропала. «Увидят – убьют», – подумал Митя, и холодные, противные мурашки поползли по его спине. «А как же мать и Аня?» – подумал он, и ему стало тяжело, как от страшного сна, во время которого нельзя проснуться. Он придвинулся ближе к стене и, подтянув ноги, вспоминал рассказ юнкера. Тоже будет наганом водить, а то вытащит на станции и пристрелит… Бежать надо, бежать… Сердце учащенно билось.
Вагон постепенно стихал. Четко перестукивали колеса. Напротив на полке уже храпел один, подложив под перекладину порыжевшие сапоги. Догорала свеча. Из-за подернутого веткой мороза окна лился холодный и тусклый свет. Было жутко и тяжело.
Митя знал этот путь. Один перегон остался до станции Шеломово.
Он осторожно приподнялся и посмотрел вниз. Флотский уже храпел, открыв рот. Его ноги были раскинуты, лицо замаслилось. Солдаты спали друг у друга на плече. Только один из них что-то бессвязно бормотал во сне.
Митя снял фуражку, втиснул ее в карман и поднял воротник, чтобы скрыть петлицы. Оставались вшитые в сукно погоны. Ножа не было, казенные нитки были крепки. Митя два ногтя обломал до крови, но погон не выдрал.
– Господи, помоги, – прошептал он, но слезть не решился. Опять забилось сердце. Он передохнул, просчитал в уме до трех, перекрестился и осторожно, схватившись руками за края полок, начал, как на параллельных брусьях, спускаться. Сердце нестерпимо билось, высох рот, и от напряжения заболели глаза. Когда его занемевшие ноги коснулись пола, Митя на секунду замер на месте, передохнул и направился к двери. Митя решил выскочить из поезда.
Он надавил дверную ручку, дверь приоткрылась, но дальше не пошла. Лежавший в той половине на полу проснулся и выругался. От неожиданности Митя отскочил назад, ногой задел за винтовку, и она с грохотом упала. Обессилев, он остался стоять и увидел, как матрос открыл мутные от сна глаза. Митя бросился к другому выходу.
– Стой! Ты кто? – схватив его за рукав шинели, крикнул красноармеец.
Митя боком рванулся, сукно затрещало. Он хотел ударить держащего его красноармейца головой под грудь, но его уже схватили за поднятый воротник шинели.
– Держи! Каянная сволочь!…
– Кадет, – сказал кто-то.
Высокие люди его обступили и скрутили назад руки.
– Вот наших товарищей кадеты у Шелони обстреляли, – лениво сказал крайний бородатый солдат.
– А что же, товарищи, мы будем с ним делать?
Митю обдало жаром, горло сковало.
– Пусти-ка меня, – сказал спокойно матрос и рукой раздвинул красноармейцев. Он подошел к Мите и одернул черную куртку.
– Здравия желаю, ваше благородие, – сказал он, улыбнувшись, и неожиданно ударил Митю по лицу так, что у него мотнулась в сторону голова и лязгнули зубы. Чьи-то быстрые пальцы расстегнули его шинель и забегали по телу.
– Не рвись, успеешь, – крикнул кто-то, и снова его ударили по голове.
Туман поплыл перед глазами.
– Чего ждать! Вешай на крюке! По губе Мити лились струйки крови.
– Ишь смотрит, зубы оскаливши! Ищи крюк, товарищи!
Все разом загудели серьезно и деловито, словно готовили не к смерти.
«Господи, неужели конец?» – подумал Митя и, собрав последние силы, рванулся, протащив держащих его за руки солдат.
– Э, что вожжаться, – сказал весело матрос. – Выкинем! Ну, ваше благородие, довольно землю попачкал.
Митино тело забилось в мужицких руках. Он кусал жилистые пальцы, бил ногами, но его вынесли на площадку. Раскачивали его под команду матроса. За шинель забило холодного ветра. Путь быстрой белой лентой бежал внизу.
Перед лицом мелькнули поручни, зеленый угол вагона, донесся хохот, крик, выстрел, а потом его ударило боком о землю, перевернуло в воздухе и зарыло в снег.
Слабо простонав, он сел. Черный хвост эшелона закруглялся на повороте. От удара сапоги в подъемах, кадетский ремень и золотой браслет на руке лопнули. Висок и руки саднили, глаз запухал. На правим колене белели лохмотья. Кровь с лица капала на снег.
Митя, шатнувшись, встал и застонал. Захватив горсть снега, он прижал его к разбитому лицу .
Над серыми снегами и черными пятнами деревень раскинулось тяжелое предрассветное небо. Ветер шумел в ветвях берез, росших на кургане, ветер с шелестом гнал сухой снег по откосу.
В горле накипали слезы, но Митя их проглотил и, почему-то держа в руке ненужный ремень, пошел по шпалам к далекому городу.
11
Над кровлями пригорода высились окруженные дымами купола. Мимо покосившихся заборов, тихих, почерневших от времени домов Митя пробирался к той улице, где жила ушедшая на покой его старая нянька. Бабы попадались по пути. Ему казалось, что все смотрят на его окровавленное лицо. Он старался не хромать, нести голову прямо, и от этого росла душевная боль. Грязный пот тек по его вискам и, срываясь, замерзал па шинели.
Он открыл заскрипевшую дверь. Молодая женщина с засученными по локоть рукавами возилась с ухватом около русской печи, а на постели у откинутого полога сидела его нянька и, скинув на шею платок, расчесывала гребнем седые жидкие волосы.
– Чего надо? – спросила его грубо молодуха.
Он, не отвечая ей, тяжело опустился на лавку, скинул фуражку и сказал:
– Здравствуй, няня.
Похудевшая, с морщинами, пересекавшими губы, с темными кругами под глазами, его старая няня, не узнавая, долго смотрела на пришельца.
– Митенька… Митенька… – неожиданно бросилась она к нему, заплакала и начала ловить его руку. – Ой, ты мой… баринок… улыбка ты моя милая… – Она целовала его в плечо, плакала и глядела на его лицо. – Богородица милостивая, кто же тебе лицо раскровянил? – сказала она, всплеснув руками.
– Ничего, няня… – ответил он, – это я с поезда плохо прыгнул… расшибся…
– Видно, мать за тебя молилась, – сказала она.
Через полчаса он лежал на кровати с мокрым полотенцем на лбу, молодуха чинила его платье, нянька, сидя у груди, все глядела на него, гладила его руки и говорила:
– Ой, как трудно стало жить… ай-ай!… В городе все торбочки шьют, а по ночам хоронятся. Ах, милый мой Митенька, мизинчик ты мой, ведь я ж тебя пестовала. Бывало, спросишь: Митенька, хочешь ласыньки? Так за лаской ручонки протянет… И никогда я против слова не говорила, вот и рассердится, вот он большой вырастет и сердитый будет… – Нянька утирала концом платка слезы.
Митя тихо улыбнулся. Словно солнечный луч промелькнул. Засыпая, он вспомнил свое беззаботное детство.
Когда он проснулся, было уже поздно. Баба домывала пол. Замохначенные морозом стекла отходили блинцами, и в них видно было голубое небо, солнце и снег. Петух с отмороженным гребнем важно похаживал по мокрому полу.
Недолгий сон освежил и успокоил Митю. Он поел жирных щей и гречневой каши. Нянька хлопотала и в глаза заглядывала.
Город, где жила теперь Митина мать, находился в двадцати пяти верстах. Нужно было отыскать попутную подводу. Кошелек и бумаги у него утащили во время обыска, но во внутреннем карманчике мундира еще оставалась одна крупная ассигнация.
– Ну, нянюшка, мне пора, – сказал Митя.
– А что я тебе, Митенька, сказать хочу, – прошептала няня и отвела его к окну. – Вот, – продолжала она, развязывая дрожащими руками узел шелкового алого платка. – Я, Митенька, глупенькая, а копеечку я имею, не евши не живу. Гляди, Митенька, какие деньги. Я все равно их попу подарю… Возьми себе, Митенька.
Митя обнял старушку и поцеловал ее.
– Спасибо, нянюшка, у меня деньги есть. В тот же вечер он приехал домой.
Там он, рассказывая, много смеялся, и смеялись все, но никто из них, даже мать, не узнали о том, что он пережил за последние дни.
Город, в котором поселилась Митина семья, отличался от других российских городов тем, что имел две мощенные булыжником улицы, тридцать две церкви со звоном малиновым и далеко слышным и громадное озеро, что бурлило и било в берега волною целое лето и желтело от песчаных растревоженных мелей.
В городе шумели красноармейские балы. Красноармейцы танцевали в дворянском собрании, пьянствовали, носились по ночам на отобранных у купечества полурысаках с тальянками и девками.
Однажды они, перепившись, с колокольни собора открыли по озеру стрельбу из пулеметов, выбрав мишенью рыбаков, рубивших проруби для ловли снетков.
Семья жила под страхом ареста и шальной пули. Приближался голод. Когда подошла масленица, Митя решил поехать в имение за продуктами.
12
Ночь выдалась морозная. Кибитку заваливало набок, полозья глубоко врезались, и стыли щеки. Из-под копыт коней летели льдинки, ветер относил гривы и хвосты.
Тополевой просадью мимо кустов, пригнутых снегом, он подъехал к тихой, словно вымершей, усадьбе. Забрехали собаки. Путаясь в шубе, Митя поднялся на веранду.
Управляющий Архипов, сухой чернобородый мужик с горбатым носом, прибежал с фонарем. Его лицо опухло от сна, волосы были растрепанны.
– Лентяйничаешь, Архипыч? – смеясь, спросил его Митя, зная, что из-за лени он не смог жить на деревне.
– Как сказать, барин, – ответил тот, ухмыльнувшись.
– Ну как у нас? Все тихо?
– Шумят, шумят, а пока ничего.
Они пошли через комнаты. От шагов дрожали и тонко перезванивали хрустальные подвески люстр. Мите стало грустно. В пустых комнатах пахло старыми духами и пылью. Митя осмотрел цветы: драцены, фикусы и гигантские пальмы.
– Гляди, чтобы бабы хорошо поливали, – сказал он.
– Слушаюсь.
– Вот что, Василий, – остановившись, добавил он, – пусть жена приготовит нам поесть, а ты съезди-ка в Погорелку за десятью подводами для клади.
– Значит, для спокойствия ночью увозите? – хитро спросил Василий.
Митя съел яичницу, а потом лег на кушетку и незаметно для себя заснул. Когда он открыл глаза, уже светало. На дворе лаяли собаки, фыркали кони, и на веранде гуторили и перетаптывались мужики.
Митя приказал зарезать всех кур, гусей и уток, погрузить на подводы две бочки керосина, масло и окорока. Мяукали закутанные в теплые платки мамины любимицы – сибирские кошки.
Надев легкий домашний тулупчик, Митя вышел на крыльцо.
Все казалось новым и четким. Воздух был крепок и свеж, звезды пропали, снег очаровательно пахнул. Мужики, покрикивая и хлопая рукавицами, подтягивали веревки возков, кони с мохнатыми от инея мордами пофыркивали и подрагивали.
Когда Митя спустился с крыльца, кто-то осторожно дернул его за тулупчик. Он оглянулся.
Старуха скотница Евгения поманила его пальцем, а сама пошла за угол дома. Когда он недоуменно неторопливо подошел к ней и их скрыли постройки, старуха, приближая лицо, зашептала:
– Плохо, барчук. Енинцы пришли тебя арестовать… за Кручининым посылали. Решили не выпускать…
– Так, – сказал Митя дрогнувшим голосом.
– Что же с тобой, кормилец, теперь будет? – жалобно продолжала старуха.
– Пусть приходят, – вскинув голову, ответил Митя.
– Это Васька, – снова сказала Евгения, – Архипов. Он Митьке ямщику и в Енино дал знать, что вещи увозят… а Кручинин в Ильинском… Ему все нипочем, он давно грозился. А Васька-то… на наших хлебах вырос, в люди вышел…
Митя пошел к забору. С поля от овинов несся смутный гул голосов. Одиночные пронырливые фигуры, присматриваясь, перебегали от овина ко двору. Мужики были вооружены топорами и винтовками. Митя знал, что он легко может скрыться, но он спокойно вернулся к возкам.
Через несколько минут толпа ввалилась во двор усадьбы, окружила возки и прижала Митю к крыльцу. Митя стоял на верхней ступеньке, опираясь на палку, чуть расставив ноги.
Вперед вышли вожаки: только что прибывший с фронта Герасим, худощавый парень со сломанным носом и бегающими глазами, одетый в длинную кавалерийскую шинель, и придурковатый, саженного роста, курносый Хазов. Рядом с ними стоял Митин знакомый, седой рыбак Максим. Митя посмотрел на него, и тот, не выдержав взгляда, втерся в толпу.
– По какому праву снова хозяином стал! – крикнул нагло Герасим, но ближе подойти побоялся.
– Теперь все наше!
– Все наше, – откликнулся эхом Хазов, не спуская руки с нагана.
Митя, побледнев, сдержался, только дрогнули на его лице скулы, и, отбросив в сторону ненужную палку, насмешливо спросил:
– Когда вы это все нажили, Хазов? Ты совсем не так разговаривал, когда с отбитыми легкими приходил лечиться. По чьей милости живешь?
Хазов заморгал и глянул на Герасима.
– Мы миром порешили! Мы по закону!… Мы воевали! Все наше! – закричали мужики.
– Напрасно слова говорите, – презрительно улыбнувшись, сдержанно ответил им Митя.
– Нам тоже некогда разговаривать, – нагло выкрикнул Герасим. – За Кручининым посылай! Он рассудит! Он батька.
Несколько мужиков подбежали к кибитке, запряженной тройкой, и ножами изрезали в ломти кожу покрышки.
– Гляди, барин! – крикнул один из них. – Гайда, товарищи, в Ильинское!
– Разговаривай один, – засмеявшись сказал Герасим и, отойдя, приказал толпе: – Разгружай возы!
Баб Митя почему-то раньше не заметил, а теперь они, растолкав мужиков, вырвались вперед и бросились к возкам. Бабы начали визжать и драться, вырывая друг у друга из рук битую птицу. Герасим топором выбил днища бочек, и бабы начали черпать ведрами керосин.
Стало противно. Митя повернувшись, опустив голову, пошел в дом.
– А барина арестовать! – крикнул ему вдогонку солдат. – Пока Кручинин не приедет, тебя не отпустим. Будем судить, как он положит, так и быть. Слы-ы-шишь!…
Митю они заперли в кабинете. В окна были видны завьюженные яблони, каменный грот, увенчанный накренившейся белой шапкой, и уголок карасиного пруда, где летом плавали два лебедя. Ворон ходил по снегу, оставляя растрепанные следы.
Митя перевел глаза на белые куски ваты, лежавшие меж рам. Там серые мухи лежали вверх лапками. Весною ребенком он любил смотреть, как под солнцем оживали сухие, словно серой пылью покрытые мухи, как они дергали лапками и чистили свои тусклые крылья. Он, вздохнув, понял, что старая жизнь кончена.
С поля тянуло холодом. Мужики открыли все двери. Были слышны звон разбиваемых стекол, крикливые голоса. Кто-то изо всей силы был по клавишам рояля. «Погибли мамины цветы», – подумал Митя и прижался лбом к холодному стеклу. Он вспомнил праздничные дни, пьяный мужицкий говор, парней в цветных рубахах, их драки из-за девок с соседними деревнями, когда шли в ход гири на ремнях, колья, кожи, когда сбитых людей мяли, топтали лакированными сапогами. Он вспомнил, как однажды красивой девке вырвали косу. Митя, окинув глазами кабинет, неожиданно вспомнил, что в угловом столике хранилось вино. Он решил его вылить за окно. Отыскав штопор, Митя начал откупоривать бутылку, и тонкий запах старых вин наполнил всю комнату. Когда он открыл форточку, то заметил в аллее фигуру. Митя сузил глаза.
По снегу целиной шел лесник Михаил со штуцером за плечами и тащил за собой лыжи. Михаил поманил Митю. Митя лихорадочно начал отгибать гвозди, державшие зимнюю раму, и сдирать белые ленты бумаги. Прислушавшись, он принял на себя легко пошедшую раму, осторожно поставил ее к книжному шкафу, распахнул окно и, радостно вдохнув в себя морозный воздух, выскочил вон.
– Вот беда, за Кручининым тройку погнали, – сказал спокойно лесник, сдвинув шапку, когда они уже отошли в аллею. – Будет плохо, Кручинин – зверь. Вот что… садись на Фомку и в город дуй. Фомка оседлан.
Он отвел Митю в конец сада, где к ели была привязана лошадь. Лесник снял шапку и надвинул ее на голову Мите, а потом красным ямщицким кушаком обмотал его горло.
– Дуй лесной дорогой, – сказал Михаил, – крюк сделай, а потом через Енино духом, а я тем временем мужиков придержу. – И лесник лукаво подмигнул.
– Ну, братко, спасибо, – пожав его руку, сказал Митя и принял повод.
– Прощай, кадет, – сверкнув зубами, сказал Михаил.
Сев на коня, Митя оглянулся. Из окон имения мужики вилами вытаскивали достигший человеческого роста кактус.
Лесом Митя мчал, нахлестывая Фомку, но, не доезжая опушки, придержал, чтобы сберечь силы коня. Перед Ениным Митя прилег на луку и помчался. Из деревни на грабеж, видно, ушли все мужики. У колодца мелькнули пригнанные сюда возы с битой птицей. На снегу была разбросана мебель. Здесь его опознали остолбеневшие бабы. Одна из них бросила под ноги коня коромысло.
– Перенимай!
За деревней Митя придержал коня и прислушался. Погони не было. Видно, все крестьянские кони были в разгоне за барским добром. Митя снял шапку и, поглядев на низко опустившееся к полям серое новгородское небо, перекрестился.
Он поехал длинной, но безопасной летней дорогой. Митя увязал в снегу с Фомкой, кубарем скатывался с седла, обтаптывал снег, выручая коня, а потом и Фомка выручил.
13
Снова Волга, воля и простор. Острый нос парохода резал покрытую синими лунками воду, и вода, вскипая, отбегала легкими крыльями. Зеленые волны вспухали, как мышцы, и катились к берегам.
Ветер несся навстречу. От простора и ветра рождались крепкие и веселые мысли. Было радостно смотреть, как ветер мел блестевшую под солнцем палубу, относил в сторону дым и играл с ним, как с концами серого шелкового шарфа.
Митя охал в Ярославль. В его кармане лежали письма, полученные от Ани, и короткая записка, присланная из корпуса: «Всех, кто желает принять участие, просят явиться». У Мити на душе не было никаких забот. Ему казалось, что навстречу идет какая-то большая, светлая радость. При мысли об Ане сладко ныло и часто перестукивало сердце. Хотелось засмеяться ветру, лечь грудью на перила и глядеть бездумно, не считая минут, вниз, на воду.
Волга опустела. Куда-то ушли все барки. На набережной Митя не увидел знакомых локомотивов. Набережная заросла веселой зеленой травой, а на аллеях еще лежали горки прошлогодних листьев. Митя, улыбнувшись, сдвинул фуражку набекрень, пошел к корпусу, глядя себе под ноги, стараясь ступать по большим булыжникам, минуя маленькие, и это его забавляло, словно он шел по одной рельсе.
На Московской улице он увидел математика Козардюка. Математик шел, слегка переваливаясь, его штаны спадали складками на сапоги, в одной руке он держал фуражку, а другой размахивал под шаг.
– Здравствуй, помещик! – крикнул математик басом и пожал Митину руку.
Митя знал его как строгого педанта: зря его встретил, будет расспрашивать, ругаться и посоветует ехать обратно.
– Хорошо, что приехал, – сказал Козардюк. – Он погладил рукой свою бороду и, поглядев на небо, вздохнув, сказал: – Посмотри, кадет! Вот порядки настали. Ничего подобного
Русь не видала. – Наклонившись к Мите, он тихо добавил: – Приходи ко мне вечером.
Раньше бы Митю удивил пафос былого педанта, но в этот день он решил почему-то не удивляться.
Аню он не застал дома.
14
В комнате учителя было дымно и шумно. Многие сидели на кровати. Худенький, бледный офицер с острым лицом ходил из угла в угол, нервно поглаживая пальцем брови. Все курили, говорили вразброд, часто вскакивали и взмахивали руками. За письменным столом, на котором были сдвинуты в одну кучу фуражки, книги и стаканы с недопитым чаем, сидел над картой одетый во все штатское офицер Вахромеев. Козардюк стоял посредине комнаты, зажав руками спинку стула, и, как перед классной доской, что-то доказывал незнакомым лицеистам.
Митя сидел в углу и слушал.
Козардюк приподнял стул и постучал им по полу.
– Внимание, господа!
– Из только что полученных сведений, – сказал, приподнимаясь, Вахромеев, – выяснилось, что чехословаки продвигаются к Казани, а Вологда занята англичанами. Нам помогут! – Он поджал губы, отчего внезапно потвердело его добродушное лицо, и, отчеканивая слова, добавил: – Народ ждет! Русский долг, господа! Равнение на икону, присяга и подъем!
Все зашумели.
Митю в планы никто не посвящал. Он молча сидел в стороне, молча глотал папиросный дым, жадно слушал. Его мальчишеское сердце трепетало от восторга, и он был готов всегда, в любую минуту, целиком, всей душой идти вместе с ними присягать и освобождать Россию.
Козардюк, увидев Митю, подошел к нему с двумя англичанами.
– Познакомьтесь, – сказал он, придвинув к себе стул. – Внимание… Завтра мы налетом возьмем Рыбинск. Водную систему перережем пополам. Радиус шире, – повысил голос Козардюк, – но дисциплина и мужество! Завтра утром ты придешь ко мне, – приказал он Мите, – а вы, – обратился он к лицеистам, – извольте явиться к корпусу.
15
Митя проснулся в Кукуевской гостинице и от дальней радости улыбнулся. Он вспомнил вчерашнюю сходку, быстро оделся, плеснул на лицо водой и распахнул окно.
«Та-та-тах-тах-тах», -сухо щелкала разбросанная стрельба. Улицы были пустынны. Только в Волковском театре пути тонко били стекла.
Митя на листке бумаги поспешно набросал несколько строк: «Здравствуйте, славный Куний Мех! Наш отряд отправляется брать Рыбинск. Когда мы его возьмем, то я приеду в Ярославль. Скоро увидимся. Митя».
Он отдал записку и деньги испуганному лакею и выбежал на улицу.
Вначале пульки повизгивали, но потом все стихло. Был странен их острый визг, от которого хотелось спрятать голову в плечи.
Когда Митя прибежал к Козардюку, учитель уже стоял перед зеркалом и в ремень прямой и тонкой шашки продевал голову. Митя пожалел, что у него нет погон и шашки.
– Теперь бежим в корпус, – крикнул Козардюк. – Там штаб-квартира, оттуда в Рыбинск.
Побежали. Шашка путалась у Козардюка, он М заправлял за спину, подтягивая ремни. С окраины доносилась вялая стрельба.
У входа в корпус стояла большая толпа: офицеры, лицеисты, кадеты, штатские в пиджаках, штатские в соломенных шляпах, добровольцы-армяне и немцы-колонисты. Один из них опирался на обнаженную шашку городового, и его шляпа-панама была надвинута на глаза. С криком проносились лихачи. Офицеры легко выскакивали из пролеток и, звеня шпорами, пробегали, раздвигая толпу. Стоявшие у входа вестовые поминутно вытягивались и отдавали честь.
– Пропусти! – крикнул толпе Козардюк и, отирая пот с лица, побежал к входу.
Митя за ним не поспел и остался в толпе. От маленького кадета, одетого в защитную гимнастерку, он узнал, что корпус уже не существует, а есть военная гимназия, что пуговицы теперь без орлов, ремни солдатские, что в классы поступают евреи, а все старые кадеты уже дерутся против большевиков на окраинах. Митя только успел заправить штаны в голенища сапог, как побагровевший, важный Козардюк выскочил из дверей корпуса, раздвинул толпу и. выкинув вперед руку, приказал:
– На пристань! Буксиры ждут. Там оружие! Все будет в порядке.
Кадеты и лицеисты его обступили. Подошел старый полковник.
– Полковник, вы с нами? – откинув голову, спросил его Козардюк.
– Слушаюсь. Полковник Лебединский, – ответил, щелкнув шпорами, офицер.
Добровольцы сели в пролетки и поехали к набережной. Митя стоял на подножке.
Показалась залитая солнцем Волга. Пристань была пуста, ломовики куда-то исчезли, по воде бежала золотая рябь, а у берега дымил пароход «Ратьков-Рожнов», набирая людей для перевозки на другую сторону. На пристани валялись пулеметы, винтовки и серые цинковые ящики с патронами. Шумя и смеясь, молодежь разбирала оружие. Козардюк командовал, а полковник Лебединский, седоватый, плешивый, в синих офицерских брюках со штрипками и в стареньком кителе, стоял в стороне. Он винтовку не взял, у него была шашка с малиновым темляком. К пристани подогнали два буксира, и Козардюк приказал отряду на них грузиться.
Кадеты раздвинули дрова и в отверстие поставили пулемет. На два буксира набралось несколько десятков человек. Среди них было пять лицеистов, два студента – один в очках, а другой волосатый, и несколько человек штатских, перетянувших свои пиджаки ремнями. Многие осторожно держали винтовки в руках и расспрашивали, как с ними надо обращаться.
– С Богом! Сегодня радостный день!… – словно помолодев, крикнул Лебединский.
– Наконец-то получено известие, что в Вологде англичане, – взмахнув фуражкой, крикнул за полковника Козардюк. – Положим конец владычеству большевиков! Мы едем, но возможно, что Рыбинск занят неприятелем. Но по железным дорогам везут добровольческие части. Мы им поможем! Ура!
Над пристанью, пароходом «Ратьков-Рожнов» и буксирами покатилось «ура». Буксиры запыхтели и медленно потащились по Волге. Когда проезжали мимо белых монастырских стен старика Толга, мальчики перекрестились, посмотрев на его серебряные купола.
Вначале Митя думал об отсутствии дисциплины, хотел расспросить полковника или Козардюка об англичанах, а потом решил, что раз все едут, то нечего и спрашивать. Митя сдирал кору с полешек и бросал ее в Волгу.
Волга отражала в водах своих стоявший на высоком берегу город. Рыбинск был тих. Причаливать торопились. Первый буксир налетел с треском на пристань и сломал свое крыло. Митя было подумал, что это плохое предзнаменование, но полковник выскочил на берег с ташкой наголо, за ним вытащили пулеметы, добровольцы прыгнули следом и, крикнув «ура!», взяв винтовки на изготовку, влетели на возвышение. Все удивились, что сопротивления не встретили.
Стоявшие невдалеке ломовики бросились врассыпную. Мужики били ржавших испуганных лошадей, телеги налетали друг на друга.
– Рыбинск наш! – крикнул Козардюк. Все передохнули, полковник, лихо сдвинув фуражку, построил людей, рассчитал их и спросил Козардюка:
– Куда двинемся?
– Разобьемтесь на две партии и пойдем на город, – ответил Козардюк.
Полковнику досталось очень мало людей, но зато он захватил с собою пулеметы. Митя держался Козардюка: математик казался ему бравым. Но едва партия полковника скрылась, а они вступили в город, как Козардюк, видимо, растерялся и не знал, с чего начать.
– Нужно дозоры выслать, – сказал ему Митя.
– Да, да, вышлем дозоры, – ответил Козардюк, – а, сколько человек выслать?








![Книга Космический патруль [=Космический кадет] автора Роберт Энсон Хайнлайн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kosmicheskiy-patrul-kosmicheskiy-kadet-112003.jpg)