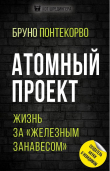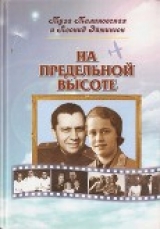
Текст книги "На предельной высоте"
Автор книги: Леонид Эйтингон
Соавторы: Муза Малиновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Павел Анатольевич Судоплатов рассказывал нам, откуда взялся этот «почтовый ящик». Его создали в Санта-Фе Эйтингон и Григулевич, когда готовилась операция против Троцкого. Как известно, у Григулевича было прикрытие – его отец владел сетью аптек в Латинской Америке, так что здесь ни у кого подозрений не возникало. Аптеку в Санта-Фе Эйтингон и Григулевич оформили на одного из членов группы, а после покушения на Троцкого этот канал был законсервирован. Спустя несколько лет он стал чрезвычайно важен для новых операций, и функционировал исправно и долго.
Другая заслуга Эйтингона в том, что он, вместе со своим на-пальником Павлом Судоплатовым и другими руководителями внешней разведки, организовывал работу и руководил операциями по получению секретов по атомной энергии, продолжая при этом курировать и прочие направления разведки.
Именно Эйтингон, который дал системе операций по получению технических и научных данных об атомной бомбе название «Инормоз», в переводе с английского «Огромная».
В связи с тем, что начиная с 1943 г. получение сверхсекретных сведений о новых видах вооружений на Западе, в первую очередь об атомных, стало одной из приоритетных задач разведки. В Центре велась большая организационная, аналитическая и подготовительная работа для проведения всё новых и новых операций, связанных с этой задачей.
Легендарный советский разведчик Рудольф Абель, а правильнее сказать – Вильям Фишер, которого направили в США в 1948 г., рассказывал, что, работая в тандеме Судоплатов и Эйтингон, представляли собой исключительно сильную комбинацию.
Судоплатов был собран, чёток, дипломатичен. Его задачей было определение, в зависимости от решений руководства, магистральных направлений деятельности по тому или иному вопросу.
Эйтингон больше занимался анализом, деталями, организационными проблемами, выполняя роль начальника штаба.
Слушать их иногда было крайне интересно: один предлагал самые различные по сути и порой очень неожиданные решения, другой – выполнял роль так называемого «адвоката дьявола», находя слабые или уязвимые места в каждом плане. О том, какую выдающуюся роль играл Эйтингон как организатор разведывательной работы, говорили и писали многие ветераны внешней разведки.
Эйтингон безошибочно отбирал людей для выполнения заданий, которые были образованными, деликатными и лёгкими в общении: ведь им предстояло общаться с крупнейшими учеными, людьми, порой легкоранимыми и не терпящими никакого напора и давления. Практически все агенты, которые начинали работу, связанную с атомными секретами, были апробированы Эйтингоном и Судоплатовым как наиболее подходящие к такому роду операций: среди них были, наряду с Хейфецем, такие профессионалы, как Каспаров, Семёнов, Овакимян.
Григорий Хейфец, например, помимо того, что был человеком эрудированным и тонким, обладал огромным обаянием и легко сходился с людьми самых разных взглядов и интересов.
После войны, в начале 1950-х годов, подполковник Хейфец, увы, не избежал участи, постигшей многих офицеров разведки – евреев. Он был обвинён в пресловутом «сионистском заговоре» и уволен из разведки. Впрочем, были уволены и агенты высочайшего класса – уже упомянутые супруги Зарубины.
Судоплатов и Эйтингон умели просчитывать ходы вперёд. Растущая плотность советской агентуры в сферах атомных секретов не могла их не беспокоить, и это было доложено Берии.
Было принято решение о смене структуры операций. Павел Судоплатов писал в своих воспоминаниях, что он и Эйтингон направили Хейфецу и Семёнову инструкции – передать нелегальной резидентуре всех информаторов и все «рабочие контакты», касающиеся Оппенгеймера в Калифорнии. Причём Берия издал приказ – не сообщать никому из американского направления разведки об этой передаче информантов и контактов. Предусмотрительность опытных разведчиков имела большое значение: она обеспечила бесперебойную работу каналов информации и тогда, когда условия её получения существенным образом изменились.
В феврале 1943 г. служба перехвата и радиоразведки войск связи США (впоследствии ставшая Агентством национальной безопасности) начала работать над программой под названием «Венона». Целью этой программы было расшифровать и использовать в работе контрразведки кодированные сообщения, проходившие по советским дипломатическим каналам связи, начиная с 1939 года. Объём информации, который был записан американцами, был гигантским – десятки тысяч шифрограмм. Каждая из них имела вместо текста группы из пяти цифр.
Впоследствии советской разведкой, как писали известные западные криптоаналитики, использовались шифрограммы из 4 или даже 3 групп цифр. Однако, независимо от количества цифр в группе, в Москве шифр считался абсолютно безопасным. Дело в том, что для связи использовался, как правило, одноразовый код. Поясним, что это такое. Одноразовый код – это лист бумаги, на котором, к примеру, 70 групп цифр самого разного вида. Зашифровав своё донесение в форме цифр, причём так, что каждой букве соответствует определённая группа цифр, агент, передающий сообщение, прибавляет к каждой группе цифр в своей шифровке ту группу цифр, которая содержится на листе одноразового кода. Теперь найти аналогичные буквы или слова в шифре становится практически невозможным. Поскольку одноразовый код всё время менялся, определить системное повторение групп цифр дешифровщики были не в состоянии.
Расшифровка такого текста представляет немалую сложность, и поэтому этот процесс занимал несколько лет. Но с помощью компьютеров, возможности которых в Москве ещё полностью не оценили, был сделан существенный прорыв.
В октябре 1943 г. лейтенант Ричард Хэллек заложил в компьютер 10 тысяч шифрограмм торговой миссии, чтобы определить повторяемость текста. Когда вычисления были сделаны, в 7 случаях удалось определить элемент повторяемости. На следующем этапе началась работа с шифрограммами, которые, как подозревали, были отправлены в Москву агентами советской разведки. К концу 1944 г. американцам удалось проследить параллели в сообщениях, а ещё через два года лингвист Мередит Гарднер смог расшифровать в кодированных агентурных сообщениях имена некоторых американских учёных. Благодаря расшифрованным данным ФБР удалось вывести английскую контрразведку на Клауса Фукса, а через него выйти на Гарри Голда. В результате был арестован ещё один советский агент – Грингласс, а затем и чета Розенбергов.
С 1945 года Судоплатов и Эйтингон уже знали о существовании программы «Венона». Информация о ней поступила как от тщательно законспирированных агентов в американской администрации, так и Уильяма Вайссмана, американского офицера, работавшего на советскую разведку. Вайссман был прикомандирован к программе «Венона» как специалист по русскому языку и мог получать информацию. До того, как он вступил в армию, Вайссман жил на западном побережье, где был связником у советского агента, работавшего в авиационной промышленности. Как тот, так и другой были в своё время завербованы по указанию Эйтингона.
Вайссман знал о том, что программа «Венона» осуществляется, хоть и медленно, но с успехом. Он не знал, что именно удалось расшифровать. А также о том, что стало известно американцам о сети советской агентуры и об учёных, от которых поступала важная информация. Был, однако, советский агент, который эти сведения получил и передал в Москву. Им был Ким Филби.
В тот критический период Ким Филби был представителем британской разведки в Вашингтоне. Он получал информацию о программе «Венона» ещё до приезда в Вашингтон. Но здесь объём информации о ней был уже другим, гораздо более обширным – имелись копии переводов некоторых шифрограмм, а также некоторые рассылочные данные, направлявшиеся в разведывательные и контрразведывательные службы США и Великобритании. В них содержались имена, опознанные в результате прочтения шифрограмм.
Эту информацию Филби получал до самого 1950 г. Благодаря добытым сведениям, он узнал и про то, что советский агент Дональд Маклин, другой член «кэмбриджской пятерки», находится под подозрением, а также прочёл имена и других агентов, которых распознали американцы, и дал им команду покинуть США и перебраться в СССР.
Успех программы «Венона» был относительным и, безусловно, запоздалым. Многих агентов Кремля и учёных, сотрудничавших с ними, распознать американцам не удалось. Они настойчиво пытались выяснить, например, кто же скрывается под кодовыми именами «Перс» и «Квант», но это оставалось для них тайной за семью печатями.

Морис Коэн

Лона Коэн
Важнейшим фактом явилось то обстоятельство, что система разведывательных операций в Америке была тщательно продумана и продублирована. В начале 1943 г. руководить атомным шпионажем в Америку отправили начальника научно-технического отдела внешней разведки Леонида Квасникова. В Моек-ве соответствующий отдел возглавил разведчик Лев Василевский.
Эйтингон был не очень доволен этим назначением Квасникова: он считал, что лучшие специалисты должны в Москве фильтровать получаемые из США материалы, и Василевскому без Квасникова это будет сделать нелегко. Эту мысль руководители внешней разведки высказали и Берии. Но он, судя по всему, стремился получить как можно больше данных в возможно более короткий промежуток времени, и наличие технического специалиста на месте могло помочь сориентировать агентов на получение конкретной информации по нужным направлениям.
Судоплатов и Эйтингон были убеждены, что Квасникову нельзя полагаться только на уже имеющиеся каналы информации, и считали, что нужно расширить поле деятельности атомной разведки в США. Дело в том, что как бы хорошо ни получалось у Квасникова, перекрытие одного канала информации грозило – в случае провала или усложнения условий работы – приостановкой получения технической информации на последнем, критическом этапе. Другой проблемой могла быть, в случае обнаружения американской контрразведкой канала утечки информации, специально подготовленная американцами дезинформация. Чтобы не допустить этого, было решено направлять двум агентам параллельно одни и те же вопросы: это и сняло множество второстепенных вопросов, возникающих по ходу получения материалов, а во-вторых, подтвердила Москве точность информации, передаваемой, к примеру, Клаусом Фуксом, так как её идеальным образом подтверждала и дополняла информация от агента «Персей» (или «Перс»). Подтверждаемая информация шла не через Квасникова, а через параллельные каналы, которые Эйтингон установил задолго до этого.
Немаловажную роль в деятельности управления «С» сыграло также то, что Судоплатов и Эйтингон не стали сосредоточивать внимание только на исследовательском центре в Лос-Аламосе, а уделили серьёзное внимание центру в Беркли. Судо-платов писал в своих мемуарах, что, хотя советской разведке удалось внедрить в окружение Оппенгеймера, Сцилларда и Ферми своих информаторов, а также получать огромный объём информации через Клауса Фукса, главным каналом научнотехнической информации оставался именно центр в Беркли, куда неизбежно поступала информация и из Лос-Аламоса. Оттуда и приходили важнейшие сведения на последнем, заключительном этапе системы операций, предшествующем практическому созданию атомной бомбы, и к тому времени, когда американцы осознали необходимость больших усилий контрразведки и на этом участке, дело уже было сделано. Москва прекратила связь со своими агентами в Беркли, и никто из них в сети контрразведки не попал.
Источники информации и агенты внешней разведки добыли 286 секретных научных документов и закрытых публикаций по атомной энергии. Получение значительной части этих документов и их передача в Центр стали возможными не только благодаря уже знакомой нам «кэмбриджской пятёрке», но также и Морису Коэну, с которым Эйтингон познакомился ещё во время Гражданской войны в Испании. В последние её месяцы Морис был ранен в обе ноги и довольно долго пролежал в госпитале. Коэн не сожалел о своём участии в этой войне и оставался убежденным коммунистом.
Сотрудничество Мориса Коэна с советской разведкой началось в Америке. Как один из ветеранов Гражданской войны в Испании и коммунист, он был приглашён на работу в русский павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Здесь с ним познакомились агенты внешней разведки, которые пригласили его работать в АМТОРГ. С этого времени он стал одним из доверенных лиц Нью-Йоркской резидентуры и выполнял ответственные задания советской разведки почти два десятилетия. В Америке на связи с Коэном был Семён Семёнов.
Еще в 1930-е годы Морис Коэн познакомился со своей будущей женой Лоной, которая стала его верным помощником на протяжении всей его разведывательной карьеры. Надо сказать, что она сыграла немаловажную роль в качестве связника, доставляя в Нью-Йорк добытую информацию. Один из наиболее известных эпизодов её деятельности в роли связника носил почти анекдотический характер. Он произошёл в 1945 г. Лона находилась в поезде, идущим в Нью-Йорк, когда к ней подошёл офицер службы безопасности. Это произошло вскоре по-еле того, как ей передали коробку с салфетками, в которой была информация по «Проекту Манхэттен». Лона попросила его подержать коробку, после чего предъявила к осмотру багаж. Закончив его, офицер вернул ей коробку и перешёл к осмотру багажа других пассажиров…

Тед Холл
В Америке полагают, что человеком, передавшим Лоне коробку, был совсем молодой учёный, работавший над «Проектом Манхэттен» – Тед Холл. Он тоже был идеалистом и считал, что монопольное право США распоряжаться энергией ядерного взрыва может привести к тому, что его страна станет фашистским государством. Лона и Тед Холл встречались по меньшей мере ещё один раз, и вновь материал, переданный советской резидентуре, оказался крайне важным для советских учёных.
Эйтингон был задействован не только в операциях по получению атомных секретов, но и, будучи работником государственного масштаба, в организации атомного производства, которое осуществлялось под непосредственным руководством Лаврентия Берии. Это ему потом припомнят: ведь все, что делал Берия, было при Хрущёве ошельмовано. Между тем работа эта была огромная, требовавшая и знаний, и опыта, и широты мышления.
Мать нам рассказывала, что отец в конце войны и сразу по-еле её окончания очень часто выезжал в командировки в Вое-точную Европу, главным образом, в Венгрию и в Болгарию. Сегодня уже не секрет, что он занимался там проблемами добычи урана. Особенно частыми были его поездки в Болгарию: он встречался там с Георгием Димитровым и другими государственными деятелями, которые оказывали ему содействие. Особенно близок он был с Иваном Винаровым, которого он хорошо знал ещё по работе в Китае и с которым вместе работал в Турции во время Второй мировой войны.

И. Щорс на 100-летнем юбилее Эйтингона
Дело в том, что ещё в январе 1945 г. Государственный Комитет Обороны выпустил постановление – совершенно секретное и особой важности за подписью Сталина и адресованное Молотову и Берии, в котором предписывалось организовать в Болгарии поиск, разведку и добычу урановых руд, а также совместное болгарско-советское акционерное общество по разработке урановых рудников. Созданное акционерное общество возглавил Игорь Щорс, сотрудник разведки и горный инженер по образованию. В 2004 г. Щорс был ешё жив, ему было уже за девяносто, тем не менее он охотно рассказывал нам о своей работе во время войны и по-еле неё, об инструктаже, который он получал от Эйтингона.
Принимал участие Эйтингон и в отборе инженерных кадров, которых готовили к переброске в США, Великобританию и Канаду. Но здесь первое слово принадлежало Льву Василевскому, начальнику научно-технической разведки: он подбирал для загранработы способных физиков. Полковник Василевский несколько раз выезжал в Швейцарию и Италию на встречу с Бруно Понтекорво. Встречался он и с Жолио-Кюри.
С началом «холодной войны» настроения учёных на Западе изменились, и они стали отказываться от сотрудничества с учёными Советского Союза, а со временем свели контакты с ними до минимума. Но дело было уже сделано: в августе 1949 г. Советский Союз испытал свою атомную бомбу.
Система операций, проведённых советской внешней разведкой в связи с добычей атомных секретов, обеспечением контактов с ведущими физиками мира и пересылкой научных материалов в СССР, является беспрецедентной по масштабу и продолжительности, равно как и по эффективности.
Как считают многие эксперты на Западе, эта работа превосходит по параметрам весь комплекс операций, проведённых ЦРУ в России в период с 1987 по 1993 гг. – а этот комплекс мероприятий считается самым крупным в истории американской разведки.
Крупнейшие учёные мира работали над созданием атомной бомбы в Америке и для Америки; сегодня мы знаем, что они помогали создавать и советский ядерный потенциал.
Порой можно услышать и такое мнение: «Были же проколы!

Взрыв первой советской атомной бомбы (1949 г.)
В 1950 г. арестовали и судили Клауса Фукса и другого британского физика Аллена Нан Мея, который работал в Лос-Аламосе и тоже снабжал советских агентов данными по «Проекту Манхэттен» (Мей получил десять лет тюремного заключения). Казнили супругов Розенберг, которые были информаторами Москвы. А в 1946 г. в Канаде были схвачены 22 коммуниста, которые помогали внешней разведке. Расшифрованы некоторые секретные послания от агентов из Америки в Моек-ву. Была арестована и во всём призналась работавшая на советскую разведку Лиз Бентли. Так что не всё шло гладко…»

Супруги Розенберг Джулиус и Этель
Нельзя забывать масштаб системы операций, которая была создана для получения информации из США. Более 200 агентов работало в этой системе. После создания Сталиным в 1944 г. Управления «С» – специальных операций, одной из важнейших целей которых было получение секретной информации от ведущих американских учёных, включая Роберта Оппенгеймера, Нильса Бора, Энрико Ферми и Лео Сцилларда. Под началом Судоплатова и Эйтингона работало около 40 нелегалов, нацеленных на лаборатории в Лос-Аламосе и Беркли. При таком количестве действующих агентов и при огромном объёме передаваемой информации возможно всё.
Тем более, что, как и во все времена, свою мрачную роль в работе разведки сыграло предательство.
В 1944 г. перебежал к американцам сотрудник АМТОРГа Кравченко: он знал немало о том, какую роль играет его фирма для прикрытия разведывательной активности вокруг атомных центров.
В сентябре 1945 г. стал предателем шифровальщик ГРУ Гузенко: он работал в Канаде. Вынесенные им из советского посольства материалы оказались весьма полезны для ФБР и канадской контрразведки. А спустя два месяца начала свои сенсационные разоблачения на допросах в ФБР Элизабет Бентли, которая созналась в том, что работала на Москву, и назвала десятки имён, связанных с ней людей в США. Благодаря откровениям Гузенко и Бентли, американским криптоаналитикам и удалось прочесть часть передаваемых агентами в Москву шифрованных материалов.

Апофеоз советской атомной программы, руководимой Маршалом Лаврентием Берия и учёным Игорем Курчатовым: взрыв термоядерной бомбы в 1953 г.
Что касается казни Джулиуса и Этель Розенберг, то, как справедливо полагал сам Джулиус, она была неизбежна – так же, как была неизбежна антикоммунистическая истерия начала 1950-х годов. И то, и другое было необходимо правящим кругам США, чтобы заставить народ примириться с войной в Корее и увеличить военные ассигнования. Кроме того, истеблишмент наглядно продемонстрировал левым силам, что за сотрудничество с СССР теперь будут сурово карать.
Мало кто сомневался, что, по сути дела, Розенберги передавали советской разведке довольно важную информацию о технических новинках в области электроники и авиации, но если говорить о ядерном оружии, то информация о нём могла быть у Розенбергов только периферийной. Основная утечка происходила из лабораторий ведущих учёных в этой области.
Но два американских учёных, от которых шла важнейшая информация об атомной бомбе и которые были обозначены в посланиях советской разведки кодовыми именами «Перс» («Персей») и «Квант», так никогда и не были разоблачены. И в этом – тоже особая заслуга Судоплатова и Эйтингона.
Глава VIII. ДВАЖДЫ УЗНИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Пока генерал Эйтингон проводил долгие часы за рабочим столом, в перелётах в разные концы огромной страны и в поездках за её рубежами, его близкие жили жизнью обычной московской семьи. Был ли в этой семье достаток? Наверное, был: дети были одеты в добротную одежду, да и Муза могла кое-что время от времени себе покупать. Генерал, хотя у него и был «выездной» гардероб, любил ходить на прогулку с детьми в военной форме – ему нравилось, что они гордятся отцом. Только в такое время он позволял себе блеснуть генеральским мундиром и орденской колодкой: во всем остальном он был скромным человеком и требовал того же от всех членов семьи.
Единственным его увлечением, ненадолго отрывавшим его от семьи, оставалась охота. Объездив весь мир и повидав на своем веку столько, что хватило бы на несколько биографий, Эйтингон ценил простые житейские радости: семейный уют, любовь детей, преданность жены. Зло, которое встречалось на его пути, научило его ценить добро во всех формах и проявлениях, и он щедро делился этим умением с детьми.

Эйтингон на охоте
Незадолго до нового 1951 года, когда отец был в отъезде, в семье приобрели щеночка. Щенок был белый, пушистый и, конечно, всем нравился. Когда приехал отец, он заметил, что было бы совсем неплохо приобрести охотничью собаку, которая стала бы сопровождать его на охоте. Прошло несколько недель и наши соседи, которым очень понравился щенок, доверительно сказали матери, что, если мы задумаем приобретать другую собаку, они с удовольствием возьмут у нас нашего щенка. Мать хотела сделать отцу приятное и сообщила ему, что мы нашего щенка можем теперь отдать и купим для отца охотничью собаку. Он, однако, улыбнулся и сказал: «Охота, конечно, дело хорошее, но дети уже привыкли к этой собачке, да и я тоже. Пусть она останется у нас…»

После войны
Семья ждала приближения нового года. Он был прежде всего праздником детей: с нарядной ёлкой и множеством сверкающих игрушек, но ещё – с конфетами «Мишка», пирожными и тортами, мандаринами и засахаренными орехами; мало кто мог позволить себе роскошь лакомиться всем этим круглый год. За окном в Новый год чаше всего была метель, а в доме было тепло, весело и торжественно.
В наших глазах и сейчас стоит ёлка, которую привёз накануне праздника водитель отца. Может быть, это потому, что с той новогодней поры в нашем доме уже никогда не было большой елки. Она была такой высокой, что, когда её поставили в ведро с песком, макушку пришлось отрезать, чтобы водрузить на неё звёздочку. Под потолком парили огромные воздушные шары, а вокруг были гирлянды и ленты. В доме стоял запах пирогов и мандаринов. А под ёлкой были подарки для всех членов семьи. Мы радостно встретили 1951 год. И ничто в ту ночь не предвешало беды…
Осенью сын Эйтингона Леонид должен был идти в первый класс, и отец старался улучить минуту, чтобы позаниматься с ним чтением. У Леонида не всегда получалось, и тогда отец нервничал, ходил по квартире, переживал, ссорился с сыном, потом обнимал его и снова заставлял заниматься. Леонид хотел стать моряком, и поэтому ему выбирали школу, в которой преподавали английский язык. Обучение тогда было раздельное, и школа для мальчиков с английским языком оказалась не так уж и близко: для того, чтобы добраться до неё, нужно было перейти проспект, по которому мчались автомобили. Поэтому директор школы взял с матери мальчика подписку, что она обязуется провожать его в школу и встречать после занятий. Подземных переходов тогда не было.

Семья в полном составе. 1950 год
Летом Муза с детьми поехала на отдых в Анапу. В 1938 году Муза работала в Анапе в детском санатории – эта была педагогическая практика для студентов института физкультуры. Ещё тогда она обратила внимание на благотворное влияние анапского климата на детский организм. Эйтингон остался в Моек-ве, было много работы. Незадолго до окончания отдыха Муза получила письмо:
«Дорогая Муза.
Пишу тебе второпях несколько слов, так как неожиданно уезжаю из Москвы на десять-пятнадцать дней. Я ждал всё время твоего письма, но, к сожалению, ты по-видимому не торопилась писать или может быть почта не совсем нормально работает. Меня очень интересует как вы живёте, как ваше здоровье. Будь любезна, получив это письмо, телеграфом сообщить мне, что у вас слышно и когда вы намерены вернуться. Не забудь, дорогая, что Леониду нужно в школу, и если он опоздает, это может плохо отразиться на его учебе.
Письмо и телеграммы шли по имеющемуся у тебя адресу. Мне их Саша (Тимашков) будет пересылать. Также ему я оставлю на всякий случай для тебя денег, и он будет тебя встречать, если меня ещё не будет. Нежно вас и крепко целую.
Леонид.»
Как Эйтингон и предполагал, встретить семью после отпуска он не смог. Не смог он и проводить Лёню в первый класс. Зато первого сентября Лёня получил первую в жизни телеграмму на своё имя, в ней было поздравление от отца.


Леонид Райхман (1908—90). Как и его товарищи, генерал-лейтенант Райхман был обвинён в «сионистском заговоре» и арестован в 1951 году. Освобождён Берией. Вторично арестован по приказу Хрущёва спустя два года. Получил 8 лет тюрьмы, но связи в Кремле помогли ему добиться реабилитации уже в 1957 году
Генерал Эйтингон находился тогда в Литве. Ему и его товарищам удалось обезвредить руководство террористической организации, которая устраивала нападения на местные органы власти, взрывы и поджоги. В октябре он вернулся в Москву. Он позвонил и весёлым голосом объявил, что будет дома через сорок минут. В доме началась праздничная суета. Все приводили себя в порядок; Муза-большая и Муза-маленькая бросились надевать лучшие платья, готовить на стол.
Генерал не пришёл домой в тот день. Он даже не позвонил. Не пришёл он и на следующий день. Домочадцы притихли, вся квартира замерла в ожидании. Муза ждала вестей – и очень боялась, что вести эти будут горькими и тяжёлыми. Она не ошиблась.
Вот что рассказал отец, спустя много лет своим детям об этом дне. Вернувшись в Москву, он и его сотрудники направились к себе в управление. Какое-то время генерал провёл в своём кабинете: ему нужно было написать отчёт. Потом он позвонил Музе и сообщил, что едет домой. Когда он вышел на улицу, то заметил, что за ним ведётся слежка. Эйтингон был слишком опытным разведчиком, чтобы не понять, что стал объектом наружного наблюдения советской контрразведки. Цель её была генералу ясна; он побродил по Москве, делая петли и меняя маршруты на ходу, и вскоре понял, что ему не уйти от преследования. Тогда он принял решение вернуться назад в управление: он не хотел, чтобы его арестовали дома – боялся, что пришельцы напугают детей.
В кармане у него были деньги, которые предназначались на нужды семьи. Он зашёл к одному из своих приятелей и оставил деньги ему – для передачи Музе, и только после этого вернулся на Лубянку. Там его уже ждали.
Скорее всего, главной целью ареста Эйтингона было избавиться от преданного Родине бойца, который бы смог выполнять такие же особо важные задания Сталина, как накануне Be-ликой Отечественной войны.
Кроме Эйтингона были арестованы и другие сотрудники. Всех арестованных обвиняли в незаконном хранении ядов, а также в том, что они являются участниками «сионистского заговора», цель которого – захват власти и уничтожение высших руководителей государства, включая Сталина.

Эйтингон на аэродроме
Арест опытнейших и преданных стране офицеров секретной службы был только частью кампании, которая разворачивалась в стране. Кроме них ранее был арестован министр госбезопасности Абакумов, ряд партийных деятелей, а также врачи, работавшие в кремлёвских больницах и поликлиниках.
Для того, чтобы понять природу этих событий, необходимо прежде всего представить себе расстановку политических сил в стране. Сталин был стар и не всегда здоров. Заниматься делами государства в том же объёме, как раньше, ему было нелегко. Тем более, что значительную часть времени он проводил в работе над трудом «Экономические проблемы социализма в СССР» («без теории – нам смерть!»). Большая часть работы была переложена им теперь на помощников и членов ЦК. И здесь довольно быстро сложилось несколько группировок; самые мощные из них формировались вокруг Хрущёва, Маленкова и Берии. Партийная бюрократия и армейские генералы поддерживали Хрущёва.
На поведение самого Сталина и на деятельность каждой из этих группировок немалое влияние оказали три фактора. Первым из них было создание государства Израиль. В 1947 году Сталин оказывал немалую помощь евреям в воюющей Палестине, просившим СССР о поддержке и обещавшим Сталину создать «социалистический Израиль». Он даже позволил перебросить туда трофейные немецкие самолёты и направил в Израиль довольно большое количество офицеров-фронтовиков, включая выпускников советских военных академий, которые были евреями по национальности.
Однако проамериканская политика созданного еврейского государства не могла нравиться в Москве. Сталин считал себя обманутым. Поэтому все контакты видных советских деятелей-евреев с израильскими руководителями он воспринимал как личное оскорбление. С возрастом став ещё более подозрительным, он опасался сторонников сионистской идеи в собственном окружении. В известном смысле рождение Израиля даже привело к некоторому росту антисемитизма в СССР, особенно в армии.
Вторым фактором было усиление позиций тех партийных бюрократов и военных, которые считали, что за их заслуги они имеют право на значительно большие льготы и блага. Хрущёв постоянно обещал им, что, будь он во главе страны, он бы непременно осыпал бы их льготами и чинами, как из рога изобилия (и действительно сделал это в отношении своих сторонников, став диктатором). Особенно много и часто он заигрывал с военными. Сблизившись с маршалами и генералами, Хрущёв рассчитывал на их поддержку.
Наконец, третьим фактором было рождение в результате Второй мировой войны «социалистической системы»: несколько восточноевропейских стран стали сателлитами СССР. Теперь речь шла о разделе уже другого, значительно более жирного пирога, чем прежде: посольские посты, назначения в оккупационные контингенты, да и многие другие возможности становились средством поощрения за личную преданность. Именно в этот период создалась ситуация, когда высокопоставленный партийный бюрократ мог, воспользовавшись своим положением, обеспечить благополучие и своей семьи, и всех своих родственников. Так каждый из них и поступал – на протяжении всего оставшегося периода существования Советского Союза!