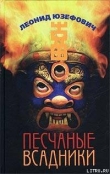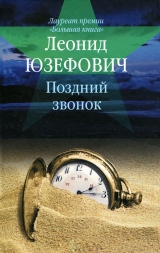
Текст книги "Поздний звонок"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 8
Тень
1
В соседнем номере наконец-то выключили радио. Свечников стал задремывать, когда в дверь постучали. Он сел на кровати, вдел ноги в ботинки и лишь потом сказал:
– Входите. Не заперто.
Вошла Майя Антоновна.
Вскоре на столе были разложены открытки, письма в длинных заграничных конвертах с едва заметными следами отлепленных марок, фотографии молодых людей в купальных костюмах. На открытках были красивые иностранные города, снятые преимущественно летом. Изредка попадались пейзажи.
– Наш кружок, – докладывала Майя Антоновна, – ведет переписку с семью зарубежными клубами, в основном, конечно, из социалистических стран. Этой осенью Центральный совет в Москве по всем показателям должен присвоить нам статус клуба.
Свечников делал вид, что ему это очень интересно.
– И о чем вы пишете?
– Рассказываем о нашем городе, о природе края, о культурных достижениях. Многие кружковцы собирают открытки, марки, переписка дает им возможность пополнять коллекцию. Вообще эсперанто сближает людей, в прошлом году я побывала в международном эсперантистском лагере – они ежегодно устраиваются в Крыму под эгидой ЦК ВЛКСМ, и моей соседке по бунгало один венгр на эсперанто признался в любви. Теперь она собирается за него замуж.
Нашлась и фотография этой счастливой пары. Они смирно стояли на фоне волейбольной сетки, девица прижимала к груди большого надувного крокодила.
– Это при том, – сказала Майя Антоновна, – что языком она тогда владела плохо. Сами видите.
– Что я вижу? – не понял Свечников.
– Что она плохо знает эсперанто. Хуже всех в лагере.
– Каким образом я могу понять это по фотографии?
– По крокодилу. У нее же крокодил.
– И что?
– Как? – изумилась Майя Антоновна. – Вы не знаете про зеленого крокодила?
– Не знаю.
– Это старинная эсперантистская традиция. Разве в ваше время ее не было?
– Нет.
– А что значит на эсперанто слово крокодили, знаете?
– Может, раньше и знал, но забыл. Столько лет прошло.
– Оно означает «глупец, дурачок». Заменгоф придумал его в шутку, и оно привилось. В каждом эсперантистском лагере обязательно есть надувной крокодил. На вечерней линейке его вручают тому, кто в этот день сделал больше всех ошибок в разговоре. Специальные люди ходят по лагерю и подслушивают, а потом выносят решение.
– Мудро, – оценил Свечников и встал. – Давайте прогуляемся по городу.
Уже на улице он спросил:
– Вы мне подарили брошюру, автор – Варанкин. Вам что-нибудь про него известно?
– К сожалению, ничего. Спрашивала Иду Лазаревну, она сказала, что не хочет о нем вспоминать.
– Почему?
– Не знаю. Вероятно, что-то личное. Я должна была найти к ней подход, но не смогла, – повинилась Майя Антоновна.
Впервые Свечников увидел его в Доме Трудолюбия, на занятии руководимого Варанкиным кружка для начинающих. Большую часть присутствующих составляли новички, поэтому начал он с Вавилонской башни. Гомаранисты поминали ее постоянно, левые – в символическом смысле, правые – в прямом. Последние утверждали, что земной Эдем, где волк возлежал рядом с ягненком, никуда не делся даже после того, как Адам и Ева были оттуда изгнаны, но исчез в момент вавилонской катастрофы, засыпанный обломками рухнувшего столпа. Разделение языков сделало невозможным его дальнейшее существование.
От причины Варанкин перешел к следствиям. Прозвучала длинная фраза на немецком.
«Чувствуете? – спросил он. – В этом языке ясно отпечаталась душа немца, музыканта и философа, но одновременно грубого солдата, тевтона. А вот речь британца…»
Последовало несколько слов на английском.
«За ними, – констатировал Варанкин, – вырисовывается сухая, чопорная фигура англичанина, коммерсанта и мореплавателя, который знает, что время – деньги, и стремится как можно короче выразить свою мысль. А теперь вслушаемся в божественные звуки испанского языка…»
Варанкин задумался, но единственное, что ему удалось выудить из памяти, было: «Буэнас диас, сеньорита».
В группе студентов кто-то прыснул. В ответ сказано было, что для анализа химического состава воды вовсе не нужно черпать ее ведрами, достаточно капли. В любой, самой незначительной реплике отражается душа языка, а в языке – душа народа. Эсперанто вобрал в себя черты всех основных языков Европы, каждый европеец найдет в нем что-то родное для себя: француз, итальянец, испанец – знакомые корни, немец – способ образования сложных понятий путем соединения слов, поляк – ударение на предпоследнем слоге, русский – свободный порядок слов в предложении. В то же время ни один из национальных языков никогда не станет международным из-за присущего всем нациям тщеславия.
«А латынь?» – робко спросила какая-то девушка.
Варанкин с удовольствием принялся объяснять ей, что да, латынь обладает кое-какими достоинствами нейтрального языка, но можно ли составить на ней такую, скажем, простейшую фразу: «Вынь из кармана носовой платок и вытри брюки?» Нельзя, потому что древние римляне брюк не носили, карманов у них не было, и носовыми платками они не пользовались. На латыни можно сказать только «вынь» и «вытри». А что? Чем?
К концу первого занятия прошли алфавит и записали десятка два слов. Забегая вперед, Варанкин упомянул, что суффикс – ин в эсперанто обозначает существо женского пола: бово – «бык», бовино – «корова», патро – «отец», патрино – «мать».
Вот тогда-то в заднем ряду и поднялся Даневич. Варанкин поначалу не узнал его из-за темных очков.
«А что, собственно, мешает, – спросил студент, – заменить слово патрино словом матро? Оно куда понятнее любому европейцу».
Этот невинный, казалось бы, вопрос привел Варанкина в ярость. «Вон отсюда!» – заорал он.
Студент пожал плечами и вышел, хлопнув дверью.
«То, что предлагает этот якобы наивный молодой человек, – в гробовой тишине заговорил Варанкин, – для нас, товарищи, абсолютно неприемлемо. Эсперанто – не машина, где вместо одной детали можно поставить другую, технически более рациональную. Это живой организм, в нем любой удаленный член можно заменить только протезом. А как бы ни был хорош протез…»
Позже выяснилось, что Даневич явился на занятие в расчете завербовать какого-нибудь легковерного новичка в организованную им университетскую группу идистов. Так называли себя сторонники языка идо. В 1907 году француз де Бофрон создал его на основе эсперанто, в котором, как он полагал, слишком много логики и мало живого чувства, не хватает исключений, одухотворяющих самый бедный естественный язык, ведь исключение из правила – не ошибка строителя, но с умыслом оставленная пустота в кирпичной кладке, вмурованный в нее глиняный кувшин, без чего стена остается глухой, не способной рождать эхо в ответ на человеческие голоса.
«Хам, смеющийся над наготой отца своего», – говорил Варанкин об этом французе, под отцом разумея Заменгофа. Сикорский настроен был более миролюбиво, но и для него само существование двух почти одинаковых международных языков казалось лишенным смысла и даже вредным. Тем не менее Свечников побывал в университете, где Даневич собирал свою команду, там ему объяснили, что «выращенный в колбе гомункулус» изначально был нежизнеспособен, де Бофрон взял костенеющий в бессилии «красивый труп», отбросил всё лишнее, а из остатков слепил младенца, готового к саморазвитию, ибо в нем живет «дух первозданного хаоса». Скоро младенец превратится в гиганта и одной ногой встанет на Урале, другой – на Пиренеях.
Свечников узнал, что слово идо на эсперанто означает «потомок, отпрыск», что идисты вместо патрино говорят матро, что в идо-языке имеются неправильные глаголы и нет обязательного, «как в казарме», согласования прилагательных с существительными в падежах и числах. Порядок словообразования тоже куда более свободный и не подчинен «палочной дисциплине», как в эсперанто. По мнению Даневича, эсперанто – промежуточная ступень в развитии международного языка, а идо – высшая, поскольку сотворен не из грубой персти национальных наречий, а из эсперанто, то есть из материи очищенной, как Ева создана не из глины, а из Адамова ребра.
Свечников остался глух к этим аргументам. Для него важен был вопрос массовости, а похвалиться многочисленностью идисты не могли, во всем мире их насчитывалось человек триста, в городе – четверо, да и те по своим политическим взглядам тяготели к анархизму.
Гомаранисты с пеной у рта доказывали, что с Даневичем никакие компромиссы невозможны, но Свечников, войдя в правление клуба, первое время проявлял терпимость в надежде избежать раскола и хотя бы на местном уровне сохранить единство эспер-движения в пределах допустимой фракционности. Лишь к весне 1920 года очевидно стало, что это утопия.
Даневич первым начал военные действия, вызвав на публичный диспут презираемых им заменгофцев. Так, всех валя в одну кучу, он именовал и эспер-пацифистов типа Сикорского, и группу Варанкина, и близких ей лантистов, и пролетарских эсперантистов. Диспут прошел в университете и закончился потасовкой, после чего отношения порваны были напрочь. Идистов исключили на общем собрании членов клуба, однако вскоре к ним переметнулось несколько интеллигентов. Даневич принял их с распростертыми объятиями. Оправдываясь, перебежчики ссылались на труды де Бофрона, будто бы сильно их впечатлившие, но на самом деле это был завуалированный под формальные расхождения протест против проводимой Свечниковым генеральной линии. Кому-то не хотелось участвовать в коллективном переводе на эсперанто материалов Конгресса 3-го Интернационала, других пугала перспектива по мобилизации угодить на Польский фронт в составе отряда особого назначения, который мечтал сформировать Свечников. После того как он вынес на обсуждение этот проект, лагерь Даневича пополнился еще тремя ренегатами.
Тогда же под его мятежное знамя встали трое городских непистов во главе с Петей Поповым.
Язык непо, детище московского математика Федора Чешихина, тоже был создан из эсперанто, но на основах, прямо противоположных принципам де Бофрона. На взгляд Чешихина, творению Заменгофа недоставало как раз логики, а хаоса там было в избытке. В отличие от идистов словарный запас эсперанто он сохранил в неприкосновенности, зато радикально переработал грамматику. Слова остались прежними, но отныне должны были жить по Чешихину, а не по Заменгофу. Отсюда и название языка, думал Свечников, пока не узнал, что непо на эсперанто значит «племянник». Этот язык был не прямым его потомком, как идо , а боковой ветвью по нисходящей линии.
Для Даневича доктор Заменгоф был скучный педант, усвоивший все пороки талмудистской науки, для Попова – неряшливый местечковый мечтатель без царя в голове. Трудно было вообразить, что идисты когда-нибудь объединятся с непистами, но тех и других роднило страстное желание расплеваться с общим прародителем. На этой платформе они в итоге и сошлись. Правда, не вполне ясно было, кто из них представляет собой правую оппозицию, а кто – левую. Разобраться в этом простом, казалось бы, вопросе Свечников не мог и мучился, не понимая, с кем следует бороться в первую очередь.
Чаша терпения переполнилась, когда Даневич сумел обольстить начальника отдела просвещения губисполкома. В результате он получил доступ к бывшей епархиальной типографии, напечатал сотню брошюр с тезисами идизма и пачку листовок с карикатурой на Заменгофа. Творец эсперанто четвертый год лежал в могиле, но эти ребята избрали его своей мишенью, хотя без него не было бы их самих. На листовках Ла Майстро изображался шарообразным китайским божком, которого через задний проход велосипедным насосом надувают жрецы-гомаранисты. Попов с Даневичем расклеивали эти бумажки в университете, брошюры отдавали в библиотеки, подбрасывали в училища, в школы 2-й ступени, добрались до сепараторного и даже до пушечного завода.
В конце июня Свечников не выдержал и направил в секретариат губкома письмо с требованием пресечь эту пропаганду как вредную для общепролетарского дела.
«Для рабочих многих стран, – писал он, – где царит диктатура буржуазии, эсперанто-клубы нередко являются единственно доступной легальной формой пролетарских организаций. За границами Совроссии эсперанто называют большевистским языком, чего нельзя сказать о т. н. языке идо или, тем более, непо, получившим распространение в узкой среде склонного к теоретическим чревовещаниям белоподкладочного студенчества. Не впадая в панику, следует тем не менее признать, что дезорганизующее воздействие, которое Даневич и Попов оказывают на рядовых эсперантистов, объективно ведет к расколу эспер-движения и льет воду на мельницу врагов мировой революции».
Список обвинений перетек на вторую страницу, но в заключение Свечников добавил еще одно: «Среди сторонников упомянутых языков широко распространены погромные настроения, выражающиеся в недовольстве якобы царящим в советских эсперантистских организациях еврейским засильем».
Последний довод в такого рода кляузах считался неотразимым.
Город, в который Свечников с боями вошел год назад, тянулся по левому берегу Камы. На этом отрезке она текла идеально прямо, словно ее прокопали по шнуру. Дома даже в центре были преимущественно деревянные, но стояли согласно плану, утвержденному еще Екатериной Великой и призванному превратить это богом забытое место в подобие Петербурга. Улицы шли или параллельно Каме, или перпендикулярно и пересекались под прямым углом, на равном расстоянии одна от другой. Образованные ими кварталы имели форму квадрата, лишь на угорах иногда растягиваясь до прямоугольника.
Улицы, перпендикулярные Каме, сразу за городскими заставами переходили в торговые тракты и носили имена тех географических пунктов, куда путник, избравший это направление, мог по ним добраться. Исключений не было.
Улицы, идущие вдоль реки, назывались по расположенным на них церквам: Вознесенская, Воскресенская, Покровская. Исключения были, поскольку церквей насчитывалось все-таки меньше, чем улиц.
В этой сетке координат, напоминающей белую решетку на морде у Глобуса, в одной плоскости чудесным образом сходились линии двух параллельных пространств – земного и духовного. В точках пересечения стояли водопроводные колонки, ныне бездействующие. Варанкин с семьей обитал в одном из таких мест, в необшитом бревенчатом доме на углу Покровской и Соликамской.
Дверь открыла его жена Мира, рыхлая еврейка с головой в бигуди. До идеала истинного гомарано женского пола ей было очень далеко, куда дальше, чем Иде Лазаревне с ее фигурой наяды и глазами цвета средиземноморской волны. Сознавая это, Мира постоянно увязывалась за мужем на заседания клуба, хотя овладеть эсперанто так и не сумела, а после конвоировала его до дому.
– Михаила Исаевича нет, – сообщила она.
– А когда будет?
– Давно должен быть, занятия у него кончаются в четыре. Можете подождать, если хотите.
В столовой пили чай с белым хлебом девочка лет пяти и мальчик постарше. Свечников узнал в нем того героя, который во вчерашней пантомиме сабелькой рубил проволочные клетки, чтобы заточенные в них нации слились в братском объятии.
Вторая комната была величиной с вагонное купе. В ней едва помещались шкафчик с книгами, стол и стул.
– Это кабинет Михаила Исаевича. Что почитать, вы, думаю, здесь найдете, – сказала Мира.
В ее голосе слышалась гордость за мужа, прочитавшего все эти тома, и за себя, имеющую в мужьях такого человека. Шкафчик вмещал сотни полторы книг, но для нее это была цифра почти астрономическая. Она, видимо, полагала, что знания, почерпнутые отсюда Варанкиным, являются их общим семейным достоянием.
Свечников попросил стакан воды и через пару минут получил то, что просил, не более того. Чаю ему не предложили. Вывернув шею, он начал изучать книги в шкафчике. Отдельную полку занимали издания в цветовой гамме от грязно-белого до защитного – бедные, жалкие, в бумажных обложках, но бахрома закладок над их верхними обрезами свидетельствовала, что они-то и составляют самую ценную для хозяина часть библиотеки. Книг в твердых переплетах здесь имелось всего три: «Фундаменто» Заменгофа, его же перевод Ветхого Завета на эсперанто и эсперанто-русский словарь.
Прочие корешки умалчивали о том, что скрыто под ними. Нельзя было узнать название книжки, не вытащив ее из ряда. Присмотревшись, Свечников достал одну, особенно раздувшуюся от закладок, и угадал с первого раза: Алферьев «12 уроков эсперанто-орфографии». Издана в 1914 году клубом «Амикаро», Санкт-Петербург, Шпалерная, 11.
Открыл, полистал – ничего интересного. Содержание полностью соответствовало заглавию, но он уже не мог отделаться от мысли, что пистолет, якобы найденный Идой Лазаревной во дворе Стефановского училища, передал ей Варанкин. Никого ближе, чем она, у него там не было.
Заодно следовало выяснить, что означает слово амикаро. Полез в словарь, там сообщалось: «Одно из краеугольных понятий гомаранизма, в буквальном переводе означает “дорогие друзья”. Принадлежит к группе слов, которые не могут быть адекватно переведены на национальные языки. Амикаро – дружество единомышленников, объединенных общей идеей, причем идеей, пропущенной через сердце. Союз между ними по цели и смыслу подобен союзу мужчины и женщины, любящих друг друга и воспитывающих общего ребенка».
Между страницами словаря заложено было несколько листочков. Наброски статей, конспекты, выписки, 10 советов начинающему оратору («Цитаты произносить, а не зачитывать. Ловить оппонента на уклонениях от тезиса. Во время произнесения речи не вертеть в руках посторонних предметов» и прочее). На следующем, густо исписанном и пестревшем помарками листе глаз выхватил его же собственную фамилию: Свечников. Он увидел ее прежде, чем успел прочесть всё остальное.
Это был черновик доноса в одно из мест, откуда могли повлиять на выборы председателя правления клуба. Варанкин доказывал, что эту процедуру нельзя пускать на самотек, так как могут выбрать Свечникова, а «т. Свечников скомпрометировал себя рядом поступков и заявлений, известных, к сожалению, лишь узкому кругу близких ему людей». А именно: он распространяет «беспочвенный миф» о происхождении эмблемы восставшего пролетариата из пятиконечной эсперантистской звезды, перекрашенной из зеленого в красный, тогда как оба эти символа совершенно независимо друг от друга возникли «на базе факта существования пяти континентов земного шара». Он по собственной инициативе, без согласования с другими членами правления, вступил в переписку с польскими эсперантистами, что в условиях войны с панской Польшей не может быть личной инициативой не только рядового члена клуба, но даже отдельно взятого члена правления. Настораживают и его настойчивые попытки завязать сношения с банком Фридмана и Эртла в Лондоне. Причиной этого является, вероятно, желание добыть средства для формирования эспер-отрядов особого назначения. Есть опасность, что такие отряды будут использованы Свечниковым как преданная ему вооруженная сила вроде «преторианской гвардии», с опорой на которую он попытается «устранить всех неугодных и установить режим своей личной власти в международном эспер-движении».
Второй мишенью избран был Сикорский. Его кандитатура также вызывала у Варанкина «ряд серьезнейших возражений». Указывалось, что в последнее время Сикорский «сошел с платформы левого эспер-пацифизма», сотрудничает с Краеведческим обществом и высказывает «взгляды, близкие к националистическим», что нашло отражение в его переводе на русский язык романа Печенега-Гайдовского «Рука Судьбы, или Смерть зеленым!». Сикорский разочаровался в эсперанто, однако скрывает это и надеется сохранить за собой должность председателя правления из «меркантильных соображений», нуждаясь в средствах на лечение сына. Имеются также основания подозревать его в махинациях с пайками и членскими взносами. Всё вышеперечисленное «делает недопустимым вторичное избрание т. Сикорского на эту ответственную должность».
Под этим листком оказался другой, отпечатанный на машинке, с крупным заголовком: «Основы гомаранизма». Возможно, и тут имелось что-то не предназначенное для посторонних глаз, но чтение пришлось отложить. Свечников едва успел сунуть листок в карман, заслышав шаги за дверью.
– Ума не приложу, где он! – пожаловалась Мира. – Я уже начинаю волноваться.
Причина тревоги была более чем понятна. Она беспокоилась, не завернул ли муж в гнездо разврата, в комнатку под лестницей в школе-коммуне «Муравейник». Еще вчера Свечников с чистым сердцем мог бы ее успокоить, сказав, что Варанкина туда больше не пускают, но сегодня такой уверенности не было.
Он вынул взятый у Иды Лазаревны пистолет, нарочно держа его за ствол, а не за рукоять, чтобы казалось не так страшно.
– Это пистолет Михаила Исаевича?
– Боже упаси! – отшатнулась Мира.
Объясняться с ней не имело смысла. Свечников решил больше не ждать, простился и вышел на Соликамскую.
В этой части города тесовые заборы перемежались заплотами из жердей, деревенские избы стояли бок о бок с мещанскими особняками на кирпичных полуэтажиках, обшитыми в руст или оштукатуренными под камень. В окнах полуподвалов ярко алела герань, куры с чернильными метками на перьях рылись в палисадниках.
Казароза тенью шла рядом.
«Где-то я его раньше видела», – шепнула она вчера, оглядываясь назад.
Кроме Вагина, которого можно было не принимать в расчет, там сидели Даневич, Попов и Осипов.