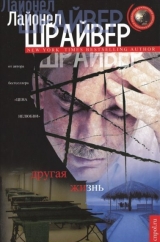
Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Лайонел Шрайвер
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Спустя два дня утром Шеп испытывал беспокойство, сравнимое по силе с тревогой во время их разговора о Пембе, представляя, как жена увидит свое отражение в зеркале, трепет, который охватывает в ситуации, когда приходится сказать человеку то, что ему будет неприятно услышать. Он боялся, что они могли что-то поменять в жене, или вообще заменить другим человеком, или добавить что-то, сделав неузнаваемой.
Нельзя сказать, что волнением совершенно невозможно было управлять, Он не знал, что это был за «образ», под воздействием чего принял черты, не имеющие ничего общего с лицами из списка «Семья», «Близкие друзья» и даже «Знакомые». Возможно, «образ» или его более поверхностный собрат – «личность» был тонким, обладающим снисходительностью, на которую дает право хорошее здоровье, имеющим шанс выбрать развлечения, например боулинг, чего больные не могут себе позволить. Обладая природной прочностью и выносливостью, Шеп даже редкую, незначительную простуду или грипп превращал в трагедию. Он проклинал мрачность цветов, резкий звук музыки и птичьей трескотни, тревожную бессмысленность прилагаемых усилий, когда ты болен, поскольку сам переживал те же ощущения, словно весь окружающий мир занедужил. Сила духа его покидала, аппетит пропадал, не было желания шутить. Таким образом, малейший вирус, словно лимон, выжатый в стакан молока, заставлял его, крепкого, оптимистичного, веселого человека, скисать и становиться мрачным и безразличным занудой. Это было уж слишком для долгого сохранения «образа». Следовало умножить все это на тысячу, и становилось понятным, почему он так волновался, представляя, кто или что лежит в отделении интенсивной терапии клиники «Каламбиа Пресвитериан».
Шеп, скорее всего, был не одинок в ненависти к больницам, когда приходится навещать того, кого любишь, борясь с желанием бежать без оглядки. И дело было не в запахах или подсознательном страхе заразиться. Болезнь всех уравнивала, вопрос только, на каком уровне. Одетые в одинаковые рубашки, пациенты лишались индивидуальности, которой каждый из них обладал за пределами этого здания – самодостаточности, умения приносить пользу, любопытства. Поглощая жидкость, пищу и лекарства, они испускали лишь зловонный запах и все как один были обузой. Призрачный свет ночников в палатах, отсутствующие взгляды, обращенные к экрану телевизора, гнетущее ощущение того, что все эти люди не одинаково важны, а одинаково безразличны.
Тем не менее Шеп старался думать лишь о том, что все они имели право на лечение, и работник прачечной, и дирижер филармонии. Он верил, что служащий прачечной, каким бы недалеким, угрюмым, инертным человеком он ни был, получает не менее квалифицированную медицинскую помощь, чем маэстро. Лет пятнадцать назад, когда Шеп подпиливал бензопилой ветки дерева в Шепсхед-Бэй и поранил себе шею, это походило на инцидент с пальцем Глинис, только рана была больше и расположена очень близко к артерии. Кровь лилась рекой. У него до сих пор остался шрам. Лучше всего ему запомнилось охватившее его тогда удивление. Постепенно оно сменилось состоянием шока. Он даже не мог развлекать медсестру, оказывающую ему первую помощь, веселыми историями. Человек, всегда гордившийся умением приносить пользу людям, теперь не сможет даже прикрепить кронштейн для жалюзи или установить стеклопакет на чердачное окно. Кто-то, совершенно ему незнакомый, прикладывал к ране чистое полотенце, чьи-то руки приподнимали его и перекладывали на носилки. В голове вертелись мысли о том, что будет вполне объяснимо, если в приемном отделении больницы его спросят не только о том, принимает ли он какие-то лекарства и нет ли у него аллергии на пенициллин, но и высок ли его IQ и может ли он построить десятиэтажный дом; сколькими языками он владеет, когда последний раз делал что-то полезное; хороший ли он человек. И все это вместо того, чтобы как можно скорее остановить кровотечение, даже если вы едва произносите каждое слово.
Из-под простыни тянулось множество трубок, а Глинис, казалось, занимала на кровати место не больше ребенка. Ее тело напоминало куль, забракованный и отброшенный в сторону. По словам доктора Хартнеса, прошлой ночью они отказались от инъекций морфина и убрали трубку из носа. Хирург также предупредил, что, когда она проснется, сознание ее будет чуть рассеянным. Она казалась вялой, полусонной, лицо было мертвенно-бледным. С первого взгляда он даже не смог поверить, что этой женщине пятьдесят.
Шеп аккуратно переставил стул, стараясь не царапать ножками пол. Присел на краешек. По сравнению с суетностью Бродвея этот мир казался болотом, где ожидание радости намного приятнее, чем сам факт, – глоток ананасового сока, бланманже с клубничным соусом во вторник, посетитель с букетом цветов, чей сладкий аромат проникает в желудок и заставляет его бунтовать. Мир, похожий на нирвану, позволяющий надеяться лишь на ослабление боли, а не на полное избавление от нее. Он панически боялся здесь оказаться, словно не был сейчас именно здесь. Ему так хотелось разрубить эти трубки могучим мечом, словно цепи, удерживающие возлюбленную в темном подземелье, и, подхватив ее на руки, унести в бурный мир света, такси, хот-догов, наркоманов и ростовщиков-доминиканцев, поставить голыми ногами на асфальт, чтобы она вновь почувствовала себя живым человеком.
Он взял свободную от капельницы руку Глинис и попытался согреть ее своими ладонями, голова ее перекатилась по подушке, и она повернулась к нему лицом. Веки дрогнули. Она медленно облизнула губы, с трудом сглотнула.
– Шепард.
Его имя, произнесенное гортанным голосом, прозвучало с мурлыкающей нежностью, которая его всегда возбуждала, даже если она и не ставила такой цели. Теперь ее глаза были широко распахнуты, и он узнал жену.
Это была она, Глинис, хотя и находилась не совсем здесь. Она отправилась в далекое путешествие, из которого вряд ли вернется.
– Как ты себя чувствуешь?
– Какая-то тяжесть… но и легкость одновременно.
Она говорила, словно была пьяна, и каждое движение языка давалось с трудом. Ему так хотелось напоить ее, но это было запрещено. Ничего не должно попасть в кишечник, пока не восстановятся его функции.
– Удивительно. – Кажется, она произнесла именно это слово, подняв глаза к потолку. – Просто поразительно.
Конечно, она не могла оглядеть палату, как это мог сделать он.
– Старайся много не разговаривать.
– Сны… Такие реальные. Такие длинные и запутанные. Что-то о серебряной тиаре. Она была похищена, и ты помог мне отомстить…
– Ш-ш-ш. Позже расскажешь. – Потом она, скорее всего, и не вспомнит. – Ты знаешь, где находишься? Помнишь, что произошло и почему ты здесь?
Глинис сделала глубокий вдох и резко выдохнула. Матрас прогнулся сильнее.
– Долго не могла вспомнить. – Голос стал резким, никакого мяуканья. – Было так хорошо. Словно время повернулось вспять. Но память вернулась. Я даже не предполагала, что можно забыть, что у тебя рак. Можно, и это очень приятно. Но когда ты все вспоминаешь, это ужасно. Тебе еще раз приходится пережить весь кошмар.
– И совсем одной, во второй раз, – сказал он. – Тебе не надо больше говорить с врачом наедине, Гну. Я всегда буду рядом.
– Это не имеет значения. Все равно я одна.
– Нет, ты не одна. – А ведь она была права.
– Операция. Я все понимаю, не беспокойся. Это было единственным утешением, когда я все вспомнила. – Она опять с трудом сглотнула. – И помню, что они все там выскребли.
Не все, не до последнего кусочка, чтобы осталось лишь то, с чем можно справиться уколами. К счастью, она была более вменяема, чем он ожидал, только немного вялая, а ведь он обещал врачу, что сам все ей скажет. Несмотря на то что врач должен поговорить с ней утром. Шеп должен сообщить ей мягко – какое простое наречие, – значит, он должен сделать это сейчас.
– Гну, операция прошла очень удачно.
– Состояние у тебя стабильное, ты быстро восстанавливаешься. Никаких осложнений. Вернее, только одно. Дело в том, что они нашли кое-что. – Он решил перейти на фразы, ставшие привычными после долгих телефонных разговоров. Менее оптимистичный прогноз.
– Никаких катетеров, – только и произнесла она, когда он закончил свою речь. – Слава богу. Мне эта идея не нравилась. Я никогда не говорила об этом Флике, но, как только подумаю, что у меня в животе пластиковая трубка, сразу охватывала дрожь. Чувствуешь себя наполовину человеком, а наполовину… пакетиком сока.
Он заморгал. Она его не расслышала.
– Ты поняла, что я сказал?
– Я тебя поняла, – сказала Глинис с раздражением. – Разные клетки, никакого катетера, химия. В любом случае мне будут делать химию.
Она совершенно отказывалась воспринимать информацию. Может, дело в морфине.
Шеп отпросился с работы на все утро и стал ждать хирурга. Хартнес опаздывал, и Шеп старался не злиться на человека, который так много сделал для его жены. Тем не менее еще два часа ожидания будут стоить ему двойной нагрузки на работе днем. Он не может себе позволить отсутствовать целый день. Ему было тяжело поддерживать разговор, и, когда Глинис задремала, пошел пить отвратительный кофе, которого совсем не хотелось. Наконец появился хирург, и Шеп стал свидетелем похожего разговора, но уже наблюдал за всем со стороны. Вновь те же двухфазные клетки, вновь полное отсутствие реакции со стороны Глинис – ни разочарования на лице, ни вопросов, ни слез.
Доктора Хартнеса вызывали по громкой связи.
– Не думайте, что мы готовы сдаться. Будете принимать алимту. Это очень сильный препарат. Мы сделаем все, что в наших силах. Назначим вам интенсивное лечение.
Интенсивным принято называть развитие опухоли, и употребление того же прилагательного для определения характера направленного против нее же действия лишь еще раз подчеркнуло тщетность всех мер, как бессмысленность борьбы с погодой. Со снежной бурей или со штормом.
Глава 8
Глотая таблетки тайленола, словно это было драже «Тик-так», Джексон все больше убеждался, что антибиотики не действуют. Сейчас было не время концентрироваться на его скудных познаниях в медицине и фармакологии, и он был этому рад. Шла вторая неделя пребывания Глинис в клинике; ее перевели из отделения интенсивной терапии в одноместную палату, и она смогла принимать посетителей.
Он голову сломал, размышляя над тем, что ей принести. Шеп сказал, что кишечник ее заработал и она может есть небольшими порциями жидкую пищу. И все же что принести человеку, недавно перенесшему сложнейшую операцию? Ванильный пудинг? Цветы могли стать переносчиком инфекции, поэтому были запрещены. Кэрол недавно вернулась и принесла симпатичную шерстяную накидку на молнии, насыщенного красного цвета, которую Глинис могла надевать и лежа в кровати, – изумительный подарок, к которому он теперь испытывал зависть. В результате он остановился на кварте свежевыжатого сока маракуйи. Если это было и не так, то казалось полезным для здоровья, и был рад тому, что не придется наведываться в Парк-Слоуп; все, что ему надо, можно купить в отделе деликатесов на Седьмой авеню. Черт, невозможно представить, сколько еще раз ему придется пережить этот кошмар с выбором презента. Внутренний голос подсказывал, что со временем еда, книги, одежда или музыкальные диски будут приносить ей все меньше радости.
Найти палату Глинис оказалось несложно; у дверей весело болтали несколько женщин, словно у Глинис намечался девичник. Не самое удачное время. Он остановился, чтобы собраться, поправил брюки, не вынимая рук из карманов. Это были самые свободные слаксы в его гардеробе, которые он носил, пока не похудел на десять фунтов. Теперь он научился ходить, натягивая руками в карманах ткань так, чтобы она не касалась тела.
Он узнал одну из дам, болтавшую с двумя другими женщинами. Ей определенно было за семьдесят, но изобилующий аксессуарами яркий наряд кричал: «Возможно, я и не молодею, но еще не утратила чувство собственного достоинства»; это была Хетти, ее мать. Они встречались лишь однажды, за ужином у Шепа, когда Хетти была весела и жизнерадостна. Больше всего во время их знакомства в Элмсфорде его поразило, что она стремилась всегда быть в центре внимания. Она вела активную общественную жизнь в родном Тусоне, посещая все мероприятия и лекции, начиная от занятий по реставрации антиквариата, заканчивая курсами йоги для тех, кому за шестьдесят пять. Она напоминала его бывших одноклассников, которые каждый день после уроков посещали все «школьные кружки»; Хетти тоже могла бы ходить на репетиции школьного ансамбля и выставлять свою кандидатуру на пост вице-президента школьного клуба дебатов. Он никак не мог понять, была ли ее чрезмерная активность связана с желанием каждый день жить полной жизнью, или, напротив, это был побег от себя. Непреодолимое стремление отвлечься от того, что известно только ей одной, и, как следствие, окончательная неспособность добиться всеобщего уважения, которого так не хватало. Тем не менее она была из тех дам, которые и на смертном одре будут лежать с учебником хинди, ни на минуту не задумываясь о том, что им не суждено попасть в Дели и спросить у местного жителя: «Где находится вокзал?» Несмотря на то что прошло много времени, он хорошо помнил тот вечер, поскольку Глинис тогда здорово разозлилась. Хетти позволила себе сделать, с точки зрения Джексона, вполне невинное замечание, которое было воспринято Глинис как унизительное сравнение ее искусства работы по металлу с плетением корзин. Глинис встала и ледяным тоном сообщила, что у нее, к счастью, есть диплом, что ее работы выставлены среди экспонатов двух музеев, и перечислила галереи, где представлены ее творения, – в центре Нью-Йорка, между прочим, не в каком-нибудь захолустье на окраине. Вспоминать об этом ему было неприятно. Глинис взрослая женщина и вполне могла сдержаться и не обратить внимания на пустые замечания. Когда она перечисляла названия всех галерей, походила на маленькую капризную девочку.
Сейчас он явственно понимал, что излишняя сентиментальность Хетти Пайк с годами только росла. Следует заметить, что, откровенно говоря, она была весьма ординарной особой. Джексон всегда удивлялся тому, как мелкие недостатки или странности вполне обычного, ничем не выдающегося человека могут казаться вопиющими, если их родители не знаменитости, а простые люди. Глинис и ее мать были полными противоположностями. Глинис была замкнутой, придирчивой, мрачной; Хетти же человеком солнечным, эмоциональным, а не обеспокоенной тем, что ваза, сделанная в гончарной мастерской, вышла бесформенной и протекала. Они даже не имели внешнего сходства – Хетти невысокого роста, круглолицая, с пышными пепельными волосами, тогда как Глинис угловатая, вытянутая, похожая на своего отца, сухопарого рослого мужчину. Глинис его боготворила. И если ей нечего было сказать, она упрекала мать, что именно он, а не Хетти повредил свое лошадиное лицо в горах лет двадцать назад.
Даже если не принимать во внимания все эти различия, Глинис сдержанно воспринимала тот факт, что они с матерью совершенно разные люди, но то, что ей никогда не удавалось заслужить материнское одобрение, приводило ее в бешенство. Даже в более зрелом возрасте она все еще что-то требовала от старухи, и он едва сдержался за обедом, чтобы не толкнуть ее и не прошептать на ухо просьбу оставить мать в покое. Хетти была обыкновенной, несколько ограниченной женщиной, вполне возможно считавшей себя, пусть и опрометчиво, хорошей матерью. И что? Уже поздно требовать большего. И то, что требовала Глинис – а порой это были такие абстрактные вещи, как одобрение, понимание и признание, – не каждый родитель способен дать своему ребенку.
В конце концов, мама и папа самого Джексона были очень скромными людьми, которые много лет держали в гараже магазинчик по продаже подержанной мебели. В понимании Джексона ответственность являлась проявлением мужественности и силы, и именно ее он взял на себя десять дней назад. Не стоит ждать, что кто-то придет и даст тебе то, что ты хочешь, – надо самому идти и брать. Это и есть демонстрация внутренней силы человека, и именно это рождает в нем самоуважение.
– Джексон Бурдина! – Хетти помахала ему, поставила на пол кастрюлю, которую держала в руках, и сжала в ладонях руку Джексона. Хорошая память на имена присуща всем учителям. – Как приятно тебя видеть, но мне жаль, что мы встретились по такому поводу. У тебя тоже есть дети, думаю, ты понимаешь… – На глазах ее выступили слезы. – Для матери нет ничего страшнее.
– Да, печально, – произнес он, мечтая, чтобы она отпустила его руку.
Вместо этого она потянула его к женщинам, стоявшим в сторонке. По-видимому, таким образом в их учительском кругу было принято знакомиться с новыми людьми.
– Ты, наверное, не встречался с другими моими дочерями. Руби? Деб? Поздоровайтесь с Джексоном. Он и его жена – очень близкие друзья вашей сестры.
Он пожал им руки, заметив про себя, как поразительно Руби, средняя сестра, похожа на Глинис и при этом выглядит фантастически несимпатичной. Глинис была стройной, а Руби костлявой, какой-то неуклюжей. Черты лица не казались такими утонченными, как у младшей сестры, можно сказать, природа не была к ней столь щедра – у Глинис, по крайней мере, была грудь. Глинис всегда одевалась просто, но элегантно; на Руби были линялые черные джинсы и серая толстовка, что тоже было просто, но пошло. Однако больше всего их отличали манеры. Глинис была присуща некоторая застенчивость и отрешенность, что придавало образу царственную загадочность. Руби тоже старалась дистанцироваться от окружающих, но это выглядело грубо; она постоянно поглядывала на часы и расхаживала взад-вперед, словно вся эта шумиха вокруг рака сестры отвлекала ее от чрезвычайно важных дел. Не успели они сказать друг другу дежурную фразу о том, что рады знакомству, как у нее зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на экран, она нахмурилась:
– Прошу прощения, мне надо ответить.
В клинике не разрешалось пользоваться мобильным телефоном во избежание сбоя в работе оборудования. (Полная туфта, как удалось вычитать в Интернете Джексону, когда дело касалось Флики. Они просто хотят собрать деньги за пользование стационарными телефонами в палатах. Эта политика с «людьми – по-мышиному, с мышами – по-человечески» еще одна проблема, которую стоило бы изменить.) Поэтому Руби побежала на улицу, чтобы спокойно поговорить, оставив его наедине с Деб, безобидной толстушкой с добродушным лицом. Облегающая кофта с высоким воротом, цвета апельсина и невыразительная темно-синяя юбка подобающей женщине ее возраста длины совсем не красили Деб.
– Я молюсь за Глинис с той самой минуты, как узнала о ее горе, – сказала она. – Все прихожане в Тусоне молятся за нее. Знаешь, у нас уже были случаи, доказано, что это помогает.
Конечно, не честно считать всех верующих людей автоматами. Но почему он должен быть честным?
– Мы обсуждали, как нам быть, Джексон, – сказала Хетти, кладя руку ему на плечо. – Глинис очень устала, и мы не хотим ее утомлять. Думаю, нам лучше заходить в палату по одному и не задерживаться надолго. Сейчас у нее Шеп, и, если у тебя есть время, Джексон, мы решили, что следующей пойдет Деб, затем Руби, а потом я передам ей ее любимое печенье. – С такой методичностью она, вероятно, выстраивала класс в шеренгу у фонтана.
Шеп выскользнул из палаты, оглядел присутствующих и посмотрел на Джексона, выпучив глаза. Нет ничего хуже, чем увидеть в такой момент почти незнакомых членов семьи дорогого тебе человека, поэтому он не сводил глаз со старого друга, испытывая благодарность и облегчение, словно внезапно за поворотом увидел родной дом.
– Она ваша, – сказал Шеп, обращаясь к Деб и Хетти, увлекая Джексона в глубь коридора. – Старик, как это было непросто, – бормотал он. – Уговорить Глинис встретиться с родными, раз уж они прилетели из самой Аризоны. Они были на волоске от того, чтобы вернуться в Элмсфорд. Она дерьмово себя чувствует и совершенно не желает думать о том, что сказать и как себя вести, чтобы не сделать людям больно. Все эти посещения… Я уверен, она будет рада тебя видеть. Но со стороны Глинис это будет скорее милость. Ее все достало.
– Ну а как бы она себя чувствовала, если бы к ней никто не пришел?
Шеп улыбнулся:
– Дерьмово.
– Вот зараза!
– Ты не знаешь таких слов, как больной человек? – спросил Шеп. – Оно больше подходит для Глинис.
– Если бы с ней не было так сложно, ты бы еще больше нервничал.
– Да. Но я все равно нервничаю.
Когда они вернулись к палате, дверь была приоткрыта, позволяя стать свидетелями происходящего. Даже вернувшаяся Руби и ее мать лишь делали вид, что заняты своим разговором. Никто не хотел, чтобы его заподозрили в подслушивании.
– В голове не укладывается, что ты решила воспользоваться тем, что я еле живая после сложной операции, чтобы поиграть в миссионера. – Глинис говорила чуть медленнее из-за инъекций морфина, но Джексон был рад, что в голосе звучали знакомые нотки. – Лежачего не бьют.
– А что, если я права? – умоляющим голосом спросила Деб. – Это же логично, Глин. Если ты права и нас всех ждет черная пустота, не имеет значение, во что ты веришь. Но если я права – если Иисус прав, – ты должна поверить в Него, как в единственного спасителя души. Надо защитить себя, ведь верно? На всякий случай. Это же простой расчет, понимаешь? Твой путь ведет в никуда, в моем случае душа получает возможность обрести вечную жизнь. Это же бесплатная лотерея, почему бы не попробовать? Все учителя в школе считали тебя очень умной.
– Мой путь позволяет сохранить гордость, – прохрипела Глинис. – И я не собираюсь благодарить тебя за то, что ты
проделала этот долгий путь до Нью-Йорка, чтобы спасти мою душу. Я не хочу в рай. Я хочу домой.
– Никогда не рано начать готовиться к встрече с Богом и впустить Иисуса в сердце.
– Сейчас в каждой семье есть такой проповедник, – прошептал Шеп. – Обычно это какая-нибудь старая карга.
– В нашем случае не очень старая, – пробормотал в ответ Джексон.
– Наверняка она сидит на диете Аткинса. Такие люди неудачники по жизни. Ничего не смогли добиться, не получилось сделать карьеру. Домохозяйка, пятеро детей. Все эти христианские штучки привносят в ее жизнь смысл.
– Обманчивое ощущение, – констатировал Джексон.
– Не важно, главное – это работает:. Если у тебя есть две сестры, с которыми ты не можешь бороться по их правилам, надо поменять правила. Бинго! У нее есть преимущество больного человека, поэтому она может унизить тех людей, которые унижали ее всю жизнь.
– Вы, стервятники, носитесь по всей стране и набрасываетесь на людей, которые слишком слабы, чтобы оказать вам сопротивление, – говорила тем временем Глинис. – Вы охотники за головами. Даже у Нэнси хватило ума не приходить сюда, чтобы продать мне «Амвэй».
– Не упоминай имя Господа всуе, – сказала Деб. – Многие люди, которые не верят в Бога, как и ты, все же постоянно вспоминают о Нем, говоря: «Господи, Боже мой, Господи всемогущий» и «Всемилостивый Боже». Наш священник посвятил этому целую проповедь. Он сказал, что мы, сами того не ведая, просим Господа защитить нас. Мы все знаем, что милосердный Боже рядом с нами.
– Деб, будь я проклята, если его «милосердие» было со мной последние три месяца.
– Видишь, опять: «Будь я проклята». Ты и будешь, если не впустишь Бога в свое сердце. Кто знает, может, эта болезнь послана тебе свыше, чтобы ты пришла к Нему, прозрела.
– Иными словами, это наказание за то, что я жила как язычница? Уверена, ты не станешь утверждать, что ни у кого из твоих верующих друзей не было рака.
– …По крайней мере, ты постройнела, – неожиданно задумчиво произнесла Деб.
– Да, это точно. Раковая диета. В книгах этого не пишут, но, если хочешь пойти по моим стопам, начинай жевать изоляцию.
– Шеп говорил, что это как-то связано с асбестом.
– Скорее всего, эта гадость попала в организм в художественном училище. Будь моя воля, я бы «наградила» каждого поставщика такой премией, как мезотелиома. Из них стоит вытрясти немного денег.
– Ты должна гнать от себя такие жестокие мысли.
– А других у меня нет.
– Я подозревала нечто подобное, – осторожно сказала Деб. – Это душевная болезнь.
– Какие слова! А ты когда-нибудь слышала о «бездушной болезни»? – Смех перешел в надрывный кашель. – Подумай над тем, что болезнь всегда бездушна.
– Я считала, что в таком положении люди становятся добрее, милосерднее и терпимее. – В голосе Деб слышалось раздражение.
– Во мне «такое положение» вызывает лишь горечь и ярость. Когда у тебя будет рак, веди себя как считаешь нужным.
– Но сейчас у тебя есть возможность увидеть, как твоя семья и друзья беспокоятся о тебе. Шеп рассказывал, как непросто ему составить график посещений, поскольку очень много людей хотят тебя навестить. Ты должна чувствовать себя обласканной милостью.
– Я чувствую себя проклятой. Потому что вынуждена выслушивать эти проповеди от таких, как ты, кто совершенно не понимает, что говорит.
– Можешь язвить сколько угодно! – Голос Деб неожиданно стал звучать хрипло.
– Не сомневайся, так и поступлю, – парировала Глинис.
– Однако хочу, чтобы ты знала, что я всегда восхищалась.. . – сипение, – и равнялась на тебя. Ты красивая, талантливая и… – глухой сип, – ты любима, вырастила… двоих… двоих прекрасных детей. Никогда не забывай… – Сипение и вновь сипение и хрипы. – Я всегда гордилась, что ты была моей сестрой!
Глинис вздрогнула и подалась вперед:
– Черт тебя побери, ты в каком времени употребляешь глагол! – Казалось, она готова запустить в сестру первым попавшимся под руку предметом.
Деб в слезах вылетела из палаты, держа возле рта ингалятор.
– Похоже на петушиные бои, – сказала Руби, наблюдая, как Хетти обнимает и успокаивает младшую дочь. – Победила курица-бентамка из палаты 833 и теперь принимает всех жаждущих ее видеть. Пожелайте мне удачи.
– Не задерживайся надолго, – предупредил Шеп.
– Об этом можешь не беспокоиться, приятель, – пообещала Руби. – Я попытаюсь смыться до того, как она выдерет мне все перья из хвоста.
Возможно, Руби решила скрасить ожидавшим в коридоре время и оставила дверь широко открытой. Шеп заранее предупредил всех, чтобы они не целовали Глинис, поэтому Руби лишь коснулась левого колена сестры, придвинула стул и села, положив длинные тощие ноги на железный обод под кроватью.
– Тебе обязательно было доводить Деб? Она ведь такая чувствительная.
– У меня хватило сил лишь для легкой разминки. Кроме того, она сама виновата, просто возмутительно воспользоваться ситуацией для проповеди.
– Она хочет, чтобы тебе было комфортно. Вера – это единственное, что у нее есть.
– Ей совершенно запудрили мозги. Такое впечатление, что ко мне наведался один из этих кретинов-зомби, чтобы превратить меня в живого мертвеца.
Руби покосилась на дверь:
– Она может тебя услышать.
– Плевать.
– Но она правда верит во все то, о чем говорит. То, что мы другие, не значит, что она лицемерит.
– Ненавижу искренность.
– Отлично. Тогда постараюсь быть максимально фальшивой.
– Превосходно.
– Итак, как дела? – спросила Руби. Беспокойство, подчеркнутое сострадание обычно звучит в вопросах посетителей пациентов в больнице и, как правило, вызывает определенную ответную реакцию.
Глинис вздохнула:
– Что я могу сказать? У меня болит все тело. Ночами не могу заснуть. Пять минут лежания в темноте длятся как вся палеозойская эра. Потом целый день я как в тумане. А еще приходится поддерживать разговор с такими, как ты, хотя о чем нам говорить? О том, что произошло? Телевизор здесь крошечный, да и показывает только несколько каналов, по которым постоянно идут разные шоу. Днем из-за солнечного света картинка на экране вообще расплывается, и я не могу посмотреть даже шоу «Цена удачи». Постоянные капельницы сводят меня с ума. Я беспрерывно нервничаю, что пластырь отвалится и игла выскочит из вены. Приучаю себя не смотреть на руку.
Джексон отлично ее понимал, поскольку сам был в таком же положении, когда стараешься не смотреть, но каждые пять минут тщательно все проверяешь.
– Еда тошнотворная, – продолжала Глинис, сделав глоток воды. – Стоит мне поесть, случается запор, и мне в задницу суют шланг. Если рядом нет Шепарда, чтобы помочь мне, медсестру в половине случаев не дождаться. Приходится самой справляться с судном. Иногда я писаюсь прямо в постель. Тебе интересно все это слушать?
– Конечно.
– Лгунья. Все спрашивают меня: «Как дела?» И я отвечаю, что хорошо. И все довольны.
– Когда тебя выпишут?
Она наверняка не первый раз отвечала на этот вопрос.
– Приблизительно через неделю, – заученно ответила она.
– Мама и Деб останутся, а мне придется улететь до того, как ты вернешься домой.
– Ты только прилетела и уже с ходу сообщаешь мне, что должна вернуться. – В голосе слышалась обида, хоть Глинис и говорила, что не хочет видеть свою семью. Это был хороший знак. Несмотря на болезнь, она по-прежнему оставалась самой собой.
– Ничего не с ходу. В конце недели начинается ярмарка, у нас будет стенд. Кто-то должен находиться там, и еще надо следить за магазином.
– Значит, наплевать, что у родной сестры рак, главное – заработать побольше денег.
– Глинис. Жизнь не стоит на месте.
– Не для всех.
– Да, Глинис, не для всех, – согласилась Руби. – Ив этом нет моей вины.
– Я думала, твои дела в галерее идут блестяще. Гребешь деньги лопатой.
– Все нормально, – сдержанно ответила Руби.
– Конечно, многие мастера сочли бы это удачным стечением обстоятельств – сестра, вступившая в сговор с врагом. Тем хуже для меня.
На половине фразы Шеп не выдержал и застонал.
– Только не это. Руби потерла висок.
– У тебя недостаточно работ для персональной выставки.
– Потому что я очень ленивая. Целыми днями слоняюсь по своему красивому дому и ем конфеты.
– Потому что ты слишком долго и мучительно обдумываешь каждый шаг, Глинис. Я никогда не понимала почему.
– И не поймешь.
– Но жизнь слишком коротка, не стоит тратить ее на всякие выкрутасы. Может, сейчас ты поймешь это. Все авторы, чьи работы я выставляю, просто работают. Работают, а не рожают каждую вещь в муках.
– А я такая. Я рожаю каждое свое произведение. Не ты ли твердила мне, каким гламурным стал Тусон, а твой захудалый зал в торговом центре превратился в уважаемое заведение и в крупнейший художественный центр? Я предложила выставить всего одну-две работы, но ты сказала: «Нет!»
– Мы уже все обсудили! Кроме того, мы взяли название «Ближе к истокам» и специализируемся на искусстве пуэбло и навахо, иногда выставляем творения разных племен, обитавших на юго-западе и находившихся под влиянием их культуры. Твои работы выделялись бы, как белые вороны в черной стае. Они слишком – строгие, слишком – модернистские.








