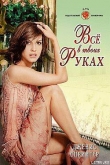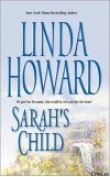Текст книги "Поймать зайца"
Автор книги: Лана Басташич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
2.
Я вошла в квартиру с пустыми руками. Нужно было купить новые занавески. И еще что-то, что я забыла. У двери меня ждали его серые тапки. У одной из них начала отрываться подошва. Тапка открывала и закрывала рот на каждом шагу, как будто собирался что-то сказать, но никак не могла вспомнить что. Это был тридцать пятый день рождения Майкла, в тот год я подарила ему эти тапки и какую-то пластинку, не могу вспомнить какую. Мы и торт купили – «Красный бархат» – и шутили, что уроним его по пути домой. Мы остановились перед аптекой, известной только тем, что больше ста лет назад один литературный герой купил в ней мыло.
«А может, нам пожениться?» – спросил меня Майкл.
«Не смеши меня», – ответила я. Открыла коробку и сунула пальцы в холодное губчатое тело красного торта. Он был вкусным.
«С днем рождения», – сказала я ему. Тем дело и кончилось, идея брака была отвергнута перед той аптекой как неэффективная таблетка. Через несколько лет мама перестала спрашивать. Она приезжала к нам только один раз. Спала со мной на большой кровати, а Майкл ютился на диване. Просыпалась мама в семь утра и начинала греметь на кухне. Я знала, что она думала: что я срамлю ее перед всем белым светом. Вся Ирландия узнает, что мать не научила меня убирать в доме. Но я знала и что думал Майкл: он смотрел на огромное тело матери и спрашивал себя, передается ли это генетически. Она всегда была полной, но после папиной смерти ей удалось совершенно изменить свой вид к худшему. Я думала о ее светлых волосах, которые падали мне на лицо, когда она по вечерам меня убаюкивала. Сейчас от волос осталось всего несколько тонких прядей вдоль толстых щек, которые переходили в шею. Помню, как Майкл мне сказал: «У твоей мамы такие красивые глаза». Только это и осталось, что он смог похвалить. А я его за это возненавидела. Мне хотелось обнять и защитить свою большую мать от его взгляда.
Когда она отбыла домой, мне полегчало. Я купила ей огромную кружку с изображением клевера, хотя мать никогда не пила пиво, и пепельницу с ирландским флагом, хотя она никогда не была курильщицей. Она села в самолет и вернулась в Боснию. Через некоторое время она перестала мне звонить. Мы с Майклом вернулись в свою нормальность. Он – писать коды, я – переводить. Больше никто не вспоминал ни брак, ни мою мать.
Наш первый секс продолжался около пяти минут. Майкл был пьян, я устала, а его пес скулил в коридоре. На улице горланили разнузданные дублинцы. Майкл заснул в тот же момент, как стянул презерватив. Я пошла в ванную. Я впервые была в его квартире. Позже она станет нашей квартирой, то есть и моей, хотя, в сущности, она никогда не была ни тем, ни другим, а принадлежала коренастой ирландке лет шестидесяти с небольшим, которая с Майклом флиртовала, а меня игнорировала. Но в ту ночь после пяти минут секса это была только его квартира. Мне неизвестны ее углы, я ударяюсь большим пальцем ноги. В ванной я открыла зеркальный шкафчик и нашла столько анальгетиков, что хватило бы усыпить лошадь. Майкловы мигрени. С ними я познакомлюсь позже. Врач велит ему меньше смотреть в компьютер. Мы разразимся хохотом. Но в тот вечер это была просто гора незнакомых таблеток в ванной какого-то типа, с которым я познакомилась прошлой ночью. Я переспала с наркоманом, подумала я. В этом я ему признаюсь примерно после четвертой или пятой встречи. Ему это покажется самым смешным на свете.
Сколько я просидела в той ванной? К одной из плиток была прилеплена силиконовая уточка. В сливном отверстие полно рыжих волос. Мне было больно между ног. Я взяла у него две таблетки и воспользовалась его полотенцем. Думала, ночь будет лучше, все к тому шло. Тип умен. Начитан. Остроумен. Слегка чокнутый. Любит Коэна. А потом все было готово за пять минут, после чего умный тип заснул. Я сидела в чужой ванной, не зная, что однажды она станет моей, и думала обо всех дублинцах, с которыми я спала с тех пор, как сюда переселилась. В моей голове промелькнули все их презервативы. Небольшой бассейн зря растраченных ирландских генов. Как я с ними покончила? Так же, как с этим, подумала я. Выйду из ванной и вызову такси. Номер телефона я ему не давала, не станет мне надоедать.
На стиральной машине – его грязные вещи. Я вытащила из кучи футболку с Дартом Вейдером и приложила к себе. Она была огромной и воняла гашишем. Вернула ее в груду и вышла из ванной, полная решимости одеться и вызвать такси. Нашла только джинсы и один носок. Его пес внимательно наблюдал за мной, похоже, я была не первая, кто тыкался по углам квартиры в поисках выхода. Я искала рубашку в гостиной, где тогда был другой стол, не тот, что мы спустя несколько лет будем собирать вместе. В тот момент я просто хочу найти свою рубашку, убраться оттуда и сделать вид, что ничего не случилось. Он храпит в другой комнате, до него и не дойдет, что я ушла. А второй носок может оставить себе как сувенир.
Рубашку я нашла рядом с телевизором и натянула на себя через голову, соображая, какое такси вызвать, злая, что снова отдам деньги за чужие колеса. А потом посмотрела наверх, на книжные полки на стене, и замерла. Среди компьютерных справочников виднелась черная книжечка. Ее корешок был украшен серебряными буквами. Я прочитала: «Остров сокровищ – Р.Л. Стивенсон». Я стояла и смотрела, как буквы переливаются под уличным светом, проникавшим в гостиную с балкона. Я провела пальцами по буквам, те были слегка выпуклыми, как затянувшаяся рана. У меня больше ничего не болело – анальгетик быстро сделал свое дело. Пес лизал мою босую ногу. Я смотрела на книгу и думала о Джиме Хокинсе, которому сказали, что он должен описать все как было и ни в коем случае ничего не упустить. Через некоторое время я сняла с себя всю одежду и вернулась в кровать к Майклу. Сколько лет прошло с тех пор? От нашего первого секса до звонка Лейлы? Люди умирали каждый день. Сколько их перестало существовать с дня, когда мы похоронили Зайца? За время, пока мы с ней не слышали друг друга, прекратились многие жизни. Где была она, пока я знакомилась с Майклом, спала с Майклом, ела торты с Майклом, ссорилась с Майклом? Почему не позвонила мне в тот день, или тогда, перед аптекой, или на следующий, или в любой другой день, кроме этого? Почему не позвонила мне до того, как я увидела ту книгу на полке у Майкла? Как будто она наперед знала все о моей жизни, обо всем, что со мной произойдет, раньше, чем я сама.
В моих ушах по-прежнему стоял ее хриплый голос. Она была старше, грубее, но по-прежнему с тем же завораживающим низким голосом. Я глубоко вздохнула и осторожно открыла дверь, как бы отчасти надеясь, что застану Майкла за каким-нибудь непростительным занятием. Тогда было бы легче.
Я не разулась. Он сидел в гостиной и писал коды, которые я никогда не понимала. Я стояла в дверях у него за спиной и смотрела на аккуратные фразы, белые на черном мониторе, сотканные из цифр, букв и знаков, следующие одна за другой. Майкл всегда говорил, что весь мир закодирован. Что я не осознаю, что за моим софтом для перевода, за моими любимыми журналами, моими плейлистами с музыкой того времени, когда его работы еще не существовало, скрывается целый недоступный мне язык. Я стояла, смотрела на это множество символов и спрашивала себя, кого он однажды этим осчастливит. Поможет ли кому-то, сам того не подозревая, окончить докторантуру, или убить какое-нибудь чудовище в видеоигре, или, кто знает, написать с помощью нового софта предсмертную записку. Этот сгорбившийся человек в слишком широком джемпере с узором из ромбиков – чей он бог?
Моя рука по-прежнему оставалась в кармане пальто, я сжимала телефон, из которого полчаса назад просочилось: «Армин в Вене». Мне казалось, что я не смогу собрать вещи и уехать в аэропорт, если мои пальцы выпустят телефон. Вместе с ним выпадут и Лейла, и Армин, и Вена. А что будет со сгорбившимся богом в джемпере с ромбиками? Ничего страшного: Загреб, Мостар, Вена. Пара недель, ну месяц, если решу остаться подольше. Телефон в моей стиснутой ладони становился все теплее. Босния, Лейла. Это не двухнедельный отдых, после которого вернешься домой и ляжешь в кровать с Майклом. Это все равно что заново сесть на героин. Я уже была запятнана родным языком.
Я подошла к нему со спины и сняла с головы наушники. Он перепугался. Положила ладони ему на плечи. Я одновременно чувствовала и обычность этого хорошо известного движения и то, что сейчас оно другое.
«Это всего лишь я», – сказала я.
«Нашла занавески?» – спросил он, продолжая смотреть в монитор. «Нет», – ответила я. Я чувствовала, как в мою утробу падают тяжелые английские слова, кирпич за кирпичом.
«Завтра я схожу…, – сказал он, – если ты еще один день сможешь вытерпеть вид нашего голозадого соседа».
Я села на диван возле письменного стола и обвела взглядом нашу гостиную. И увидела ее как в первый раз – ведь я смотрела глазами Лейлы. Ее звонок сделал из моей жизни музей. Я смотрела на стену над компьютером Майкла, на полку с фигурками «Лего», мелкими кактусами и книгами о языках программирования. С другой стороны – вторая стена, заполненная моими словарями и энциклопедиями, с черно-белой фотографией седого возмущенного Сэлинджера, стиснувшего кулак, чтобы разбить хамский объектив. Между нашими непереводимыми мирами стоит круглый обеденный стол, который мы как-то вечером вдвоем собирали, препираясь из-за инструкции. Рядом с большим телевизором – фотография его пса. Диабет. Нам пришлось его усыпить. Майкл держал большую черную лапу Ньютона, я держала руку Майкла, а пес погружался в сон. Майкл плакал, вытирал нос о свое плечо, он не хотел выпустить нас – Ньютона и меня, лапу и руку. А рядом, между телевизором и письменным столом – проклятое деревце авокадо, упрямое растение, выжившее вопреки всем прогнозам, маленькое, недоразвитое, без единого плода в перспективе, но тем не менее из сезона в сезон живое. Тощее несчастное дерево. Я его просто так однажды посадила, совершенно неправильно. Майкл потом увидел на «Ютубе», что косточку нужно было проколоть зубочистками и оставить в стакане с водой. А я ее извлекла из плода, очистила от кожуры и засунула глубоко в землю, как волшебную фасолину. Мне это показалось похожим на похороны – влажная крупная косточка, глубоко в горшке. Но вскоре стало ясно, что могила на самом деле оказалась хитроумной колыбелью. Майкл ее поливал, поворачивал к солнцу, счищал с листьев паразитов. Зомби-авокадо. Я сидела на диване и смотрела на него, будто вижу в первый раз. Если бы Лейла увидела мое дерево авокадо, она бы расхохоталась своим подлым смехом и напомнила мне, что я из тех, к кому растения приходят не жить, а умирать.
Я ее хорошо видела там, на паркете Майкла, она бросала снисходительный взгляд на мой дублинский этап. Она бы даже ничего не сказала, просто взглядом сбросила с меня Европу, как дорогую шубу с жалкой выскочки, и без тени стыда предъявила бы всем мои балканские шрамы.
Когда Майкл оторвался от клавиатуры, он обернулся и посмотрел на окно за моей спиной. Двумя неделями раньше в доме напротив нашего поселился нудист. Из нашей гостиной нам была видна его столовая. Это был человек среднего возраста, совершенно обыкновенный, с красными в белый горошек кастрюлями и черной сумкой на стуле. Один из тех, кто, оставшись без шевелюры, пытается подчеркнуть собственное достоинство слишком большой бородой. На стене у него висел календарь за девяносто какой-то год. Ел он раз в день, прямо из кастрюли. Слушал Шостаковича. Майкл нервничал как из-за музыки, так и из-за впечатляющего мужского достоинства соседа, которое приветствовало его каждое утро.
«Он дома?» – спросила я.
«Нет. Слава богу».
Он продолжал смотреть в окно. В бороде застряли крошки от чипсов. Если бы это был какой-то другой Майкл, тот, который существовал до Лейлиного звонка, Майкл, который плачет, когда чужой человек убивает его собаку, Майкл, который руками ест торт «Красный бархат», Майкл, который требует у меня большой шуруп для ножки обеденного стола… возможно, я и стряхнула бы с его бороды крошки. Так естественно, что он бы этого и не заметил. Но так это не имело смысла. Дотронуться до статуи в музее. Поэтому я просто сидела на диване, на нашем диване, который вдруг стал его диваном, а потом, очень скоро – просто каким-то диваном, и смотрела на этого большого рыжеволосого бога и на пятно от кофе на его джинсах. Сумеет ли он найти средство от въевшихся пятен? Его ступни, вообще-то огромные, по сравнению с полем исцарапанного паркета вокруг них показались мне крохотными. Кто купит ему новые тапки? Он сам об этом никогда не подумает. Будет ходить босым, всегда, по плохому паркету. Я смотрела на его ступни как на детей, которых бросаю.
«Я должна ехать домой», – сказала я в конце концов. Home. Мы жили вместе уже шесть лет, не следовало так говорить. Home была наша квартира, наши книги, наша кровать с анатомическими подушками, наш испорченный душ, уточка на плитке в ванной, царапины на паркете. И даже голый мужчина в нашем окне. Home – это не Босния. Босния – это нечто другое. Ржавый якорь в зассанном море. До сих пор нужно делать прививку от столбняка, хотя прошло столько лет.
«Зачем тебе ехать домой?» Home.
У меня были готовы ответы. Я представила ему абсолютно убедительный рассказ о великолепной возможности повидаться с матерью, привести в порядок кое-какие документы, забрать оставшиеся пластинки, рассказ о школьной подруге и ее брате, который, похоже, в Вене, рассказ о Вене, великолепной, безукоризненной, тем более что там в это время будет конференция о дискурсе и власти, на которую я иначе бы не смогла попасть, рассказ о дешевых авиабилетах и о том, как мне всегда хотелось увидеть Мостар, какой это отличный тайминг, рассказ обо всем и ни о чем. Мне показалось на мгновение, что он поймет, в чем дело, увидит дыры в моем неуклюжем коде, что он мне скажет, что об этом не может быть и речи. Я как будто надеялась, что так и случится. Я бы позвонила Лейле и объяснила, что у меня просто нет возможности приехать, Майкл прав. Когда я приходила с работы пораньше, я осторожно открывала дверь, осознавая возможность, что Майкл может быть на нашем диване с какой-то другой женщиной. Может быть, даже не с женщиной, думала я, тихо защелкивая замок, может, просто смотрит какой-то порнофильм сомнительного качества, где крупная дама облегчается на связанного мужчину, что-нибудь такое – и я его за этим застукаю. Всегда есть такая возможность – что ему все же удастся меня оскорбить или обидеть, но я буду права, и это меня утешит. Но оказалось, что я год за годом вхожу в квартиру и застаю его набивающим коды на грязной клавиатуре, полной крошек от печенья. Возможности исчезают. А теперь? Он что-то скажет. Он смотрит в окно, туда, где живет голый мужчина. Морщится. Это мгновение я буду помнить долго, подумала я. А потом в какой-то день забуду. То мгновение, когда по-прежнему существовала возможность, пусть даже минимальная, что Майкл мне что-то запретит. Однако он лишь кивнул, по-прежнему уставившись в окно, и сказал: «Конечно, делай все, что тебе нужно».
Не нужна мне Лейла, это я ей нужна. Всегда так было. Я хотела это ему сказать. И про Армана. И про тех собак. Вместо этого я сказала: «Тебе нужны новые тапки». Он улыбнулся, ответил: «Сначала занавеска» и вернулся к программированию. Авокадо продолжало расти, тихо и неподвижно. Его упорная жизнь меня позорила.
[Тебе семнадцать лет. Мне на год больше. Поем Guadeamus igitur. Ты поешь humus там, где надо sumus. Я щиплю тебя. «Сперва идет sumus», – шепчу тебе. А ты вопишь во всю глотку, гордясь своим фантастическим отсутствием слуха, хотя училка музыки велела тебе только открывать рот. Наш классный руководитель произносит ту же речь, что и в прошлом году, и в позапрошлом. С момента, как был объявлен мир, он, похоже, нашел новое призвание – недооцененный академик, который, если бы история его не обманула, мог достичь бог знает каких высот и получить бог знает какие награды. Однако так ему не остается ничего другого, как скромно – подобно каждому настоящему гению – поучать нас, потерянное поколение молодежи.
«Вы, – говорит он своим трепещущим голосом с нереализованным потенциалом, – поколение, перед которым простирается бескрайний простор возможностей». Асфальта, поправила бы его какая-нибудь более старшая ты. Но что мы могли тогда знать? Ты в бандане, повязанной на лоб, в слишком широкой джинсовой куртке, с щеками, блестящими от крема, который получила бесплатно как приложение к зимнему изданию журнала Teen. Я – в одном из моих поношенных платьев-рубашек, в кроссовках на платформе и с жемчужинами в ушах. Мы не знали, что поем. Наши голоса прокрались из легких, как невинные летучие мыши. «Смерть придет быстро и жестоко схватит нас», – пели из нас какие-то мертвые римляне. Мы будем глубоко под землей, сказали они, и никто нас не спасет. Кто-то был обязан перевести нам эту тьму дешевых эстрадных клише. А может, так оно и должно быть: сперва петь о смерти на языке, которого не понимаешь. Позже, когда ты узнаешь истинную природу стихов, которые продекламировал перед гордящимися тобой родителями, передумывать слишком поздно. Да кроме того, твои родители и не понимают латынь. Сейчас тебе хочется жить, жить и радоваться, несмотря на смерть. И мы обе точно так же стоим и поем о смерти, о радости, смотрим в какое-то неопределенное пространство за спинами наших родителей и преподавателей, во что-то далекое и необратимое, как латынь, затерявшееся в облупившейся краске на стене за публикой, смотрим на море возможностей. А они смотрят на нас – неожиданно гордые и существующие, – словно наш ор вырвал их из глубокого сна, из какой-то темноты, которую они сами и соткали всего лишь несколько лет назад. Поем морю, которое у нас украли, стакан за стаканом, пока мы были заняты собиранием салфеток, стеклянных шариков и плакатов Моей так называемой жизни. Моя мать, тихая и широкая, как озеро, в светло-голубом выходном платье, рядом с отцом. Он забыл снять свою потрепанную кепку перед всем моим классом. И его палка, дубовая, на моем выпускном она как младший брат, которого я не хотела, прислоненная к стулу между моими родителями. Папа то и дело слегка кивает, оглядывается и что-то шепчет маме. Отсюда, со сцены, я его не слышу, но могу угадать каждое слово. Вон там Костич, парень у него такой толстый, чудо, что школу окончил. А вот и Лалич, и его жена. Дочка ихняя в одном классе с Сарой. Мама все время моргает. Она в корсете, это видно по ее щекам. Если весь этот цирк затянется, она в нем сварится.
Недалеко от них сидит твоя мать, одна, в черном, как знак препинания среди пестрых блузок. Воротник с одной стороны загнулся, она забыла его расправить. Позже, перед фотографом, ты без слов исправишь эту тихую оплошность. Подойдешь к ней, обнимешь за талию, прислонишься головой к ее неподвижному плечу, как будто фотографируешься с деревом. Весна близится к концу, как все-таки грустно среди всех этих увядающих ландышей и цветов лип. Сладковатый запах просачивается сквозь дым сигарет и духи гордых матерей. Я стою, прислонившись к столбу, и смотрю на твою маму, как она протягивает тебе деньги и произносит какие-то не доносящиеся для меня фразы. Словно покупает картошку. Ты терпеть не можешь ее траур, но это выпускной вечер, она дает тебе деньги, за вами поблескивает церковь, похожая на свежеотполированную кофемолку – нет смысла ее критиковать.
Когда она уже отошла достаточно далеко, вниз, по аллее, подхожу к тебе и показываю купюры в своей сумке.
«Пятьдесят», – говоришь ты.
«Отлично… Я двадцать»
«Как раз хватит. А ты взяла…»
«Взяла. Пахнут клубникой»
«Неужели ты нюхала?»
«Ты что, дурочка? На упаковке написано».
Наш отказ одеться торжественно был таким же продуманным, как и шуршащие слои тюля на наших одноклассницах. Мама старалась на меня не смотреть: она надела свое самое красивое платье, то, в которое она еще смогла поместиться. Мои тощие ноги ее нервировали. Дочь начальника полиции на выпускном в кроссовках и лосинах.
За день до выпускного она потащила меня покупать лифчик. Мне это было не нужно, но для нее, как было видно, что-то значило, поэтому я согласилась. Должно быть, это был способ сблизиться со мной где-нибудь, где нет папы, который всегда вставал на мою сторону. Она была готова исполнить святое дело – научить меня примерять бюстгальтер, как бог и заповедует матерям. В кабинке для примерки она потрясенно смотрела на мои ребра, мою неразвитую грудь, впалый живот. Потом с гордостью ухватилась за свои тяжелые груди и сказала: «Они у меня такие еще с восьмого класса. Ты, похоже, и в этом вся в отца». Моя мама как обиженный подросток, которому так необходима эта победа, стоит перед моим полуголым телом и держится за груди.
Утром в день выпускного папа подарил мне золотую цепочку с кулоном размером в спичечный коробок, на котором кто-то курсивом выгравировал мое имя, фамилию и дату. Папа смотрел в пол, как делал всегда, когда боялся заплакать. Он сказал: «Браво, дочка». Лет через пять-шесть я положу эту цепочку на потную ладонь одного дублинского владельца ломбарда. Деньги помогут мне продержаться всего месяц. Матери я позвоню из интернет-кафе. Она будет разоряться, считая, что чем громче говоришь, тем лучше связь, а папа будет молчать, вместо его голоса мне будет слышен только взволнованный голос футбольного комментатора. Потом я заложу жемчужные серьги, бабушкино кольцо и две кожаные сумки. Променяю Боснию на деньги, только бы не пришлось туда возвращаться. Но тогда, в тот день, в кроссовках на платформе и косой до попы, я этого не знаю. Мы окончили школу. Стою рядом с тобой и пою, с цепочкой под рубашкой, чтобы знакомые не увидели. Не знаю я и того, что однажды утром, после первой же зарплаты, я вернусь в ломбард и увижу, что уже поздно. Не знаю, что мне будет очень жаль, хотя цепочка была отвратной, да и с кулоном отец перебрал во всех отношениях.
А те два парня, которых мы отобрали, чтобы они сделали свое дело? Должно быть, это была твоя идея. Мне после Александра было безразлично. Я хотела, чтобы все произошло как можно скорее. Доверила тебе разработку всей операции, как будто моя невинность была счетом в банке, а ты – ловким бухгалтером. Тебе никогда не было трудно привлечь внимание любого мужчины. Они видели в тебе то же, что и я: обещание тихой дикости, которая поджидает за влажным пнем в глубине леса. Твои глаза были еще чернее, чем всегда, обведенные толстым слоем туши, которую ты забыла снять перед сном. Ты являлась на занятия нечесаной, в измятых и слишком больших для тебя рубахах. До того, как первый преподаватель войдет в класс, я успевала лизнуть указательный палец и стереть черные пятна у тебя под глазами. А ты смотрела на меня так, будто тебе безразлично с пятнами ты или без. Я вытаскивала из сумки тональный крем и быстро мазала твой красный нос. Могла нарисовать тебе лицо какой-нибудь гейши, и ты бы не отреагировала.
Они это чувствовали, нетерпеливые мальчики, переполненные феромонами, как тяжелый улей медом, переживающие мучительные метаморфозы, которые непонятны и им самим. Они чувствовали твою неукротимую небрежность, которая оскорбляла их влажные неосуществленные мечты. Помню тот день, когда мы писали контрольную по математике, ты закончила одной из первых – хотя должна была сделать и свой, и мой вариант – и смотрела в окно, туда, где ворота школы выходят на дорогу. Я помню этот момент, потому что заметила, как преподаватель смотрит на твое лицо, пока остальные ученики борются с трудной арифметикой. Он смотрел на тебя спокойным, уверенным взглядом, как будто понимает что-то, что останется для нас, подростков, недоступным еще по крайней мере несколько лет. Своими глазами он превратил тебя в сложное мифологическое существо, прочитать которое может только взрослый. За это я его ненавидела. Но твои глаза отдыхали на воротах, там, где, если долго смотреть, могла появиться темноволосая фигура в длинном пальто.
Помнишь наших тощих поклонников? После того как все выпускные ритуалы завершились, мы отвели их к реке, туда, под большую иву. Их душили пестрые отцовские галстуки. Тот, твой (или тот был мой?), принес с собой солидную баклагу со сливовицей, на которой было вырезано раздраженное лицо святого Василия Острожского. Мы купили четыре пирожка с творогом и литр фанты, чтобы было легче проглотить ракию. От поверхности реки тянуло металлическим запахом застоявшейся весны.
«Ты куда поступать будешь?» – спросил меня тот мой, пока я лежала на траве и смотрела в мутное небо, обеспокоенная тем, что дождь может разрушить наши планы.
«На литературу», – сказала я и взяла баклагу.
«Сербскую?»
«А какую же еще?» – спрашивает тот твой.
Потом он поворачивается к тебе – ты лежишь, раскинув руки и ноги, будто тебя кто-то распял на влажной земле, и пытаешься свистеть. «А ты куда собираешься?»
«Никуда», – отвечаешь ты ему и продолжаешь бесплодные попытки высвистеть больше двух тонов.
«Ты же не умеешь свистеть», – громко сказала я, чтобы сменить тему. Весь последний год гимназии я провела, уговаривая тебя поступить в университет, на что ты немедленно отвечала одной-единственной фразой: «Мне нужны деньги», – никогда не объясняя, на что тебе нужны деньги конкретно, а потом перестала говорить это и просто меняла тему или же полностью меня игнорировала.
«Но ты ведь все-таки куда-то поступишь?» – спросил тот твой.
«На кой?»
«А что же ты будешь делать, убираться у кого-нибудь в доме?» Он спросил это с отвращением, будто мыть и убирать было так же отвратительно, как и гадить. Она приподнялась, опираясь на локти, и посмотрела на него как на самое глупое существо в мире.
«А куда поступит Сара?» – спросила ты у него, хотя прекрасно знала мой выбор. Я молчала, встревоженная тем, что твое высокомерное поведение отвратит их от первоначальной цели. Мы пришли на реку не для того, чтобы обсуждать твое пропащее будущее. Для такого не идут на реку. Было бы непорядочно, если бы ты уничтожила это лишь для того, чтобы показать каким-то мужчинам, какая ты необычная, гораздо более необычная, чем глупая я, которая хочет учиться в университете.
«Ну, Сара – на литературу», – в один голос ответили оба.
«О’кей, – сказала ты. – Тогда и я на литературу. Теперь все о’кей?» Она снова опустила растрепанную голову на мокрую землю, закрыла глаза и продолжила свистеть. Твой ухажер положил ладонь тебе на колено, это не нарушило мелодию. Тот мой тут же делал все вслед за ним, так как, было очевидно, не знал, что надо делать. Ладонь на твоей шее – ладонь на моей шее. Пальцы в твоих волосах – пальцы в моих волосах. Так я смогла почувствовать все то же, что и ты. Моя особая ночь была лишь копией твоей.
Вскоре мы разделились, каждая пара – со своей стороны толстого дерева. Тот мой остался теперь без образца для подражания и почти не знал, как быть. Я помогла ему с презервативом. Когда я первый раз почувствовала его в своей руке, мне показалось, что я схватила за шею маленькую испуганную птицу. Я расставила ноги и посмотрела на большую Луну. Она висела на мертвых небесах как не заслуженная никем медаль, старая и исцарапанная. Ее потрескавшиеся губы что-то мне говорили, что-то важное. А потом неожиданно, без всякого предупреждения, она сорвалась с черного неба и с силой плюхнулась в черную реку. Капли воды брызнули на мои голые ступни. Воцарилось совершеннейшее молчание, темнота была полной. Боль пронзила меня резко и без предупреждения, словно в отместку, потому что я когда-то давно, где-то глубоко в своем теле захватила ее престол.
Предыдущей ночью мы сварили густую смесь из лимонада с сахаром и намазали себе между ног. Ты вырвала волоски у меня, я у тебя. Я знала, что будет жечь, но не противилась. Я верила тебе. Потом я тебя слышала по другую стороны от ивы. Тебе было больно, и я пыталась собственным криком победить твою боль.
Позже мы остались лежать, каждая возле своего мужчины в галстуке, на траве, от которой пахло клубникой и фантой. Один сказал, что уже поздно и, если мы все еще хотим попасть на празднование в отель, пора возвращаться. Но ты просто запела Guadeamus igitur со своей стороны дерева, а я засмеялась и крикнула: «Не humus, а sumus!»
Проснулись мы в одиночестве, на рассвете, прижавшись друг к другу, словно нас питала одна невидимая пуповина, тянущаяся от реки. Сперва я не понимала, где нахожусь, я слышала воду, как она плещется о камни на берегу, и подумала, что она меня проглотит и унесет далеко-далеко. Потом увидела твои черные волосы на своей ладони и вспомнила, что несколько часов назад мы потеряли невинность. Я сбросила с твоего плеча маленького красного муравья. У меня по-прежнему болело между ногами, но я не хотела тебе в этом признаться. Умолчала я и о том, что хотела проснуться рядом с ним, а не рядом с тобой. Ты была беспощадно не изменившейся, будто во всем этом не было никакой причины для грусти. Все прошло по плану. Мы достали из моей сумки чистые трусы, аспирин и оставшиеся деньги.
«Хочешь сразу домой?» – спросила ты меня, пересчитывая бумажки и мелочь.
«Не знаю… А сколько вообще времени?»
Она посмотрела на свои желтые резиновые часы и сказала: «Шесть и… сколько-то. Какая разница, выпускной, сердиться никто не станет».
«А куда нам деваться в такое время?» – спросила я, натягивая через голову измятую рубаху, всю в траве, земле и крови.
«Пойдем на рынок», – ответила ты так, словно это самая нормальная вещь на свете.
«На рынок? Сейчас?»
«Да, он открывается через полчаса».
Ты была готова меньше чем за минуту: черный «хвост» почти на самой макушке и шнурки, завязанные надежным двойным бантиком. Я продолжала попытки обнаружить в кустах свои лосины. Осторожно спустилась к реке, где у подножья плакучей ивы лежала моя кроссовка. Пока я обувалась, увидела среди листьев что-то белое. Это была детская перчатка с грязными и порванными пальцами. Видно, у кого-то упала с моста, еще зимой.
«Смотри», – сказала я и показала ее тебе.
«Зачем она тебе? Лето же», – сказала ты равнодушно, нанося новый слой блеска на губы и щеки. Ты одним махом сделала из меня малышку, кого-то мелкого и незначительного, персону, на чьи крошечные пальчики можно натянуть маленькую перчатку.
«Еще не лето, умница!» – крикнула я тебе, а ты только пожала плечами, будто времена года – это дело личного выбора, а не научной договоренности. Не было еще и семи утра, а ты уже действовала мне на нервы. Моя находка не значила для тебя ничего, как и гимен, который ты уничтожила этой ночью, – и то, и другое ты отбросила как нечто скучное и непрактичное. Зачем она тебе, лето же? Я хотела показать, что и для меня эта дурацкая перчатка ничего не значит, и со всей силы бросила ее в реку. Я думала, что вода намочит нити и утопит ее, но она была для этого слишком мала. Просто упала, как лист на поверхность реки, и отдалась течению.