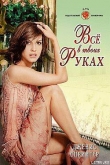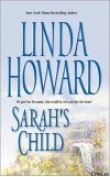Текст книги "Поймать зайца"
Автор книги: Лана Басташич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
«Что ты будешь делать на рынке в такое время?» – спросила я, пытаясь подняться наверх, к тебе.
«Я иду, – сказала ты, – купить белого зайца».
Ты стояла надо мной, крепкая и надежная, как крест, окруженная утоптанной землей и использованными презервативами, которые уже давно утратили запах клубники, а на твоем лице было что-то чужое, что-то, что не было мне известно до сих пор, и помню, что подумала в тот момент – я, растерянная и маленькая, в одной кроссовке. Я подумала, что этой ночью ты, под тем болваном, открыла для себя нечто, что я пропустила. Я подумала в страхе, что буду вечно гнаться за тобой, чтобы постигнуть то, какое-то взрослое, неосязаемое знание, пока ты исчезаешь вдали. Я подумала, что тебя больше нет, что тебя кто-то наполнил гелием, когда я не видела, и ты, как воздушный шарик, выскользнула из моей руки в открытое небо.]
3.
Небо над Загребом ясное. Нам остается еще несколько минут пробыть в воздухе. Из окна самолета вижу какую-то воду, имени ее не знаю. Вижу и безымянные улицы, и маленькие дома, разбросанные вокруг, как забытые игрушки. Машины медленные, далеко под нами, продвигаются по улицам, как зловещие тромбы через старые вены.
Я узнала бы Балканы через это овальное окошко среди всех других панорам. Я не очень хорошо разбираюсь в географии, не знаю названий рек и гор. Возможно, это стыдно. Балканы для меня цвет, а не топоним. Имена – это забывается легче, нужно только заполнить себя чужими словами, чужими картами, и буквы исчезают, как сахар на языке. Но цвета остаются, как пятна под веками, хотя я уже давно оставила сентиментальность у себя за спиной, в доме матери. Цвета не стираются пройденными километрами. Тяжелый оттенок зеленого как забытые перцы, высохшие и сморщившиеся, они не могут больше никого накормить. Неприятный коричневый, который продолжает извиваться наподобие мертвой реки после апокалипсиса. Цвет мумии, которую изнутри съели черви. Видны отпечатки сапог, хотя их невозможно увидеть с такой высоты, это лишь иллюзия. Сотни сапог, топтавших землю. И кусты, бледно-зеленые опухоли возле рек, усталые кусты, но по-прежнему дикие, каждый с вопросительным знаком сверху. Здесь кто-то умер? Здесь кого-то убили?
Рядом со мной сидит рыжий мальчик, читает какой-то комикс на немецком. На полстраницы нарисована испуганная женщина в облегающем платье, веки закрыты движением карандаша. Под ними ничего нет. Художнику не нужно рисовать глаза, чтобы их закрыть. Мать мальчика наклоняется в мою сторону и вытаскивает из щели между двумя креслами ремень, чтобы пристегнуть сына. Самолет начинает трясти, и мальчик хватается за руки матери, словно они сильнее турбулентности, даже сильнее гравитации, если мы валимся головой вниз в смерть.
«Приматы не летают», – говорила мне на первом курсе какая-то давняя Лейла, слишком гордая, чтобы признать свой страх полета. Она никогда не летала на самолете. Однажды я ее спросила, как она увидит Америку или Австралию.
«Австралию? – повторила она изумленно. – Там, где вот такие пауки? Которые прыгают. Прыгают, Сара. Пауки. Тарантулы»
«А Америка?»
«Какая тебе Америка… Они там еще хуже сумасшедшие, чем мы здесь».
Но это все были глупости, чтобы скрыть страх перед самолетами. Не из-за смерти. Лейлу никогда не пугала идея умирания. Ее гораздо сильнее пугала нехватка земли под ногами.
В загребском аэропорту написано: «Добро пожаловать в Европу» на случай, если кто-то об этом забыл, включая нас, только что прилетевших из Германии. И пока мы ждем появления наших чемоданов на движущейся ленте, вокруг снуют работники аэропорта Плесо, выполняющие свои двухминутные задачи, все очень важные, подтянутые и крепкие, в отглаженной форме, напоминающей простодушной деревенщине, что это не Балканы. Вскоре я обнаруживаю свой чемодан и сажусь в такси.
«Где ваш отель?» – спрашивает меня водитель.
«Не в отель, – говорю с улыбкой. – На автовокзал». Он пожимает плечами и нажимает кнопку на счетчике, под бледной Богоматерью. Нужно было сказать не «автовокзал», а по-хорватски «колодвор», корю я себя, пристегивая ремень.
«Сзади можно не пристегиваться», – говорит он добродушно. Он прав. Это не Дублин.
«Привычка», – говорю я.
Из зеркала заднего вида на меня смотрят два крохотных голубых глаза и улыбающийся рот. И пока мы продолжаем разговор – откуда я, чем занимаюсь, знаю ли, что на автомагистрали к Градишке произошла авария, перевернулся грузовик с рыбой, – я понимаю, где я и где меня нет. Дублин, Майкл, авокадо, наш голый сосед – отсюда все это кажется мне спектаклем, который я смотрела давно-давно. Я сижу в такси в Загребе, какой-то человек, который верит в непорочное зачатие, везет меня к «колодвору», там я отыщу автобус на Мостар и – и все дела. Возможно, что-то случится: возможно, мне скажут, что все билеты проданы, возможно, автобус перевернется, как тот грузовик с рыбой, возможно, я заблужусь в Мостаре, несмотря на ее инструкции и все навигационные приложения в моем телефоне, вместе взятые. Возможно, я ее найду и пойму, что на самом деле это была вовсе не она – пять дней назад мне позвонила какая-то другая Лейла, и тот голос был чужим, неузнаваемым, произошла ошибка. Как же удивится незнакомая женщина, когда я войду в ресторан и я буду кем-то другим, кем-то, кого она не ждет. Мы посмеемся над случайностями жизни и потом снова отправимся каждая своим путем. Кто знает, может, мы станем подругами, я и та ошибочная Лейла. Может быть, по-прежнему существует возможность, что все это лишь ошибка. Ошибочный номер в коде на каком-то мониторе. И я вернусь домой еще до того, как умрет мое дерево авокадо.
«Вот и автовокзал», – говорит мне водитель, выключая счетчик. Я подумала обо всех таксистах, которые в меньшей или большей степени изменили мою жизнь, не зная о своей колоссальной роли. Все эти безымянные участники эпизодов, которые толкают нашу историю вперед двумя ловкими руками, подобными стрелкам часов, которые никогда не останавливаются. Я прочитала его имя на водительской карточке, хотела запомнить, хотя знала, что забуду его уже в следующую секунду. Хотела придать человеку, который довез меня до автовокзала, особое значение. Приблизил ко мне Лейлу, благополучно не подозревая об этом. А я ему за это заплатила.
После четырех часов, проведенных на автовокзале за литром кофе, тремя круассанами и хорватским журналом, сажусь в автобус. Спрашиваю водителя, когда будем в Мостаре. В пять утра. Она тогда будет спать. Официантка она или нет, я не знаю, но сомневаюсь, что теперь она стала просыпаться раньше десяти. Что мне делать в Мостаре в пять утра? Разбудить ее? Не знаю, где живет. Она дала мне адрес ресторана. У меня есть семь с половиной часов, чтобы придумать, что я ей скажу. Если только что-то не случится с колесами или тормозами. Тогда я стану свободна. Автобус полупустой, пассажиры разбросаны по засиженным креслам. Некоторые уже погрузились в сон, зарывшись в куртки, слишком толстые для начала мая. Я видела на их лицах километры, преодоленные в этом же автобусе, некоторые их семьи – сыновей, дочерей, внуко, в – разбросанные между двумя странами, и то, как они ловко усаживаются и устраиваются на своих местах, словно у себя в гостиной. Некоторые держали на соседнем сиденье широкие полотняные сумки, просунув руку под ручки. Один пожилой мужчина разулся и, прежде чем поставить туфли под сиденье, краем глаза глянул на присутствующих. Может быть, чтобы убедиться, что никто не заметил, а может, чтобы оценить, кто из нас потенциальный вор. В их лицах, в их распухших красных суставах и потных лбах с навсегда застывшей морщиной озабоченности было что-то узнаваемое. Над потертыми подголовниками виднелись коротко стриженные женские головы, свежеокрашенные перед поездкой в Хорватию, скорее всего на Пасху, а сейчас уже с повисшими жирными прядями, готовыми снова быть забытыми в Боснии. Одна полная женщина потянулась через соседнее с ней сиденье и резко похлопала по плечу другую, которая, казалось, уже успела по дороге заснуть.
«Эй… Ты помнишь, что выходим на паспортном контроле? Не засни», – сказала первая.
«Да дай ты женщине поспать, – раздался высокий и резкий мужской голос за мной. – До Посушья мы раньше четырех утра не доедем».
Следя за этим, на первый взгляд невинным, обсуждением, все пассажиры оживились. Одни обращались прямо к двум госпожам, начавшим разговор, другие – как бы сами к себе, сетуя на то, какой путь еще впереди. Из темноты неидентифицированных кресел звучали самые разные голоса, одни тяжелые и усталые, другие звонкие и оживленные – и в какой-то момент мне показалось, что и сам автобус заговорил. Я не могла заснуть, потому что прямо за мной сидел самый разговорчивый собеседник и объяснял тонким, напряженным голосом, каким заявляет о себе голодная гусыня, как их однажды всех вывели среди ночи для проверки паспортов, хотя в автобусе была беременная женщина и мужчина с маленькими детьми. На это некая госпожа спереди, отдуваясь, заявила, что такого с ней никогда не случалось, а она, бывало, ездила с дочерью и тремя внуками, и им всегда разрешали остаться внутри, детей не будили. С сиденья передо мной мелкая фигура прокудахтала: «А где ваша дочка и внуки?»
Тут я поняла, что поспать не удастся. Госпожа с другого конца автобуса принялась комментировать густые ветви своего семейного древа, объясняя неблагоприятную географию и сложную историю просто: «А что поделаешь? Что есть, то есть, приходится ехать. Кто меня спрашивает? Они же мои». На этих словах проснулся разувшийся господин в середине автобуса и тоже высказался: «Уф, а представь, каково мне: дочь с зятем в Германии, другая дочь уехала учиться в Загреб, а у сына фирма в Любляне, он там делает эти, как они называются, ну, типа пластиковые окна и жалюзи и что не…»
«У меня сестра в Австралии…» – добавил хриплый женский голос из темноты.
«А я сестру похоронил в прошлом году. Почки», – ответил разувшийся человек, надеясь, что положит конец состязанию. Бумага побеждает камень. Камень побеждает ножницы. Могила побеждает Австралию.
Однако состязание продолжилось аж до Кореницы. Некоторые гордились похороненными родственниками, другие – утраченными домами. У некоторых были умные дети, доктора и инженеры, которые не могут найти работу, другие на это отвечали, что живут на двести марок в месяц, имея тридцать лет стажа. Был момент, когда казалось, что та сова, что спала, победила: извлекла, как она выразилась, две опухоли из живота, а два года назад и всю матку. Снимает угол, живет продажей лотерейных билетов. Дочку бросил муж. Шах и мат.
Я в состязании не участвовала. Мне нечем было гордиться. Я здорова, еду из Ирландии, у меня есть Майкл, и я направляюсь в Мостар, потому что у меня есть деньги заплатить за Лейлины прихоти. Неважно, что этим требованием она мне дала под дых. Как мне состязаться с их мертвыми, их руинами и мизерными пенсиями? Лейла бы, может, и смогла. Нашла бы способ посрамить их всех и при этом ни на миг не пожалеть себя. Мне почти захотелось, чтобы она была здесь, рядом со мной.
Однажды мы вместе поехали на море, автобусом, сразу после поступления. Пока все еще было в порядке. Она прислонилась спиной к окну, а вытянутые ноги положила мне на колени. Произнесла шепотом: «Я слушала, как плачут в ночи невидимые поезда», – я посмотрела на нее с недоумением.
«И не мечтай», – сказала я; я почти спала. А она только улыбнулась, переполненная собой и собственным превосходством. Правила игры должны соблюдаться в любое время и в любом месте.
Я сбросила с себя ее ноги и тихо встала, пытаясь после многочасового сидения вернуть ток крови по онемевшим бедрам. Остальные пассажиры спали, снаружи царила полная темнота. Я пробиралась между креслами неслышно, словно охочусь за их душами, и взглядом искала хоть какую-нибудь книгу. Уснувшие руки одних лежали на раскрытых таблоидах, другие держали сумки или веера. Я нашла то, что искала, в другом конце автобуса: книга торчала из рюкзака какого-то прыщавого парня. Для человека, который совсем недавно читал Киша, он спал слишком спокойно.
Я вернулась на свое место и прошипела: «Мансарда», – а потом закрыла глаза и провалилась в сон.
Мой папа велел нам сесть в середине автобуса, это самое безопасное место. Поэтому назло ему мы нарочно заняли самые последние кресла, хотя он этого не узнал бы. Там было достаточно места для ее ножищ. В тот год мы ехали на остров. Вспомнила и тот день на пляже, когда подумала, что она утонула.
Я почти видела ее рядом с собой, в этом новом автобусе, который вез меня к Мостару, к какой-то более старшей Лейле. Я слышала, как она сообщает какую-то драматическую ложь группе мрачных пассажиров. «Моя мать слепая. Вырастила нас, не имея зрения». Она могла бы брякнуть любую похожую глупость, только бы победить в их бессмысленном состязании. Стать некоронованной королевой автобуса Загреб – Мостар. Я просто сидела и смотрела на черные деревья за окном. Время от времени какой-нибудь домик вспарывал мрак освещенными занавесками. В Дублине я чувствовала, что могу удрать в самый конец города, но невидимая резинка, как всегда, натянется и вернет меня к Майклу, как рогатка, куда бы я ни ушла. Сейчас уже миновала полночь, мы – где-то между Кореницей и Удбиной, а резинка настолько растянулась, что перестала функционировать, обвисла. Скоро растянется еще больше, но не достанет до Боснии.
А когда на нас обрушился ливень, я самоуверенно подумала, что и это из-за меня, из-за Майкла и Лейлы, из-за колес, которые начнут скользить и закончат эту историю. Нас вывели из автобуса и построили в очередь перед белой будкой, в которой сидела полная женщина-полицейский с оранжевыми губами. Теперь мне были видны лица моих сов и гусынь, которые часами не смолкали в темном автобусе, лица, искривленные судорогой, будто так они меньше вымокнут; на них – глубокие морщины, как русла рек для раскисшей и растекающейся косметики, кулаки – глубоко в широких карманах. Один человек напялил на голову пластиковый пакет. Другой безуспешно попытался закурить сигарету. Когда мы вернулись в автобус, разговоров больше не было. Смоченное дождем унижение вынудило их притихнуть. Только иногда слышался тяжкий вздох то там, то здесь, будто исходящий от измученного животного, которое наконец-то нашло укрытие. Водитель включил радио – повтор вечерних новостей. Председатель какого-то правительства, то ли с одного, то ли с другого берега реки, говорил о создании новых рабочих мест.
«Это нас по крайней мере подсушит», – громко произнес разувшийся мужчина, на что несколько вымокших пассажиров тихо засмеялось. А потом все снова замерло, утроба автобуса стала бесплодной, почти нечеловеческой, как мокрые туфли под влажным сиденьем.
Сказать этим печальным людям, что я оставила своего неопрятного бога с босыми ногами, на исцарапанном паркете в квартире без занавесок? Сказать им, как я к нему вернусь, разумеется, я вернусь, с чего они взяли, что не вернусь? Сказать им, как иногда я представляю себе, как сдираю с нее кожу? Она лежит на своем диване, снова не имеющем цвета, я сижу на ней и сдираю кожу с ее лица, но безуспешно. Под ней всегда что-то новое. А она просто смотрит на меня и кричать не собирается. Словно ее удивляет, даже веселит моя агрессия, словно она говорит мне взглядом: «Да неужели ты думала, что мы с тобой из одного материала?»
[Смерть сначала постепенна, а потом скоропостижна. Собаки вначале умирали одна за другой. Их безжизненные тела, зимним утром еще теплые, следовали одно за другим неумолимо и предсказуемо, так же как среда безошибочно следует за вторником. Мы находили их, лежащих на боку, еще до утренних новостей. Неподвижный язык, вывалившийся из безобидных челюстей вместе со всей их бедной нечеловеческой жизнью. Но все-таки жизнью.
Началось с собаки госпожи Ристович.
«Сербская трехцветная гончая! – кричала она через забор. Пальцем показывала на покривившийся крест, воткнутый в холмик земли перед домом, и пронзительно голосила: – Сербская трехцветная гончая! Самая редкая порода! Такое только завистливым скотинам может прийти в голову!»
В то время кресты вырастали и расползались, как бурьян: во дворах, на зеркалах заднего вида, на толстой шее нашего учителя химии или вытатуированные на руке отца нашего одноклассника Митара – тот как-то раз пришел на родительское собрание, и все его слушали, будто он президент, – а все из-за татуировки. И собаки, разумеется, были православного вероисповедания, и их провожали в последний путь соответственно обычаю; ну и что, что поп Чедо отказался хоронить Лукаса, брюзжала госпожа Ристович, кто сказал, что порядочные люди не могут ставить крест там, где им захочется? «Что же, может быть, это позор – быть сербкой?»
Мы всегда возвращались из школы по ее улице и, стараясь, чтобы она не заметила, смеялись всякий раз, когда она кричала «скотинам» вместо «скотам». А нам было жалко Лукаса, о котором теперь выяснилось, что он был трехцветной гончей, и очень редкой, хоть никто никогда и не видел, чтобы он охотился. Господин Мичо, живший с двумя немыми дочерями в доме без фасада, сказал, что Лукас на самом деле был югославской трехцветной гончей, на что госпожа Ристович ответила, что и он, и Югославия могут проваливать на три буквы.
«Ты что думаешь, его эти сволочи убили за то, что он югослав?» – спросила она, сверкнула глазами и криво усмехнулась, словно только сейчас ей, и исключительно ей одной, открылась великая Истина, недоступная нам, простым смертным, у которых нет ни мертвой собаки, ни креста во дворе.
«Ладно, мать, не говори глупостей», – сказал господин Мичо, сгребая снег со своей «Лады».
«Ха, я говорю глупости! Ты что думаешь – это случайно? Эти сволочи потравят и нас, когда мы спать будем. Сначала сербских собак, а потом сербов. Да что тебе говорить», – сказала госпожа Ристович, прищурившись через забор на нас, а особенно на тебя и твои новые кеды с двуцветными шнурками, как будто это ты задушила ими бедного пса. А господин Мичо лишь бросил на нас заговорщицкий взгляд и вернулся домой, потирая замерзшие руки.
Но вскоре после Лукаса погибли и другие собаки: пекинес госпожи Талич, бульдог из запущенного двора рядом со школой, некрасивая борзая моей соседки. Меньше чем через семь дней в нашем населенном пункте не осталось собак – их заменили маленькие несуразные могилки и печальное мяуканье ничейных кошек. Даже господин Мичо перестал шутить. Просто помахивал нам рукой, когда мы возвращались из школы, а он возился со своей любимой «Ладой».
Мы шли к заброшенной фабрике соков, пробираясь в резиновых сапогах через сугробы на тротуарах. Это была та суровая зима накануне твоего одиннадцатого дня рождения. Ты получила менструацию и новое имя, а я, хотя и была на восемь месяцев тебя старше, – ничего.
«А тебе больно?» – спросила я осторожно.
Ты пожала плечами, давая понять, что такое невозможно объяснить нам – сухим девочкам. Ты была другой. В твоем поведении была своего рода неприкосновенная мудрость, подразумевающая, что ты ведешь, а я сопровождаю, как будто мы принадлежим к разным отрядам приматов. Кровь дала тебе власть над всеми нашими решениями – куда идти, что делать и как себя вести. Я попыталась тебе напомнить, что я старше и, соответственно, должна отвечать за нас обеих, но для тебя кровь была по иерархии выше, чем просто возраст. А когда я сказала, что твое новое имя не настоящее, потому что на самом деле у тебя есть другое, ты и глазом не моргнула.
«Ты со своим тоже не родилась, – сказала ты. – Ты его только потом получила».
До вчерашнего дня ты была Лейлой, без крови и чистая, как и я. Сейчас в нашу дружбу влезла эта проклятая Лела, у которой есть менструация и которая не хочет мне про нее объяснить. Я ее ненавидела. Твоя мать кухонным ножом устранила букву г из вашей фамилии на входной двери и приклеила на ее место букву р. Она была латунной и, новехонькая, блестела в середине твоей фамилии, унижая остальные буквы. Ты стала Лелой Берич, просто так, как будто это возможно без того, чтобы кого-то о чем-то спрашивать. Я попыталась уговорить родителей переименовать меня в Дженет. Я была бы популярна в школе так же, как Джексон в том черно-белом клипе, когда она появляется в стеклянной двери, а все вокруг теряют дар речи. Ты бы умерла от зависти. Мать, однако, сказала, чтобы я не болтала глупости, дженет – это мусульманский рай, я что, хочу, чтобы кто-нибудь переломал мне кости, я что, ненормальная?
«Скажи мне. Это очень больно?» – настаивала я.
«Ну, так… как будто у тебя в животе какой-то шар и он давит».
«А много… ну, крови?»
«Немного»
«Сколько?»
«Не знаю, может, стакан».
«Стакан для сока или стопка для ракии?»
«Как ты мне надоела, Сара! Откуда я знаю? Хочешь посмотреть?» Я тут же замотала головой, так энергично, как могла. Днем раньше, когда Митар порезал палец и заплакал посреди урока математики, ты сказала ему, что он бедненький, но у тебя кровотечение в десять раз больше, а ты не плачешь. Тебя выгнали с урока. Поэтому я знала, что ты могла бы там, за зданием фабрики соков, снять колготки и трусы и показать мне свою кровь. Я быстро сменила тему.
«Что тебе сказал Армин?» – спросила я.
«Ничего»
«А ты ему сказала, что у меня еще ничего нет?»
«Матерь милосердная, с чего бы мне ему это говорить? Какое ему дело до моих подруг?»
«Ну, я просто спрашиваю… Но ты ему не говори».
«А что мне ему говорить?»
«Неважно. Только не говори ему. О’кей?»
«О’кей, Сара… Я и не собиралась».
Ты бы этого не поняла. Это твой брат. А я хотела тебе рассказать. О том, что произошло под вашей черешней в тот день, когда умер сеттер господина Радмана. Я пришла за своей тетрадью по Закону Божьему, из которой ты переписывала молитвы, потому что ты не посещала эти уроки. Тебе каким-то чудом удалось избегать Закона Божьего, который всем остальным приходилось терпеть два раза в неделю. А потом тебе, загадочно и незаконно, вдруг дали новое имя, и преподаватель сказал, что ты можешь к нам присоединиться, после того как усвоишь пройденный материал. Я, по правде говоря, не хотела, чтобы ты ходила на Закон Божий. Это был единственный предмет без тебя, что-то настоящее и только мое. А теперь все закончится. Полчаса за переписыванием моих молитв – и дело в шляпе. Придешь на урок и будешь знать все то же, что и я. Какое там, будешь знать даже больше, потому что я упускаю какие-то мелочи, скрытые значения, а у тебя от природы есть для них сенсоры.
«Что значит чрево?» – спросила ты меня на большой перемене, растерянно глядя на молитву из моей тетради.
«Откуда я знаю?»
«Разве вам учитель не объяснял?»
«Нет, – ответила я. – Ты просто выучи наизусть – и готово дело».
«И это… – Она перелистнула несколько страниц и прочитала: – Видимого всего и невидимого. Что это за невидимое? Воздух? Внутренние органы?»
«Если ты хочешь ходить на Закон Божий, тебе нужно прекратить задавать дурацкие вопросы, – сказала я, а ты закатила глаза. – И прошу вернуть мне тетрадь до выходных».
Последняя просьба, разумеется, была полностью проигнорирована. Мне не нужна была тетрадь, ты могла вернуть ее мне в школе. Но я боялась, что ты, если проведешь слишком много времени читая молитвы, придешь на урок и будешь делать вид, что очень умна. Поэтому я решила пойти к тебе без приглашения и потребовать тетрадь назад, холодно и гордо, как какая-нибудь несгибаемая мученица.
У вашего дома был общий забор с учителем биологии, от которого разило грушевой ракией и который любил теребить и трепать твои косы. Я смотрела на его маленькое окно, пока открывала твою калитку – ржавый механизм, с которым я и в полночь могла справиться одной рукой. Как-то раз он, эта пьяная жаба, сказал мне, что я должна брать пример с тебя, после того как поставил мне в дневнике тройку по биологии. От калитки до ваших дверей было всего десяток шагов, но этого хватило, чтобы я вспомнила все причины, по которым была зла на тебя: учитель биологии, Закон Божий, моя тетрадь, которую ты должна была как минимум вернуть мне, и это прилепленное блестящее р, которое издевалось надо мной с поддельной фамилии на вашей входной двери, – все это заставило меня вместо легкого стука три раза ударить кулаком по двери.
Армин открыл так быстро, что я подумала, а вдруг он все время стоял перед дверью и наблюдал через глазок, как я злюсь? Стоило мне его увидеть, я сразу забыла, на что злилась, – его присутствие напомнило мне, почему по-прежнему есть смысл быть твоей подругой. Я могла бы прийти когда угодно, открыть калитку, сделать десять шагов по двору и постучать, потому что ты и я, в конце концов, самые близкие подруги. А он будет тут, он и его ладони, испачканные красками, кончик среднего пальца левой руки, отекший и черный из-за того, что постоянно держит толстый фломастер для эскизов. Каким невероятным казалось мне тогда то, что у кого-то есть брат, который живет, ходит, ест и спит там же, в том же месте, что и ты, кто-то, кто тебе не отец, не мать, не товарищ, кто тебя знает лучше всех, хотя ничего о тебе и не знает.
«Лейла ушла на шахматы», – сказал он мне.
«У нее моя тетрадь по закону божьему», – объяснила я серьезно, как только могла.
В доме стояла тишина, ваша мать была на работе. Армин и я вместе вошли в твою комнату. Я была там сто раз, но без тебя комната выглядела иначе. При нем мне было стыдно из-за твоего беспорядка, как будто это каким-то образом бросает тень и на меня, потому что мы подруги и одного возраста.
Помню большой плакат с Дженет Джексон, который ты позже заменишь зеркалом, помню вывернутые наизнанку пижамные штаны, растянувшиеся на смятом постельном белье, как уличный бродяга, помню, что под твоим письменным столом опасно покачивалась башня из комиксов, от которой нам перед поступлением придется избавиться ради душевного равновесия твоей печальной матери, помню шахматного коня на твоей полке, где несколькими годами позже появится фотография Армина на пляже, помню и то, что два носка, один клетчатый, другой белый, сидели на стуле, охраняя твой престол от нежелательного узурпатора.
Мне хотелось выйти оттуда как можно скорее. В хаосе на твоем письменном столе Армин нашел мою растрепанную тетрадь и протянул мне. В рубашке и брюках он был похож на вашего отца – или, по крайней мере, на фотографию вашего отца на горке с фарфором. Его глаза блуждали по твоей комнате без всякой реакции, иногда останавливаясь на моем высоко завязанном «хвосте». Я хотела запомнить его таким – отглаженным и спокойным, – чтобы слова моего отца были посрамлены и разбиты этими неоспоримыми доказательствами.
Папа сказал, что, вероятно, это Армин и его хулиганье отравили соседских собак. Сказал, что сформировалась какая-то банда, что одного из них уже задержали за рисунки на фасадах и что они шляются туда-сюда, как бездомные псы, и неизвестно чем занимаются.
«Теперь его зовут Мар-ко Бе-рич, к вашему сведению, он больше не Армин», – добавила, нахмурившись, моя мать, как будто в первый раз услышала, что кого-то зовут Марко, передавая отцу через стол золотистую курятину.
«Марко Берич», – повторил с отвращением отец и взял с блюда еще одну жирную куриную ножку. Обгладывал он ее, по-прежнему нахмурившись, а я не решалась ни возразить ему, ни спросить, с чего бы Армину было травить чью-то собаку. Я ничего не сделала, Лейла. Я молчала и ела.
«Это та?» – спросил меня Армин, глядя на тетрадь так, будто впервые видит предмет такого рода. Теперь мне следует уйти, подумала я. Но мне не хотелось. Мне понравилось то, как он на меня смотрел, будто и мне шестнадцать лет и у меня есть менструация. На твоем письменном столе, рядом с маленькой фиолетовой настольной лампой без лампочки, лежала жемчужная сережка. Я схватила ее и сунула в карман, пока Армин не видел, настолько автоматически и точно, словно в этом и заключалась цель моего визита.
«Можно я выйду во двор? Мне кажется, я потеряла сережку, там, под черешней», – соврала я.
Про себя я уже придумывала способы, как тебе это пересказать, чтобы объяснить исчезновение твоей сережки, одновременно понимая, что никогда не смогу это сделать, потому что ты все поймешь. Прочитаешь меня как телефонную книгу и больше не позволишь приходить к тебе. А ведь мне придется, правда? Мне нужно будет дать какое-то объяснение. Что, если ты скажешь им, маме и Армину, за ужином, что не можешь найти свою сережку? Что, если твой брат узнает, что я обманщица, у которой даже менструации-то нет?
Я шла за ним путем, который ведет за ваш дом, сережка в моей потной ладони стала горячей, я была уверена, что через маленькое окно дома напротив за мной наблюдает вонючий учитель биологии. Этот увидит все, подумала я. Выдаст меня, подлый боров.
Армин шел прямо, по-взрослому, а я за его спиной делалась позорно маленькой. Держал руки в карманах брюк. Волосы у него были как твои – темные, нечесаные, как будто кто-то их забыл на его голове. Когда мы дошли до старой черешни, он достал из кармана сигареты и закурил одну.
«Это же вредно для здоровья!» – вырвалось у меня, и в тот же миг я пожалела. Какой же дурой я могу быть!
«Вредно для здоровья маленькой девочке завязывать хвост».
«Неправда. Это ты выдумал».
Он улыбался, как будто ему была очевидна какая-то шутка, которая от меня ускользнула. Я попыталась понять, что происходит. Я сказала неправду – и сейчас я с Армином. С Армином. Я в его дворе, в вашем дворе, и мы разговариваем. У нас разговор.
«Кроме того, я не маленькая девочка».
Тогда он и сделал это, то, о чем я никогда тебе не сказала, даже много лет спустя, когда мы похоронили Зекана и когда никто больше не помнил о той сережке. Я тебе никогда не призналась, что той зимой, когда у тебя началась менструация, твой брат распустил мне волосы. Он приблизился ко мне настолько, что я могла рассмотреть шрам на его щеке. Когда-то давно ты сказала, что это у него после падения с велосипеда, он вернулся домой весь в крови, а твоя мать причитала, что он такой незрелый, имея в виду, что в доме он единственный мужчина, должен быть осторожнее. Сейчас шрам оказался невероятно близко от меня, поднимись я на цыпочки, могла бы прикоснуться к нему языком. Никогда раньше я не была в такой близости от мужской рубашки. Она была чистой и подкрахмаленной, пахла лимоном. Отец носил полицейскую форму и не позволял нам даже прикоснуться к нему перед уходом на работу, чтобы ничего не помять. Сейчас я могла изучать ее нити, мужской рубашки. Она была мягкой, хотя я и не могла до нее дотронуться. Мягкой для глаз. Армин, с сигаретой во рту (дым лез мне в глаза, но я не хотела их закрывать), прищурился, будто решал, какой шахматный ход сделать теперь, и обеими руками потянулся к моей резинке для волос. Склонился надо мной, как дерево. Стянул с моей головы бандану и развязал «хвост». Он был нежен, словно ему не впервой делать такое. Волосы рассыпались вокруг головы. А я подумала, что мне не двенадцать, а сто двенадцать лет и что весь этот век я провела, ожидая, что Армин Бегич распустит мои волосы.