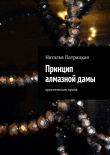Текст книги "Парижские дамы (Веселые эскизы из парижской жизни)"
Автор книги: Л. Нейман
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Глава IV
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Мой друг Клавдий женился.
Прежде он жил в самых отдаленных частях города; в последнее время, напротив, переселился на новую улицу в центре города.
Действие происходит в начале лета.
В один прекрасный день он без всякой особенной цели подошел к окну, уткнулся носом в стекло и долго и внимательно что-то рассматривал; потом он обратился к жене, сидевшей в той же комнате, и сказал ей, что он сейчас любовался на одну молоденькую девушку.
– Прелесть что за штука, – прибавил он к этому.
– Я рада этому, – отвечала супруга с оттенком угрозы в голосе.
Это не мешало, однако, супругу в несколько приемов подступать к окошку; в своем увлечении он даже не боялся возбудить ревность супруги.
Молодая особа, казалось, напротив, не обращала никакого внимания на моего почтенного друга.
Ей было не до того – она вышивала у окна. Лето, между тем, подвигалось вперед.
Клавдий отправил свое семейство на дачу.
Сам он вел холостую жизнь, обедал в трактире и не думал более о своей соседке. Когда он через два месяца возвратился домой, то служанка обратилась к нему:
– Здесь была какая-то молодая дама; она желала говорить с вами.
– Молодая дама? Она была одна? – живо спросил Клавдий.
– Нет, – отвечала служанка, смеясь, – она приходила с своей нянькой.
– Г-м, с нянькой!
– Она опять придет.
Послышался тихий звонок.
«Дело, – подумал Клавдий, уходя из комнат, – если только это та дама, как я догадываюсь, то, как видно, она не теряет даром времени, и хорошо делает. Ничего; это можно».
Невольно как-то вошел он в гардеробную и намочил духами руки и бороду. Затем возвратился в салон, куда была введена незнакомка.
Нянька осталась в передней.
Мой друг Клавдий отворил дверь и увидал, что это была она – молодая девушка.
Вдруг почему-то на него напал редкий припадок откровенности.
На мгновение он замялся и пробормотал:
– Дитя мое – не ошибайтесь: мне уже сорок лет.
Слышала ли она это? Это известно только Богу и ей.
Впрочем, друг мой произнес это признание не слишком громко.
Кроме того, звук его голоса был заглушен другим, более сильным звуком, именно рыданием, выходившим из уст молодой девушки.
Рыдание! Да, она плакала.
Это было причиною, что наш сорокалетний юноша, растроганный, поспешил предложить ей кресло и поместился около нее, горя нетерпением узнать, какого рода утешение может он предложить ей для смягчения ее раздирающей скорби.
Как капли дождя, падающие на листья розы, слезы струились с лица молодой девушки и капали сквозь пальцы.
Она пришла, как соседка к соседу, поэтому на ней не было перчаток.
– Ради Бога, – сказала она наконец, – не думайте обо мне дурно.
– О, не беспокойтесь – я не до такой степени строг, – отвечал Клавдий.
Это говорили его молодые стремления; старый скептик молчал. К этому Клавдий прибавил, смеясь:
– И я не до такой степени глуп.
Он почувствовал, что при этих словах маленькая ручка соседки, которую он держал в своей руке, слегка дрогнула.
– Сударыня, – начал он не совсем твердым голосом, – мы знаем друг друга давно. Поэтому меня нисколько не удивляет то, что вы сделали честь своим посещением. Мы должны смотреть друг на друга, как старые друзья, которые хотя никогда не говорили между собою, но зато видались ежедневно. Вы очень хорошо знаете, что это почти одно и тоже. По всей вероятности, вы имеете какую-нибудь надобность во мне.
– О да, и самую настоятельную.
– В самом деле? – воскликнул Клавдий.
«Сказал я ей или нет о том, что мне сорок лет? – подумал предатель. – Сохрани Бог, теперь мне только двадцать пять».
– Но, – продолжал он, – если вы нуждаетесь в моем добром совете, то скажите только, отчего вы плачете.
– Мне совестно!
– Не любите ли вы кого-нибудь?
– Я, право, не знаю, – сказала она, потрясая головой. Она была подобна молодому, качаемому ветром дереву, с которого падали капли росы.
Лице и платье моего друга были окроплены этими блестящими жемчужинами.
Наступал вечер.
Внезапно склонила она свою прекрасную, удрученную горем головку на плечо моего друга.
– Ах, я очень несчастна! – сказала молодая особа. – Мой отец воспитал меня в незнании настоящей жизни. Большая вина на его совести, но он также наказан. Его дела идут дурно – он должен обанкротиться.
– Что вы говорите? – вскричал Клавдий.
– То, что я вам сказала; сегодня мы получили письменное распоряжение об описи…
– Да, за неоплаченные векселя… я отчасти также был знаком с маленькими затруднениями такого рода.
– Но теперь, конечно, вы не знаете их!
Клавдий невольно наморщил лоб, но тотчас же устыдился этого.
– Скажите мне теперь, – сказал он, – сколько нужно вашему отцу для поправления его дел?
– Ах, – тихо проговорила она, – как много! нам необходимы 50.000 франков.
– 50.000 франков! – закричал почти Клавдий, подпрыгнув на стуле.
– Боже мой! – прошептала молодая девушка. Теперь рыдания ее сделались до такой степени сильны, как будто бы плакальщицы всего света собрались в салон и составили хор своим воем.
Добрый Клавдий ужасно испугался этого и пал ниц пред молодой девушкой.
Он чувствовал, что должен выпроводить эту сладко плачущую сирену, но он не знал, как к этому приступить.
Он начал с того, что дал ей понять, что 50,000 франков нельзя, так сказать, высыпать из рукава, и прибавил к этому, что он сделает все возможное, что он посмотрит…
– Но вы посмотрите; вы постараетесь – да? – спросила девушка.
Он поднял ее со стула, обвивши рукою ее талию; при этом он был поражен гибкостью и стройностью ее стана.
Мало-помалу он довел ее до передней, где ждала ее нянька.
– Завтра, – сказал он, – я посмотрю, что я могу сделать; а вы ободритесь и осушите ваши слезы. Скажите мне ваше имя!
– Завтра я вам напишу!
Они дошли до порога двери; молодая девушка бросилась ему на шею и сказала:
– Я приду опять!
– Конечно, – послал ей в ответ Клавдий.
Затем он погрузился в бездну предположений, из которых не мог найти выхода.
Ах, слабое сердце! он охотно поверил бы в чистоту этого ребенка с его ангельским личиком, но он не мог верить, не мог рисковать.
Быть может, малютка была приведена к нему отчаянием и горем или сердечным влечением, быть может, она только помощница какого-нибудь негодяя, которого она называет своим отцом.
– Сама ли по себе пришла она, или была подослана? Как это знать?
Он размышлял далее. «Пятьдесят тысяч франков, – ворчал он сквозь зубы. – 2.500 золотых изображений моего императора, моего монарха».
– К черту! – вскричал он громко. – Я должен уехать; если я останусь здесь, я должен буду отдать ей эти деньги.
И он уехал к жене.
Что можно вывести из этой истории? И зачем с молоденькой девушкой была нянька?
– Юстина, мы идем отсюда к моему двоюродному брату; он, бедняжка, не совсем ладит с моим отцом и потому отец не должен знать ничего о нашем посещении.
Юстина смеялась. Эта нянька была отличной горничной. Она думала: «Теперь моя барышня не будет уже меня бранить, – она у меня в руках».
Глава V
БАЛ-МОБИЛЬ
«Можно ли прожить день без танцев?» Это любимая поговорка парижан.
Едва только пепел постного времени, подобно горному савану, покроет мишуру карнавала, повсеместно открываются другие заведения для танцев; во всех частях города гремят так называемые польки нужды (может быть, постные польки) и другие.
Нужно упомянуть в особенности о так называемом бал-мобиле. Бал-мобиль прежде был не что иное, как скромная беседка в одном из уголков Елисейских полей, и посещался только искательницами приключений, гризетками предместий и неустрашимыми конторщиками; но почему-то внезапно поднялся он из мрака неизвестности, оставив далеко за собой самых гордых из своих соперников.
Сегодня суббота, большой день большого собрания; вторник – малый; в четверг прилив множества танцующих из других танцклассов, а о воскресенье нечего и говорить.
Приличные люди, известные лоретки и однообразно проницательные покровители считают низким для себя смешиваться с воскресной толпой; эти воскресные собрания так мало уважаются самим управлением заведения, что воскресная плата за вход понижается до 1 франка 50 сантимов, тогда как в дни, назначенные для аристократии, пропуск в святилище стоит не менее 5 франков. Конечно, как и везде, платят мужчины, а особы прекрасного пола не платят ничего.
Довольно бросить один взгляд на длинный ряд экипажей разного рода – улитко– и колбасообразных, на милордов и цитадин, наполняющих вдовью аллею – чтобы убедиться в том, что бал-мобиль посещается сливками Бреда и улицы Жоржа.

Наступила ночь; газ зажжен, смычок капельмейстера, представляющего в этом увеселительном месте Орфея, подал знак начинать танцы.
Кавалеры (пятифранковые) бросаются со всех ног к оркестру и увлекают за собою в своем стремительном деле множество роз, время цветения которых, к сожалению, давно уже миновалось. Начинается бал, описывающий огромную спиральную линию вокруг павильона, где играет полковая музыка.
Очень много было говорено о том новейшего изобретения, достойном удивления танце, который называется… его не называют, но охотно бегут туда, где можно на него посмотреть. На бал-мобиле он нисколько не лучше, чем в других местах.
Те же, скорей странные, чем соблазнительные позы, те же прыжки с теми же странными вывихами.
Все это давно уже приняло окаменелые и стереотипные формы.
Юные адепты этого современного танца Пирра вносят достойный удивления порядок в этот хаос.
Теперь существуют особенные ординарные профессора для этого искусства; прежде они вдохновенно отплясывали на сцене.
Эти добродетельные наставники юношества обучают искусству толкаться в обществе, не попадаясь в руки полиции.
Таким образом по определению строгой дидактики помянутый танец есть только символ, воспоминание, идол, принятая оргия. Он неприличен в особенности потому, что здесь мысль соединена с своевольством. В сущности же он менее неприличен, чем известный полутактный вальс (Walzer im Zweiviertel-Tact), принятый одобрительно в высших кругах и выполняемый с пристрастием на семейных вечерах; точно также, как фанданго, болеро и мазурка, публично выполняемые на театральной сцене.
Приветствую тебя, молодая Ирида, с твоею пробуждающеюся миною и с твоим снегоподобным передником.
Куда идешь ты так поспешно с своим вечным букетом в руке? Ты проталкиваешься во все группы и шепчешь каждому на ухо какое-то таинственное заманчивое слово.
Как тяжка работа продающей цветы! Она предлагает, если я не ошибаюсь, каждой танцовщице один и тот же букет.
Букет остается неизменяемым, так как продающие его женщины слишком переменчивы.
Этот букет цветов не совсем обыкновенный: его не покупают, его только рассматривают, любуются им и продающая его женщина довольна.
Можно, однако, и не до такой степени простирать свое бескорыстие и все-таки торговля пойдет блестяще: когда недостаточно обнюхать приветствие, но не мешало бы его прочитать – меняются с вами карточками.
Какою простою и душистою речью веет от резеды и фиалки.
Вот идут две дамы, ревностнейшие заступницы, покровительницы и дорогие гости бал-мобиля.
Хозяин заведения кланяется им и жандарм удостаивает их особенного внимания.
Вот уже восемь дней, как они сделались неразлучными подругами и останутся такими, по крайней мере, еще на всю ближайшую неделю, если только не станет посреди их спорный любовник и не обратит неразлучных друзей в заклятых врагов.
Одна из них, с открытой головой и голыми руками, принадлежит к породе гризеток. Это значит, она еще не променяла левый берег Сены на Жорж-плац, счастливую мечту молодой Аспазии улицы де ля Гари.
Другая занимает высшую ступень и успела уже разорить многих.
Она живет в элегантной части города, и с ее стороны было бы распущенностью подражать художнической небрежности студентки.
Самостоятельная дама танцует здесь не иначе, как со шляпой на голове и обернутая в длинную шаль, концы которой достигают до пят и взметают благородную пыль.
Таким образом, эта шаль для новейшей афинянки заменяет платье со шлейфом.
Но кто это приближается к этим дамам и кланяется им с комическим выражением глубокого почтения? Его платье и в особенности жилет с широкими разводами не допускают никакого сомнения насчет его провинциального происхождения.
Едва успевши прибыть, этот провинциальный господин чувствует уже потребность ослепить своим блеском слабую бабочку и соединить где-нибудь (или когда-нибудь) свое чувствительное сердце с другим, не менее чувствительным.
На этих дам или, по крайней мере, на одну из этих дам он обратил свои взоры, он не ошибся в расчете!
Он начал разговор вкрадчивым голосом и чрезвычайно остроумными и верными замечаниями, что очень жарко, что после танцев дамы должны чувствовать жажду, что и они, вероятно, испытывают на себе это.
После этого вступления он предложил им чем-нибудь подкрепиться.
К этому он остроумно прибавил, что если он не умел их разгорячить, так как сам не силен в остроумии, то да будет позволено ему их по крайней мере прохладить.
Гризетка, также как и лоретка, охотно приняли предложение и пили и ели, не стесняясь, широкой рукой. Затем эти дамы без церемонии соглашались на приглашение провинциала и он, торжествующий, ведет их в ближайшую беседку. Там вперемежку с пением происходит следующий разговор:
Лоретка (поет).
Я совсем не похожа на святошу:
Я люблю вино и лакомый кусочек!
Провинциал.
Извините меня, мадам, если я вас прерву на минуту. Не позволите ли вы мне предложить вам что-нибудь? например, аршаду или сахарной воды.
Лоретка.
О как это гадко!
Гризетка.
От этого, пожалуй, стошнит.
Лоретка (поет дальше).
Ради Бога, не подливай мне воды в вино. А лучше, налей мне абсенту, ей!
Гарсон! стакан рому!
Гризетка.
А я буду пить абсент, Альфред сегодня получил деньги по векселю. Эту ночь нужно провести повеселее!
Провинциал (глядит на них с изумлением):
Черт возьми – вот редкие прохладительные напитки – ром и абсент!
Лоретка (поет).
Я живу на векселя,
Из которых ни один не оплачен,
Долгов у меня, как песку в море.
Но это меня ни сколько не стесняет.
Провинциал.
Вы, должно быть, хорошо знакомы с экзекутором, мадам. А песенка очень мила!
Лоретка.
Неправда ли, monsieur? Ее сочинил один из моих поклонников. Она с солью. Ты его знаешь, Бланка – это остроумный маленький Гонтром.
Вот пришел экзекутор со своими бумагами. И хотел описывать мое имущество.
Но он увидел меня до такой степени мужественною и хладнокровною.
Что едва мог унести ноги.
Гризетка.
Экзекутор едва унес ноги. Это забавно!
Провинциал.
Очень забавно! В какое осиное гнездо я попал?
Кельнер приносит ром и абсент.
Не угодно ли вам сигар?
Лоретка.
Еще бы!
Гризетка.
По пяти су за штуку, но не тех, что ты подавал недавно, понимаешь, малютка?
Провинциал (совершенно теряясь).
Как, вы курите?
Лоретка.
Да, немного.
Гризетка.
Конечно!
Лоретка.
Однако, откуда сюда залез этот верблюд?
В каком парнике выращена эта юная трава?
Провинциал (вне себя).
Нет никакого сомнения, обе они принадлежат парижской преисподней.
Дамы закуривают свои сигары. Лоретка начинает новую песню, но она заглушается оркестром.
Глава VI
ДАМЫ В CAFÉ-CHANTANT111
Постоянно увеличивающееся количество заведений, известных под именем café-chantant, служит верным признаком возрастающей страсти парижан к музыке. Летом они помещаются в Елисейских полях. С наступлением осени они переносят своих пенатов и пюпитры с нотами по большей части на бульвары, в предместья и в Пале-Рояль. Здесь за чашкой кофе и за бутылкой пива находят удовлетворение своим артистическим наклонностям мелочные лавочники, rentiers[1]1
Рантье (фр.).
[Закрыть], молодые приказчики и судейские писари, все посещающие Консерваторию или императорскую музыкальную Академию, а также те, которые могут ходить в оперу на Тамплерском бульваре только по праздничным дням.
Облитые жгучим светом полудюжины ламп, проходим мы ведущую к святилищу колоннаду, подымаемся на 2 лестницы и входим в громаднейший зал, где гости, говоря без преувеличения, сидят так тесно, как сельди в бочонке. Вся эта публика болтает, смеется, пьет, слушает и курит.
Здесь находятся много дам, во всяком случае, как видно, хорошо освоившихся с табачным запахом.
Когда разрываются громадные клубы табачного дыма, одевающего столы и людей голубоватым покровом, или когда, по крайней мере, глаза наши привыкают к ним, тогда можно разглядеть на заднем плане залы эстраду и на ней 5 гурий в бальных платьях – это примадонны этой табачной академии; недалеко от них помещается пианист, который с надлежащею ловкостью бьет по клавикордам: Paris ist voiler Thalbergs[2]2
Париж полон Тальбергов (нем.). С. Тальберг (1817–1871) – уроженец Швейцарии, композитор и известнейший в XIX в. пианист-виртуоз.
[Закрыть].
На какую ни посмотришь даму – все они хороши или, по крайней мере, приятны. Es sind darunter viertel, sogar halbe Talente: wahrscheinlich Absetzer des Conservatoriums oder Accessisten vom vierten Range[3]3
У них есть четверть, даже половина таланта: вероятно, отбросы Консерватории или четырехразрядные ассистентки (нем.).
[Закрыть].
Привычный глаз видит тотчас, что у этих кофейных и пуншевых сирен все рассчитано на туалет и на лукавство.
Марго, цветущая девушка, бродит беспрерывно из залы на эстраду и обратно. Громадные букеты цветов, грудами лежащие у ног этой богини доказывают, что к ней и здесь, как в Императорской Академии, относятся с восторгом и горячими симпатиями.

Так как здесь нет обыкновения бросать букеты, то эго приветствие пересылается через надежные руки – Ириды-Марго, продавщицы цветов.
В стороне виднеются несколько львов с настоящими гривами; во всяком случае, присутствие их в этом романтическом подвале имеет другие, – не музыкальные цели.
Что касается собственно публики, то она совершенно беззаботна: она пьет и аплодирует.
Прибитый у входа писаный лист бумаги содержит программу вечера; по ней гости узнают, какие отрывки будут выполнять госпожи Пальмира, Анжелина, Розальба и Аврора.
Другая, менее приличная афиша дает знать гг. любителям музыки, что закуски дешевле 50 сантимов не отпускаются; впрочем, для смягчения этого знаменитого предписания цены составлены таким образом, что каждый может обойти предписанный минимум. Другая часть этого драконовского закона предписывает гостям брать новые порции для каждого отделения концерта.
Дамы по порядку обходят гостей и собранные ими деньги делятся потом между ними, соразмерно по их жалованью.
Чрезвычайно грустно видеть, как эти милые создания в великолепных пышных головных уборах, камчатных платьях и горностаевых мантильях бродят от стола к столу, собирая в корзину из-под сухарей грязные медные деньги. Это самый жалкий род нищенства с цветами в волосах и в белых перчатках.
Персонал труппы набирается по образцу других драматических заведений.
Сначала является младая певица романсов, которая выходит, опустив глаза в землю; она клянется в вечной любви Виктору или Павлу.
За ней следует Дива, певица рулад. Потом Сокол, дочь Кастилии, драматическая певица альтом, несчастная Леонора и возлюбленная прекрасного Сигизмунда.
Далее Дугацан, комическая певица; она постоянно забрасывается букетами цветов, когда поет Schnellwalzer-tempo[4]4
В темпе быстрого вальса (нем.).
[Закрыть]:
Милая Гетти-брюнетка,
Адельгонда – моя блондинка
– и т. д.
Наконец, парадная певица, вторая Деяцет:
Евгения, гордый корабль,
Украшенный множеством разноцветных вымпелов,
Отправляется к берегам Италии
Где цветут цветы и женщины!
Во всем этом, строго говоря, нет музыки, но только некоторое подобие ее. Программа состоит из пошлых романсов или из очень трудных пьес, которые непонятны для большинства публики. Между этими приезжими труппами полувиртуозов иногда встречаются такие личности, которые при большей обработке голосов могли бы занять видное место на театральной сцене. Несмотря на успех этих представлений (успех ничего не доказывает), все-таки на них нельзя смотреть, как на школы для музыкального образования масс народа. Всего лучше и выгоднее было бы как для предпринимателя, так и для посетителей, если бы кто-нибудь открыл большое cafe, где хорошие кушанья и напитки подавались бы по умеренной цене и где вместо многих знаменитостей 1-й величины, собирающих на свои шелковые платья – были бы ангажированы 2 дюжины хороших хористов, которые за 50 су входной платы выполнили бы прекрасный ансамбль из пьес французской, немецкой и итальянской школы. Это было бы понятно и оценено, и народ, который любит простое и возвышенное, вскоре бы отвык от пеленок. А то он по необходимости отравляется поддельным напитком, так как ему не предлагают благородного вина.
Глава VII
УСТАРЕВШИЕ ЛОРЕТКИ И ИХ НАСЛЕДНИЦЫ
«Не надоедай мне, мама – ступай лучше на рынок!»
Эта фраза бросает мрачный, но, к сожалению, достаточно яркий свет на нижние слои смеющегося мирового города, переполненные пороками и нечистотами всякого рода.
Да, это правда!
Целые поколения, целые плеяды человеческих созданий родятся, живут и умирают без всякого понятия о нравственности, о более разумной жизни.
Здесь мать и дочь гнетут и развращают и высасывают друг друга.
Червь разврата установил между ними грустное равенство.
Первые, матери, в старости делаются служанками тех, кого они сформировали подобно себе. Вторые стыдятся своей беременности и считают ее развратом, и алчны иногда к деньгам до такой степени, что мать, полная ненависти, продает свои лохмотья, идет просить милостыню и предостерегает того, кто подает ей, словами: «Да сохранит Бог ваших сыновей от моей дочери».
Эта трагедия разыгрывается в веселом Париже каждый день.
Счастливым может назваться тот человек средних лет, который не узнает опять в этой подавленной стыдом и несчастиями женщине – свою первую любовь.
В наследницах тот же самый разврат, так же неумолимый, хотя, как кажется, не с таким мрачным оттенком.
Но наружность обманчива.
Наследницы те же лоретки, но только еще неустаревшие, и должны рассматриваться с точки зрения общения сердца и кармана.
Для верной обрисовки этих милых созданий художник-писатель, конечно, не осмелится слегка относиться к ним: он должен попасть в сердце и потом анатомировать его.
Покров, за которым скрывается житье-бытье этой парижской гурии, должен быть снят и разорван рукой, не знающей пощады.
Прежде были обманщики и обманутые или, как принято говорить: обольстители и обольщенные. Хотя и тогда любовь была продажна, но ее все таки называли любовью и тщательно скрывали ее алчную, корыстолюбивую сторону; она давала покупщику некоторый вес и вдобавок некоторое количество увлечения.
Кто бывал обманут по этой купле, Бог знает; по крайней мере, тогда странности несколько лакировались: неверность прикрывалась притворством, порок вежливостью.
В прежнее время мы видели, как лоретки обманывали своих глупых покровителей – занимательное зрелище того, как обманутая невинность надувала суетность старика: это была комедия, но не драма.
В то время или лоретки были лучше, или мы были простодушнее. Теперь мы далеко от этого.
Теперь торг производится открыто. В этой игре нет уже ни вероломства, ни обмана. Та и другая сторона знают отлично друг друга.
Например. Для лоретки старого времени, вынужденной объясниться с своим забавным покровителем, ничего не стоило разорвать облако основательной ревности такого рода поэтическим воззванием: «Как? меня подозревать? Но разве ты не знаешь, что всякая женщина должна гордиться тобой и сочтет за счастие принадлежать тебе, Альфред!» Этому Альфреду не менее 70 лет и он ходит с костылем.
Тем не менее, он обольщается этим возбуждающим признанием.
Теперешние лоретки действуют таким образом:
Альфреду только 45 лет; она на 25 лет моложе годами, но зато на 25 лет богаче опытом. Его не обманывают уже; гораздо важнее то, что он сам хочет, чтоб его обманывали и не раз; он на это не обращает внимания.
Здесь дама занимает оборонительное положение; она пробует плакать и лепечет:
– Я не люблю тебя больше!
– Ты не любишь меня больше? – переспрашивает тот флегматически, – нет, Памела – эта роскошь будет тебе не по средствам.

Лоретка возражает на это:
– Чем больше я на тебя гляжу, тем больше я его люблю.
Это, что называется, действительно честно и откровенно. Порядочные люди теперь не покупают уже заглазно. Поэтому любовники такого рода уже не бранятся и не бросают друг другу в голову лопатами или кочергами.
Количеству любви и верности ведется бухгалтерский счет и все доставляемые товары носят штемпель фабриканта.
Другая прелестная Физима из квартала Бреда отвечает своему ворчливому До до сухим бухгалтерским тоном:
– С тех пор, как мы живем с тобой – ты мне еще ничего не подарил, кроме маленькой собачки и букета в 10 су – так хорошо же, и я буду любить тебя на 10 су и на столько, на сколько стоит маленькая собачка.
Откровенно сказано и звучит как оплаченный вексель; и, так как Додо не чувствует себя удовлетворенным этою любовью, то ему – остается только преклониться и принести еще другую собачку.