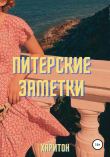Текст книги "Питерские каникулы"
Автор книги: Ксения Букша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
"Все-то у меня не слава Богу", – подумал я досадно. Лошадиные подвиги Катерина не видела, а вот как я в воду упал – это пожалуйста, завсегда.
– Десять долларов, – сказал я, вваливаясь в квартиру, бабушке. Заработал честным трудом!
– Каким таким честным трудом? – подозрительно спросила бабушка, зевая.
– Из Невы человека спас! – гордо ответил я.
– Очень хорошо, – не слушая, сказала бабушка, – иди же спать.
Я глянул на часы. Время подходило к десяти.
– Извини, – говорю, – мне на митинг опять пора.
– На какой митник-магнитник? – проснулась бабушка. – А физику когда учить будешь?
– Ну, спроси меня что-нибудь по физике, – предложил я, не расшнуровывая кроссовок.
Бабушка растерялась и рассердилась.
– Да пошел ты со своей физикой, – высказалась она и отправилась смотреть телевизор; а я крутнулся, ссыпался по лестнице и побежал на митинг выдемборцев.
Я не опасался, что встречу кого-нибудь из дыбороссов; по моим расчетам, все они должны были отсыпаться в домах. Ведь только я так крут, только я двухпартиен.
6
В отличие от вчерашнего, митинг выдемборцев я нашел сразу: по вождю Пармену. Он торчал бородатой макушкой назад и вверх, стоя на ящиках из-под капусты, а Варька и кривоногий Герман придерживали эти ящики, чтобы они не разлетелись. В руке у Пармена была газета "Справедливость": он использовал ее в качестве матюгальника. Из горла Пармена вырывались речи.
– Наши чиновники – взяточники и воры! – кричал Пармен. – Но мы-то знаем, где собака порылась! Хозяйственная политика, при которой трехсотлетия приходится ждать триста лет, преступна!
Народ останавливался послушать Пармена. Варька сразу заметила меня и быстренько приплела к делу:
– Слушай, землячок, принеси-ка нам мороженого. Ужасть как жарко.
В самом деле, жара была хуже прежнего. Земля вся пылала, народ еле шел, и даже фонтан в полукруге собора был какой-то приторный.
Я зажал в руке деньги и помчался покупать мороженое. Оно стоило пять рублей. Я вручил продавщице две десятки и попросил четыре стаканчика. Продавщица выдала товар, а потом дала мне семь рублей сдачи. Я бестрепетно принял их и потребовал у нее еще два стаканчика. Продавщица подозрительно покосилась на меня, смахнула пот с усиков, выдала еще два и уже как-то свирепо дала пять рублей сдачи.
– Еще один можно?
– А сразу, молодой человек, вы не могли? – прорвалась продавщица, но стаканчик все-таки дала.
Итак, я оказался обладателем семи стаканчиков мороженого. Они стремительно таяли. Нести их было трудно, но я донес.
– Ждри, – объявил я Варьке.
Я решил с ней не церемониться, раз она моя землячка.
Варька взяла один, Герман – другой, третий я. Но оставалось четыре штуки.
– Пармену дайте, – предложила Варька.
– Ты дура, – заявил Герман. – Раздайте народу!
Я решил выполнить волю партии немедленно. Слушали Пармена примерно шесть человек, остальные останавливались и уходили. Я задержал нескольких из них и вручил им по мороженому. Тут же образовалась толпа, преимущественно из старушек. Тут же стояла и моя бабушка. Меня она не видела, потому что все время задумчиво смотрела на Пармена. А тот разорялся:
– Преступная хозяйственная политика! Своекорыстно! Зарыл деньги!
Варька тут меня в бок толкнула и говорит:
– Слушай, ты заметил, они мороженое любят.
– Его сейчас все любят, – возразил я. – Там, кстати, продавщица какая-то тормозная, может, беременная. Сдачи дает больше чем надо.
Варька проследила долгим взглядом из-под некрашеных ресниц, потопала серым сандаликом, да и говорит:
– А давай лоток у ней скрадем и сюда поставим.
– А давай, – говорю. – Ты ее будешь отвлекать, а я лоток через улицу перевезу и закрою российским флагом.
Варька бегом метнулась на ту сторону Невского, я тихо за ней, к тумбе холодной прислонился. Варька, хитрющая, к продавщице подкатилась и что-то ей на ушко зашептала. Предположительно:
– У вас дома утюг горит.
Или:
– Менты запретили есть мороженое и всех штрафуют.
Или еще что что-то, не знаю, а только продавщица ахнула, гикнула и помчалась, хлопая тапками, за угол; тут-то я вылетел из засады, и мы с Варькой, давясь от смеха, покатили лоток через Невский. Надо сказать, что с непривычки нам было тяжело, и мы даже провели несколько не самых приятных минут, когда застряли последи Невского на красный свет, а машины на нас громко бибикали.
– А может, назад? – затрусила Варька в тот миг.
Но я на нее прикрикнул:
– Куда назад! Риск благородное дело!
В общем, прикатываем. Бабушка моя как раз к тому времени ушла, так она меня и не видела. Фонтан дымился, звенел приторным голоском. Речь Пармена, как и солнце, как раз в зените стояла:
– Но никогда мы не доходили до такого позора! – рычал он, почти не отбрасывая тени, а Герман и еще несколько членов, как кордебалет, держали ему ящики.
Тут мы с лотком как раз подоспели. Я флаг накидываю, а Варька кричит:
– Бесплатное мороженое! Бесплатное мороженое!
Только она это прокричала, сразу налетела туча народа. И кто слушал, и кому пофиг, и кто автобуса ждал, и вообще все. Варьке даже пришлось от лотка отойти. Орава прямо на него навалилась, кое-кто жадный даже внутрь залез и чавкал там среди сухого льда. Пармен со своих ящиков пригляделся, заметил нашу инициативу и как закричит:
– Вы что, сдурели? Как же теперь управлять этими народными массами?
– А никак, – говорит ему кривоногий Герман. – Теперь пока все не сожрут, не отстанут. Кстати, откуда вы взяли мороженое, дети?
– Нам его подарил благодарный народ, – говорю я.
– А-а, – успокоился Герман. – А то мне в милицию нельзя, я армию кошу.
Люди наши тут совсем разошлись, еще бы, халява все-таки. Какой-то молодой человек отходит, у него семь палочек изо рта торчит. Девицы друг друга мороженым обмазывают. Жара-то сильная была. Варька тут за проспект вгляделась и шепчет мне:
– Смотри, как интересно. Менты бегут, свистят, а впереди продавщица мороженого.
– Точно, – говорю. – И чего это они разбегались в такую жару. Знаешь, мне, наверное, пора идти.
– Да, и мне, – засобиралась Варька. – Только надо договориться, где мы встретимся. Знаешь, давай в кафе "Рассвет".
И мы с Варькой помчались в разные стороны, причем, хотя мчались мы действительно в разные стороны, я почему-то видел, каждый раз как моргал, как она выстилает своими длинными тощими ногами, и как развевается ее китайская юбочка в пятнах от мороженого. Герман и Пармен соскочили с ящиков (груда обрушилась, загородив милиционерам путь) и тоже побежали. Каждый раз, как я открывал глаза (и чем дальше я бежал), я видел, что погода стремительно портится. Там, вдали, топотали и свистели: поднялся жаркий ветер. Я бежал по улице Казанской, кривой, как сабля; на углу Вознесенского стоял, кусая губы, председатель Комитета Финансов и думал, как ему избавиться от своих врагов. Ветер с шорохом поднимал дамам юбки; потом шумно полил дождь, и я, весь мокрый, потопал к Сенной. Дождь имел странный вкус и запах; вероятно, где-то взорвали водочный завод, и крутые пары спирта, поднявшись вверх, образовали эту тучу. Глаза мне заливало, гром гремел и молнии гудели в проводах.
Наконец, я устал и прыгнул вбок; там как раз открылась какая-то дверь, и так, боком, крутясь, я влетел в маленькую пивнушку. Там горел ночник на бронзовой львиной лапе, там пили пиво и не знали, что делается на улице.
– А вот и Егор пришел! – хором сказали Герман, Пармен и Варька. – Где ж ты гулял столько времени?
– Что вы сидите! – выложил я. – За что вы платите! Там на улице винный дождь идет, а они тут пиво дуют, как придурки.
– Так при дураках живем! – завопил Пармен.
Вся пивная выскочила на улицу и стала кататься по лужам, пропитываясь пьяной влагой.
Дальнейшее помнится мне смутно; вроде как потом мы, обратившись к посветлевшему небу, молили о продолжении банкета, но оно сделало небольшой перерыв. Потом помню деревянный дом и пруд с ласково растворенным в нем дождевым спиртом, а в пруду грелась сероглазая Варька. Стало темно, как в пушке, и невыносимо жарко. Я поднялся по лестнице, которая все время вела вверх и вбок, так что моя левая сторона сплошь измазалась белесым мелом со стенки. Из-под дверей пахло жареной картошкой и валерьянкой: бабушка волновалась за мое прошлое, настоящее и будущее. Я нажал на кнопку звонка; дверь беззвучно отворилась во тьму, и бабушкин голос произнес почему-то сверху и сзади:
– Во наклюкался-то! Весь в прадедушку!
Здесь мне, по состоянию моему, полагалось мирно уснуть, но вместо этого я почему-то не спал еще весьма долго. Мне стало жарко и невыносимо плохо от маленького кусочка задохшейся курицы, которую мне скормила бабушка ради какой-нибудь закуски. Эта курица была, конечно, отравленная; чтобы избежать злорадных бабушкиных взглядов, я сполз по лестнице вниз и долго, позорно лежал у входа в парадное, потом сидел на корточках и трясся в такт дождю, заметавшему всю пустую улицу, и старые дома цвета брусничного варенья, и слепые окна, и кирпичные заборы.
Проснулся я на полу своей комнаты оттого, что сломанное буратино злобно впивалось своим острым носом мне в живот. В дверях возвышалась бабушка.
– Вставай, – приказала она.
Я встал.
– Пошли.
Кругом было совсем светло и опять жарко, но дождь шел по-прежнему, отзываясь во дворах тихим серым звоном. Бабушка усадила меня за стол, налила рюмку водки и приказала:
– Ждри.
Я выпил, и мне сразу захорошело; серый мир за окном приобрел розовый оттенок, и дождь пошел медленно, мечтательно, вперемешку с тополиным пухом, словно бы от неба отваливались мягкие теплые кусочки, и в бабушкином взгляде я уловил тень уважения и одобрения. Заметив все это, я властно хлопнул рукой по колену и прикрикнул:
– Нну?! Доложить обстановку!
Бабушка сбегала в комнату, принесла оттуда два малюсеньких замусоленных листика и, глядя в них, доложила:
– Значить так. Завтра у тебя первый экзамен в институте Политехническом. Тамотко надоть тебе сдавать физику, слышь. Вот. Так что сегодня я тебя никуда не пущу, будешь сидеть у себя в комнате и учить, а то мне от твоего отца нагорит.
– Это тирания, – молвил я, глядя на бабушку прямо и бесстрашно. Впрочем, я, так и быть, соглашусь на это требование, хоть оно и противоречит правам меня как человека и гражданина.
– А что ж тебе делать-то, – ехидно сказала бабушка. – Ключики-то у меня.
(Надо вам сказать, что дядина квартира запиралась изнутри тоже ключом; на дверях даже были нарисованы две стрелочки: "откр" и "закр". Правда, направления стрелочек дядя нарочно перепутал, чтобы шпионы не догадались.)
Итак, бессильно скрежеща зубами, я отправился к себе в комнату. Учебник физики, помахивая страницами, бросился мне навстречу, но я уклонился от объятий, прошел к окну, распахнул обе створки и застыл, глядя в розовые кружева дождя.
7
Я не могу назвать себя умным человеком, но одно знаю с рождения: если не хочется ничего делать, то следует действительно не делать ничего. Не надо отговаривать свой организм от безделья: читать книжки, пытаться тем более работать или учиться, строгать палочку, рассеиваться у телевизора, телефона или компьютера. Надо вот именно застыть и раствориться в окружающем мире, так чтобы пустым дуновением вымело из головы все мысли, из сердца все чувства, и, собственно, чтобы тебя некоторое время не было вообще.
Так стоял я очень продолжительное время, а потом в глубине квартиры зазвонил телефон, зашаркали шаги, и послышался бабушкин крупный разговор:
– Занимается он, занимается, говорят! Подойти – не может...
На этом месте я уже выхватил у бабушки телефонную трубку и крикнул:
– ВАС слушают!
– Зачем орать-то так, – сказала бабушка.
– Это Катя, – сказали в трубке.
Я запутался и ответил еще раз, для порядка:
– Вас слушают.
– Какой ты странный, – сказала Катя.
– Не умеешь ты с девушками разговаривать, – сказала бабушка.
Она и не думала уходить, так и стояла подбоченившись.
– Слушай, приходи сегодня...
– Никуда я тебя не пущу! Тебе надо физику...
– Тут проблемы, – сказал я. – Это по какому праву?
– Ни по какому, – обиделась Катя. – Не хочешь, не приходи.
Бабушка сатанински расхохоталась; я хотел ее пнуть, но она увернулась и отскочила.
– Я хочу, хочу! – заревел я, как медведь. – Катя! Приходи ко мне в подъезд! Улица Верейская, дом такой-то! Приходи через час, я тебя ждать буду. – Тут я брякнул трубку и повернулся к бабушке: – Если еще раз ты залезешь в мою личную жизнь своими костлявыми...
– О, о, о, – передразнила бабушка. – Ладно, в подъезд я тебя выпущу. А чтобы ты не сбежал, я тебя стальной леской привяжу, рыболовной. А то знаем мы вас... ходоков.
Ровно через час я стоял на лестнице у полукруглого окошка между вторым и третьим этажом – дальше дядина леска не дотянулась. За окошком дождь дышал светом-радостью мне в лицо; Катины шаги слышались все ближе и ближе, наконец, она сложила зонтик, отряхнулась, вышла на площадку, села на корточки, скукожилась и закурила сигаретку. Личико у нее было мокрое и маленькое.
– Че, как экзамены? – спросила она насмешливо. – Все уже провалил?
– Вот, – ответил я, – завтра первый сдаю.
– Никуда ты не поступишь, – заявила Катя. – Это я тебя не обижаю, а просто чтобы ты, дурачок, времени не тратил.
Я разозлился: вот надо же, пришла и обзывается.
– Знаешь, – огрызнулся я, – уж лучше я потрачу, а там видно будет.
– Дурачок, – повторила Катя.
Она затянулась, двумя руками отлепила от лица мокрые волосы, развела их в стороны, и в полумраке среди мрамора и пыльных перил стало видно, что лицо у нее все дождем зареванное – под глазами серая тушь, а ушки маленькие, как перышки.
– Катя, – сказал я деловым тоном, подходя, – давай поцелуемся. Только не кусайся.
– Я не буду, – уверила Катя испуганно, глядя на меня с корточек.
Так целоваться было неудобно, поэтому я тоже присел к ней. Там, у пола, запахи стали яснее, и сквозь толщу табака я почуял саму Катю, – пахла она молоком, как младенчик.
– Не умею я целоваться-то, – в замешательстве прошептал я.
– Не умеешь, не берись, – фыркнула Катя, отодвигаясь.
Так бы мы и не решились, но тут послышалось отовсюду: чье-то хихиканье, как по команде; и чьи-то шаги сверху и снизу, и дождь пуще и слаще, и голоса все ближе! Я решительно двинул губы ближе к Катиным, Катя раскрыла ротик, и поцелуй удался.
– Правильно, – похвалила Катя. – Способный. Может, и поступишь куда-нибудь.
И тут леска, за которую меня привязала бабушка, натянулась, дернулась, да так, что я хряпнулся лицом на мрамор и поехал вверх, как Винни-Пух, считая ступеньки головой.
– Прощай! – замахал я руками.
Остолбеневшая Катя долго стояла на площадке, вытаращив глаза, и смотрела мне вслед, держа личико высоко, как на блюдечке.
Бабушка стояла в дверях квартиры и сматывала удочку.
– Свидание окончено, – объявила она сварливо.
– По какому праву! – завопил я, становясь на ноги.
– А по такому! – прошипела бабушка. – Я же не могу при твоей девушке кричать, что тебя другая девушка к телефону зовет!
Алгоритм я уже отработал: схватил трубку, и, не взирая на бабушку, рявкнул:
– ВАС слушают!
– Ну хоть кто-то меня слушает, – сказала в трубке Варька. – Слушай, приходи сегодня...
Лился розовый дождь по листьям, и шесть часов вечера выглядели как десять утра – ровно так же. Неба я не видел, только ровный мелкий дождь и жаркие тучи теснились в небе, а по лестнице распространялась приятная сырость. Варька прискакала быстрее Кати, уселась на перила, выставила острые коленочки и вылупилась на меня.
– Ну чо? – спросила она. – Как дела? Пока не родила?
Тут Варька прыснула на собственную шутку; положительно, на нее было приятно посмотреть.
– Чо звал-то? – подкалывала она. – И чо это за леска у тебя к ноге привязана?
Но я уже стал опытный, не проймешь; я прямо подошел, сел рядом с Варей на перила, чтобы быть вровень, и стал ее целовать.
– У-у, м-м-м, – затрепыхала Варька острыми крылышками. – Мм! Вкусненько!
Но тут бабушка опять рванула леску, и опять неожиданно. Так как в прошлый раз я сидел на корточках, а в этот – на перилах, над землей, то упал я гораздо костлявее и громче, не говоря уже про искры из глаз и прочий эффект.
– Молодец! – закричала Варька и замахала мне рукой. – Но пасаран!
– Па-са-ре-мос! – кричал я ей, будучи увлекаем железной бабушкиной рукой все выше и выше по ступенькам.
Тут показалась и бабушка; она упиралась в порог квартиры и вытягивала меня, как могла.
– Ты знаешь, сколько времени? – спросила она. – Семь вечера.
– Сама знаешь, так зачем спрашиваешь, – заметил я.
– Я за тобой следила...
(А то я не знал!)
– ...ты ни минутки не учил, все дурака валял!
С этими словами дверь комнаты, где я жил, захлопнулась, поднимая тучи пыли, лязгнул железный засов, придвинулся комод, и я остался наедине с учебником физики. Несколько секунд длилась полная тишина, а потом на улице заспорили:
– ...у Курбатова травма, он не выйдет на поле, а без Курбатова они никогда...
– Да говорят тебе, идиот, они нового игрока взяли!
Футбол я, честно говоря, не очень любил, хотя за команду родного Каменноугольского комбината всегда болел; здесь же меня увлекла живость тона и вообще новые впечатления. Я метнулся к окну. Там, внизу, стояли посреди дождя три лысины и оживленно обсуждали футбол. Руками они махали так, что только обручальные кольца мелькали.
– А я говорю, "Анжа"!
– А я говорю, "Зенит"!
Тут я понял, что пора вмешаться. Ведь иначе они не дадут мне учить физику своими спорами!
– Эй, мужики! – крикнул я. – Я точно знаю, что выиграет "Зенит".
Мужики перестроились в шеренгу, задрали головы и посмотрели на меня, все трое.
– Да иди ты, – недоверчиво сказал один из них. – Маловероятно. Ты просто болеешь за "Зенит", а мы-то, друг, денежки ставить идем. Нам по правде надо знать.
– Я по правде и говорю, – кивнул я убедительно. – Зенит выиграет!
Мужики переглянулись и посоветовались.
– Парень, а откуда такая информация?
– Сто процентов! – и абсолютно бесплатно, если не считать вашей благодарности. Можете ставить все свои деньги! – разорялся я.
– А сам-то что не ставишь тогда? – указал один из лысиков.
– А я бы поставил, да меня жена закрыла в доме, – объяснил я грустно. Мне же медаль дали: "Лучший кобель города".
И я мужикам медаль показал. Правда, валялась на полу среди прочего хлама, от дядиной собаки осталась. Собака в Крым уехала, там в медали жарко.
– А-а, – заржали дядьки. – Ну, тогда давай мы тебя по веревочке спустим. Вон от охранника сейчас принесем.
Там у них в доме подворотня запиралась на шлагбаум, и ведал этим делом охранник, такой важный мужик. Как всегда в больших городах, никто с ним не здоровался, но эти лысики были, видимо, очень душевные люди – свели и с ним дружбу в рабочее время. В общем, принесли мне веревку, я лихо слез, лысик мне один и говорит:
– Да, это видно, что ты лучший кобель. Видать, много раз приходилось вот так, по веревке-то?
– Да я, – говорю, – все больше по молоденьким, по панночкам, знаете ли.
Повели они меня через подворотню в пивнушку, что была напротив. А я в ней даже не был ни разу до тех пор, как-то все далеко гулял, а тут под самым носом такое приятное место оказалось! Продавщица фартуком нос утирает, в углу телевизор на кронштейне висит, футбол показывает. Когда мы зашли, все как раз построились, мы денежки внесли, сели, пиво заказали.
– Лучший кобель, а лучший кобель, – говорит один лысик, – тебе что, суки-то, платят, что ли, за обслуживание? Какой-то ты очень богатый.
– Просто, – говорю, – если ставить мало, то мало и получишь. А дело-то верное. Я же все знаю.
Тут судья свистнул, и вся пивная в телевизор уткнулась. – "Анжа" нападает, налетает, гавкает, как свора. "Зенит" бедный еле отбивается. Хрясь, и гол в зенитские ворота! Вся пивная так и взвыла, но лысики, вижу, опытные: грустно им, но они ничего, не матерятся. Только один кратко вздохнул – прерывисто. И мне говорит:
– Что ж ты? – говорит.
– Да ладно, – развожу руками. – Ну, десятая минута всего! Отобьются, отвечаю!
Типа все путем.
А диктор как раз говорит:
– ..."Анжа" сегодня играет очень грубо, но судьи, видимо, настроены в пользу кавказцев...
– Ах, мать твою, – говорит один из лысиков, смотрит на меня подозрительно и пиво выпивает.
В этот самый момент одного из зенитовцев, сраженного грубой игрой "Анжи", с поля без головы вынесли, ну, а через тридцать секунд кавказцы и второй гол петербуржцам забили. Как лысики это увидели, вот тут-то они и застонали! И на меня расстроенные взгляды бросают.
– Да он же, – пригляделся самый толстый лысик, – вообще никакой не кобель, а щенок! Он же, небось, еще в армии не служил!
Когда я услышал это слово, мне стало страшно, но я хоть бы что, даже рассердился якобы:
– Я вам говорю, что "Зенит" выиграет! Тем более "Анжа" играет грубо. Ну и что, что два-ноль, еще много времени!
И тут, как на заказ, "Анжа" хрясь – и третий гол. Что творилось, описать вам не могу. Лысики бросили телевизор смотреть, орут, рожи скорчили, скачут, как будто им отдавили все места (ну, я же не болельщик, вы понимаете), и вопят, что самое интересное:
– Не пускать этого гаденыша, его надо в милицию сдать! Это все из-за него!
Нашли, значит, виноватого. Я хотел свалить потихоньку, но самый толстый лысик меня ухватил за штаны и шипит:
– Ну уж нет, не уйдешь от нас, сука!
Я хотел поправить его, что я не сука, а кобель все-таки, но там было так шумно, а мужик так хотел меня побить, что я просто вырвался и побежал к выходу. Но там уже стоял вышибала с распростертыми объятиями – пришлось мне срочно менять траекторию и скакать в глубину зала. Все за мной прыгают, пивные животы трясутся, красные рожи обступают – и тут!
– Го-о-о-ол! – завопил диктор.
Народ разом от меня отвлекся и в телевизор вперился, а лысик руки опустил и буркнул:
– Ну хоть не всухую.
А дикторы в телевизоре спокойно мнениями обмениваются:
– ..."Зенит" заметно активизировался, в то время как "Анжа", кажется, выбивается из сил, и как знать, Сергей, – все еще возможно?
– Да, Андрей, я с вами совершенно согласен, бывали такие случаи... Го-о-о-ол!
Тут уже все рты раззявили, глазами радостно заблестел.
– До конца игры осталось полторы минуты.
– Что ж ты нас так, а? – говорит мне толстый лысик в волнении. – За что ж ты нас так, а, кобелина?
Как будто я в чем виноват. В общем, забили они еще два гола за эти полторы минуты; тут как раз судья свистнул, все обнимаются, касса выигрыши выплачивает.
– А-а-а! – кричит толстый лысик. – Качать его! Обнимать! Целовать!
Тут все на меня навалились потной кучей, плачут, душат, поят. Ажиотаж вокруг меня развели.
– Он лучший кобель города! – вопит лысик. – Его жена заперла, а он вырвался!
Я вчерашнее вспомнил, хотел уже не пить, да разве тут откажешься? Если бы я отказался, они бы, наверное, насильно, через воронку влили, как в том моем сне. Ну, и халява опять-таки. После пятой я и стесняться перестал, стал хвастаться:
– Могу, – говорю, – влить в себя бутылку водки на четыре секунды быстрее, чем она сама из горлышка вытечет!
И – под общие аплодисменты.
Когда на улицу вышли, уже вечер наступал, дождь давно кончился, солнце из-за домов рыжее сияло во всей красе, по мокрым улицам разливалось, сквозь крапиву и тополя просвечивало.
– Ах, как хорошо, – хотел я сказать, но вместо этого у меня получилось:
– А-а-а о-о-о!
И еще рукой я так повел, что, мол, все это мое, все кругом – мое! Все дыбом встало, солнышко восходить принялось, – это меня кто-то перевернул вверх ногами, и ночь скрыла остальное. Последнее, что помню: лица лысиков, испуганные, и моя бабушка на пороге, и чей-то абсолютно обалдевший голос:
– Ну, братцы, от такой-то жены я бы и без веревки...
8
...одним словом, экзамен по физике я проспал. Проспал я и всю субботу. Бабушка клялась потом, что она меня как бы будила, и что я даже как бы проснулся, но потом уснул опять прямо в тарелке с горячей кашей, и спал, уютно свернувшись там калачиком, хотя каша была действительно горячая и даже обжигающая. Окончательно я проснулся только к шести вечера, – хотя бабушка утверждает, что окончательно я так и не проснулся до сих пор.
В шесть вечера бабушка, уже несколько робея, вошла ко мне со своими мятыми листиками и доложила:
– Егор, у тебя в понедельник сочинение в Горном институте. Там ваш директор завода учился.
– Ну и что? – спрашиваю я. – Ты хочешь, чтобы я стал как наш директор завода?
– Конечно, – удивляется бабушка. – А ты не хочешь?
– Не, – говорю. – Я уже сейчас лучше него.
– Люди не бывают лучше и хуже, – важно говорит бабушка. – Люди все разные.
– Березки в лесу, – говорю, – тоже все разные, а все равно есть лучше и хуже. И все они одинаковые тем более.
Это я бабушку с сочинения сбивал, отвлекал. А тут как раз телефон зазвонил, даже два раза подряд, на разные лады. Сначала позвонил Мишка из партии дыбороссов и пригласил:
– У нас завтра в Стрельне будет большой митинг с праздником. Или митник с празднингом. Будем единого кандидата выдвигать. Выдвигана кандидать.
– В общем, пьянка, – догадался я проницательно. – А Катя будет?
– Ага! – весело кричит Мишка. – Мы будем петь и смеяться, как дети!
Такой уж этот Мишка заводной, кто тут сможет отказать, да еще и Катя будет. Буквально безвыходное положение. Правда же?
Потом позвонил Герман из партии выдемборцев и тоже пригласил:
– У нас, – говорит таинственно, – завтра будет в Зеленогорске
– Пьянка! – радостно заключил я.
– О! – кричит Герман. – Молодец! Пармен, он у нас молодец!
– А вы думали, я девица? – говорю я.
– Ну так как, поедешь?
– А Варька будет? – спрашиваю.
– А как же!
Ну и опять-таки, кто ж тут откажется.
Бабушка по итогам подслушанного выходит ко мне и говорит, качая головой:
– Все-таки ты у нас дурак. Как же ты поедешь и туда, и туда? Это же через Залив.
– Какая, – усмехаюсь я, – ты все-таки, однако! Ну и через Залив. Там же небось и доплыть недалеко.
– Да как тебе сказать, – хихикает бабушка. – Оно, конечно, можно и доплыть, хе-хе. Ха-ха.
Меня просто зло взяло, чего она хихикает? Утащил я из коварной мсти со стола бутерброд с колбасой, да и побежал к дыбороссам. У меня целые выходные были, вот я и побежал. Я-то думал, как все будет? А как все вышло? Я так и не думал, как все вышло. Совсем даже не думал, а то бы так не вышло!
Может, это и хорошо, что я не думал.
А то бы ведь небось и не вышло.
9
Стрельна – это такое специальное место, где лучше всего видно, как хорошо было при старом (очень старом) режиме, и как плохо стало при коммунистах. А также, если кому угодно: как много в Питере и окрестностях всякого красивого, на что надо выделить деньги и немедленно их украсть.
Вот там дыбороссы единого кандидата выдвигать и собрались. Подъезжаю к платформе, выскакиваю, вижу: уже все стоят, Александра Александровна, полная дама с усиками, которая меня в партию принимала, вся от жары колышется, и Мишка рядом пляшет, и Катя стоит все как на блюдечке, а хвостик пушистый над головой и за головой светится в лучах.
Мишка первым делом, как меня увидел, ехидно кричит:
– Ну чего, лучший кобель города, отпустила тебя жена?
Наверное, у меня страшные глаза стали, а я ведь амбал, как я уже докладывал. Мишка испугался и кричит:
– Тихо! Спокойно. Просто Питер маленький город.
– Питер маленький? – кричу. – Нихренаська!
Александра Александровна прогудела примирительно:
– Это только кажется, что он большой, а на самом деле его можно весь уместить в одном кармане.
Мишка набрал воздуху и громко крикнул:
– Что этот тип и делает!
Кого он имел в виду, я, честно говоря, не понял. Но тот, кого Мишка имел в виду, видать, понял все отлично, потому что стояли мы под деревом, и на Мишку тут же сверху, подломившись, рухнул огромный сук прямо с цветами и неясно какими плодами. Мишка еле-еле успел отскочить.
– Живая иллюстрация произвола и тирании властей! – высказался он мрачно. – Видали?
– Да ну, – хмыкнула Катя, – тоже мне.
И закурила.
Клуб, в котором мы устраивали общее собрание, находился где-то на окраине этой самой Стрельны, и туда пришлось долго идти по заброшенным садам вдоль моря. Крапива цвела, иван-чай рассыпал лепестки по огромным матерым лопухам. Тропинка была так тепла, что все мы сняли обувь и пошли босиком. Катя шла впереди меня, и я шел, словно по воздуху; море стояло абсолютно гладкое, как пруд, на нем было ни тени, ни маленькой волны, только изредка валялись тут и там ржавые консервные банки да на привязи застыли невзрачные лодочки.
– Скажите, – спросил я сразу всех, – а далеко ли до Зеленогорска?
– А зачем тебе? – насторожилась Катя. – Сан Саныч, зачем ему?
Александра Александровна успокоила ее:
– Да ты что, не может быть, чтобы он знал про выдемборцев.
– Кто такие выдемборцы? – поинтересовался я.
– Жуткие люди! – возгласил Мишка, забежал впереди меня (а шли мы довольно чинно), и стал изображать. – Главарь у них Пармен, – тут Мишка закатил глаза и сложил ручки, – он толкает речи на три часа, как Фидель, пьет как сапожник, а недавно, – Мишка прыснул, – он украл мороженое!..
– Ну, он роздал его избирателям, – ради справедливости пояснила Александра Александровна. – Понимаешь, Егор, у них сегодня тоже собрание. Только в Зеленогорске. И Катя, дурочка, испугалась, что ты собираешься нас с ними помирить.
– Это абсолютно невозможно, – строго сказала Катя.
– Вот еще! – фыркнул я. – Очень мне надо кого-то там мирить! Да я их и знать не знаю!
И я для обострения кровожадности сорвал голыми руками охапку зрелой мучнистой крапивы. Слева сквозь жирную зелень виднелись разваленные посеревшие дворцы, и сады, заросшие снытью, и остатки фонтанов – кубик на кубике.
Наконец, мы пришли. Клуб оказался огромным голубым сараем с рюшками. Краска на нем местами облупилась, но крыльцо было новое, а над крыльцом было написано по-русски: "Мерри Крисмас!"
– Очень актуально, в июле-то, – прыснула Катя.
– С Рождеством, любезные мои конфиденты! – крикнул Мишка.
Вишь культурный какой, подумал я с неприязнью. Мне-то все эти исторические подробности под страшной тайной рассказывали, по капельке выжимали и в воде разводили. А эти, питерские, небось, хлебают культуру в немереных дозах, и хлебом не заедают! А Мишка вообще выпендривался. Мы все нормально на крыльцо зашли, а он разбежался и прямо на перила заскакнул и на них на голову встал, столбиком, да так, что они треснули.
На этот звук выбежал представитель местной партийной элиты. По нему было видно, что выбирать единого кандидата начали без нас.
– А-а! – радушно приветствовал он нас. – Давайте скорее, а то мы все вы... выберем!
– Без нас нельзя, – добродушно пожурила его Александра Александровна, закрутила ус и стала пробираться в дверь. За ней повалили и мы.
Сначала мне показалось, что внутри полный мрак – так светло и хорошо было снаружи. Однако потом глаза привыкли к темноте, и я понял, что где-то под сценой даже горит лампочка. Потом я увидел и саму сцену. Сцена была разломана на дощечки; где-то посередке торчал дохлый микрофон, сзади виднелся рояль с гнилыми зубами и прилипшей папиросой в углу рта. Он явно не знал ничего, кроме "Собачьего вальса" и, может быть, "Мурки". В самом зале, среди битых стульев и трухлявых пюпитров, сидели на корточках кандидаты и простые члены партии. Все они были веселы. Посередке на бывшем контрабасе стояли вина и закуски.